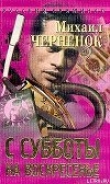Текст книги "Мамины субботы"
Автор книги: Хаим Граде
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
Из бокового кармана брюк Миша вынимает красивый вышитый мешочек из бархата, а из него – целую коллекцию узбекских тюбетеек, шестиугольных, четырехугольных и круглых, с плотной подкладкой и красочной восточной вышивкой по краям.
– Тюбетейки я собираю для своего мальчика, – бормочет он в некотором смущении. Он говорит, что часто не может вспомнить, как выглядит его сын. Наверное, потому, что, когда Миша покинул Лодзь, тот был еще малышом, а маленького ребенка трудно запомнить. Тройман слышал от людей, что, когда с человеком происходит несчастье, изменяются и его фотографии. Лицо на них мертвеет и желтеет, как у самого покойника. Он, Миша, в это не верит и все-таки завидует одному своему другу беженцу, у которого есть фото жены и двух дочек. Этот друг сказал Мише, что поставил снимок у себя на столике, и, когда он уходит из дома, ему кажется, что в его сталинабадской комнатенке его дожидаются жена и дочери.
– Вот я и собираю для сына эти шапочки, я смотрю на них, как на фотографию. – Миша сжимает свои тюбетейки и стремительно выходит из парка, чтобы я ничего не успел сказать про его мечты.
Деревья в парке, которые ранней осенью были красными, словно кожа больного скарлатиной, теперь пожелтели, и ветер несет ворохи листьев, как поток – тушки упавших и утонувших птиц. По ночам небо еще чистое, темно-синее, и звезды большие, как раскрывшиеся пылающие цветы. Однажды ночью я вижу, что огромную круглую луну цвета желтого золота понемногу затягивают тучи. Небо больше не проясняется. Начинаются дожди поздней осени. День и ночь без перерыва льет как из ведра, пока вся нанесенная из пустыни пыль, все опавшие листья и серая песчаная почва не превращаются в болото.
Я живу в тесной комнатушке вместе с хозяйкой и ее двенадцатилетним сыном. Эта женщина пустила меня, потому что ее часто не бывает дома по несколько дней в неделю. Она шофер, водит большой грузовик и возит в городские магазины продукты из окрестных колхозов. Даже когда хозяйка дома, она редко разговаривает со мной. Еще реже она разговаривает с сыном, которого родила от бросившего ее мужа. Вместо слов мать угощает мальчика своим мужским кулаком в лицо. У нее переломанный нос с широкими, похожими на собачьи уши ноздрями. По ночам она принимает мужчин и совсем не считается с тем, что я и ее сын-подросток спим в той же комнате. Даже ее любовники на одну ночь не так отвратительны и грубы, как она сама. Пока хозяйка не напаивает их допьяна, они стесняются раздеваться при мне и мальчике. Я лежу на своей кровати лицом к стене, и меня тошнит от отвращения.
Но с тех пор как зарядили осенние дожди, ночные гулянки квартирной хозяйки меня больше не волнуют. Я думаю только о том, как утром добраться до города и вечером вернуться домой. Мои ботинки совсем развалились, а район, в котором я живу, – это узкая долина, битком набитая халупами, разлом в земле, затопленный грязью. Поздним вечером я вынужден блуждать в полной тьме. Электрического освещения на улице нет. Местные жители закрывают окна ставнями, словно им жалко, что отблеск их керосиновых ламп просочится наружу. Но самый неприятный момент наступает, когда я уже добираюсь до своей конуры и хозяйка видит, как я вхожу в ее дом в мокрых и грязных ботинках.
Я больше не думаю о войне, о том, как бы поесть, даже о маме и Фруме-Либче не думаю. Моя единственная мечта – пара ботинок. Я чувствую, как грязь, налипшая между пальцев ног и затопившая пятки, перекидывается мне на спину. Вот она залезает мне под мышки, ползет на шею и затылок, обтекает волосы, брови, забирается в уши, ноздри, проникает между зубов, между ресниц… Я чувствую, что схожу с ума.
Днем я слоняюсь по тротуару на Ленинской или становлюсь под тот навес, где была сапожная артель бухарских евреев, и слежу за прохожими. Я не смотрю на лица, не смотрю на одежду. Я смотрю только на обувь. Вот идет пара женских ножек в высоких резиновых сапогах: ах, как они блестят, эти сапожки, словно их покрыли лаком минуту назад! Другая пара женских ног обута в суконные боты с пуговками на боку. Потом проходят прямые, стройные мужские ноги, цокая подковами на каблуках, и брючины, заправленные в жесткие шнурованные башмаки из кожи. А вот еще пара стройных мужских ног в высоких сапогах с глубокими калошами. И сапоги, и калоши! Я замечаю ноги, обмотанные промокшими тряпками, еще более жалкие, чем мои, и эти ноги останавливаются рядом. Я поднимаю глаза и вижу Янкла Грота, беженца из Волыни. Лицо у него тоже мокрое и одутловатое, как перезрелый огурец.
– Вы еще торгуете папиросами? – спрашиваю я.
– Как я могу в такую погоду торговать на рынке папиросами? Ведь дождь намочит их. – Он удивленно смотрит на меня. Кроме того, говорит он, его тут арестовали и судили за спекуляцию табаком. На суде Янкл Грот заявил, что не спекулирует. Просто берет немного дороже за гильзы и свою работу – за то, что набивает папиросы. На первый раз его отпустили и велели больше не торговать.
– Отпустили?
– Да, судьей была еврейка, она освободила меня, – говорит Янкл Грот.
Я знаю ее, эту еврейку, знаю суд на Ленинской и часто вижу, как она проходит мимо. Она носит низкие боты с меховой опушкой вдоль пуговок и по краям. Это высокая полноватая еврейка с умными добрыми черными глазами, молодыми и блестящими. Но, когда она идет мимо, насупив брови, она выглядит намного старше и строже.
– А где вы ночуете?
– В суде, – отвечает Янкл Грот. Женщина-судья, объясняет он, после суда говорила с ним с глазу на глаз и жаловалась, что беженцы нелегально переходят границу. На мелочи, сказала, она смотрит сквозь пальцы, но более крупные преступления не может и не хочет прощать. Еврейка спросила, где он ночует, и, когда Янкл Грот ответил, что вынужден скитаться и ночевать то там, то тут, разрешила приходить на ночь в здание суда, только чтобы никто не видел, как он входит и выходит.
– Товарищ Грот, сделайте одолжение, познакомьте меня с судьей! – Я хватаю его за руку. – Может быть, она и меня пустит ночевать в суд. Пусть на жесткой скамейке, пусть на полу, лишь бы не тащиться по грязище к этой ведьме с переломанным носом.
– Теперь не могу, – тяжело вздыхая, отвечает Янкл Грот. Раз-другой он взял с собой на ночлег пару беженцев. Кончилось это тем, что из суда украли занавески, зеленые скатерти со столов и даже стулья. Может быть, это и не беженцы, но когда женщина-судья узнала, она схватилась за голову. Янклу Гроту грозит серьезное наказание, и его благодетельница мобилизовала всю милицию, чтобы воров нашли и Грота не сослали в лагерь за эту кражу.
– Хорошо сделал Оренштейн, что уехал из Сталинабада, – громко, вслух говорю я себе самому. – В Самарканде или Бухаре ему, наверное, не так тошно живется.
– Оренштейн, адвокат Оренштейн? – Янкл Грот смотрит на меня своими тихими глазами, раздумывая, говорить или нет. – Разве вы не знаете, что варшавский адвокат Оренштейн умер?
– Умер?
– Недавно. – Янкл Грот дрожит от холода и сырости. – В Самарканде и Бухаре он устроиться не смог, поэтому уехал в один узбекский колхоз, там и умер. Мне рассказал об этом беженец, который прибыл из Ташкента.
То, что беженцы умирают от дизентерии, холеры или малярии, для меня не новость. Но Оренштейна я знаю еще по Вильне и Ташкенту, и неполных два месяца назад мы еще шлялись с ним по местному рынку. Я стою, онемев, раздавленный известием о его смерти. Стоило бежать из Варшавы в Вильну, а из Вильны – аж в Среднюю Азию, чтобы умереть в полудиком узбекском кишлаке! Если бы Оренштейн заранее знал, что его ждет, он сразу лег бы под Варшавой на дорогу, чтобы немецкие войска перешагнули через него. Знай он все заранее, он, как Иов, не захотел бы покидать материнское чрево.
– Меня огорчает то, что я читал ему нотации, посылал работать. – Янкл Грот кутается в свои промокшие тряпки. – В последнее время я не мог давать ему каждую неделю по три рубля, потому что сам потерял заработок. Если бы он заболел здесь, в Сталинабаде, мы бы пошли к нему в больницу и, может быть, спасли его. Как вы думаете?
– Не знаю, – отвечаю я, и у меня щемит сердце, ведь незадолго до отъезда Оренштейна я перестал общаться с ним, потому что мне не нравилась его наглость. – Не знаю, спасли бы мы Оренштейна или нет, но мы были бы на его похоронах. С тех пор, как я покинул дом, мне кажется, что самое страшное – закрыть глаза и знать, что никто из окружающих тебя чужаков не будет сожалеть о твоей смерти и не запомнит даже имени того, кого похоронили у них на глазах.
Тихий взгляд Янкла Грота упрекает меня за отчаяние, Грот всегда смотрит на беженцев с упреком.
– Иногда я думаю, что в выражении отчаяния тоже есть своя сладость, – улыбается Янкл Грот и волочет прочь свои промокшие ноги. Я снова начинаю рассматривать обувь прохожих и вижу пару костылей, которые весело стучат по тротуару, словно издеваясь над завернутыми в тряпки ногами Янкла Грота и моими ботинками. Инвалиду хорошо, он не боится промочить и испачкать свои деревянные ходули.
Миша Тройман
I
В Сталинабаде весна. Деревья усыпаны цветами, и запах жасмина пьянит, как вино. Миша Тройман вдруг заявил мне, что больше не надеется увидеть жену и ребенка и что он влюбился в русскую девушку. Ее зовут Лидия. Это та самая шикса, Миша знаком с ней с тех пор, как он в Сталинабаде. Невестка Миши, вышедшая из больницы после тифа с обритой головой, как-то остановила меня на улице и сказала, что ее деверь нарочно убедил себя в гибели жены и сына, чтобы иметь возможность крутить роман со своей пассией. Он собирается жениться, расписаться с ней в ЗАГСе.
– Почему он не может крутить роман без женитьбы? – спросил я. – У многих беженцев тут есть любовницы, но они не собираются брать их в жены и не теряют надежды вернуться домой к своим семьям.
– Такой уж он человек, мой деверь. Он может быть мужем, но не может быть любовником. – И невестка Троймана рассказала, что Миша тратит на эту шиксу все свои деньги. Он шьет ей платья, платит за ее комнату, водит ее в винные погребки и устраивает у нее дома вечеринки для нее и подруг, а им, жене брата и собственному племяннику, больше не помогает. Он даже перестал отправлять посылки родному брату в тюрьму.
– Прошу вас, поговорите с Мишей, – скорее кричала, чем просила она. – Скажите ему, что в шиксах в Сталинабаде нет нехватки, а брат у него только один. И этот брат в тюрьме, а невестка недавно вышла из больницы.
Полдень. В городском парке, который всю зиму был закрыт, проходит репетиция оркестра, приготовившего к началу сезона новую программу с певцами и танцорами. Беженцы счастливы, что открыли парк. Им больше некуда пойти, они сидят здесь, беседуют и смотрят репетицию программы. Но мне ужимки эстрадных артистов действуют на нервы. Я хожу туда-сюда по Ленинской, у ворот городского парка. Прохожие на улице слышат марши, танцевальную музыку в исполнении оркестра, улыбаются и подчиняются ритму, начинают идти в такт доносящимся звукам. Вдруг, словно едут пожарные или карета «скорой помощи», раздается характерный свист, приказывающий пешеходам и телегам остановиться.
На Ленинской появляется партия арестантов, со всех четырех сторон окруженная милиционерами, в основном таджиками. У конвоиров винтовки наизготовку и жестяные свистки. В центре замкнутого четырехугольника идут арестанты в пять-шесть рядов по четверо в каждом. Под мышкой у них свертки белья, как будто их ведут в баню. Они идут медленно, равнодушно, с отупевшими лицами. Поскольку их конвоируют пешком среди бела дня, а не везут ночью в закрытых автомобилях, становится ясно, что это не очень серьезные преступники, а осужденные за мелкие кражи, хулиганство и болтовню. Но милиционеры поднимают такой безумный свист, словно ведут каторжников, которые в любую минуту могут разорвать цепи и совершить побег. На углах останавливаются автомобили, на тротуарах замирают прохожие, воцаряется мертвая тишина. Слышно только, как в парке играет оркестр, тяжело ступают милиционеры и переставляют усталые ноги арестанты.
Но какой-то пьяный русский игнорирует приказ остановиться. Он, пошатываясь, бредет по тротуару и разговаривает с арестанткой, несущей под мышкой сложенное одеяло. Она идет у самого тротуара, последней в ряду.
– Валентин безобразничает. – Языком, как и ногами, пьяный ворочает с трудом. – Не хочет, паршивец, учиться.
– Врежь ему, – небрежно говорит арестантка с одеялом под мышкой. – Ты отец, вот и воспитывай своих детей. Проследи, чтобы Люба не шлялась с парнями все дни напролет.
– Не говорить! – приказывает с напевом таджикский милиционер, шагающий между собеседниками.
– Наш сосед тоже хорош, – продолжает русский. – Он мне заявляет: «Ты, Тимофей Васильевич, теперь один с двумя детьми в большой комнате, а я с пятью в маленькой. Ты должен со мной поменяться». Вот ведь прохвост!
– Скажи, ему, Тимофей, что через два года я вернусь, выцарапаю ему глаза и повыбиваю зубы, – спокойно отвечает арестантка.
– Сказано же: «Не говорить!» – снова вмешивается таджикский милиционер.
Русский остается стоять на тротуаре, он шатается и потирает ладонью лицо, словно пытаясь протрезветь. Потом замечает у ног недокуренную папиросу, осторожно, чтобы не упасть, наклоняется, подбирает ее, сжимает зубами и медленно распрямляется. Но партия арестантов уже ушла вперед, и даже его жена не поворачивает головы, чтобы посмотреть на мужа. Пьяный стоит, расставив ноги, смотрит издалека на колонну осужденных, качает головой и ругается по матушке: так вашу растак!
По Ленинской идет Миша Тройман. Он подходит ко мне и взволнованно сообщает, что едва не попался сегодня на рынке с левым товаром, который вынес из своей швейной мастерской. Договариваясь в сторонке с перекупщиком, Миша заметил, что какой-то гражданский за ними следит. Перекупщик посмеялся над Мишиными страхами – он-то инвалид, ему нечего бояться, а вот Миша малость струсил.
– Миша, вы играете с огнем. – Я оглядываюсь по сторонам. – Здесь только что провели арестантов. Видели бы вы, на что они похожи. Осенью вы говорили, что воруете ради больной невестки, которая лежит в больнице, ради племянника и попавшего в тюрьму брата. Но я знаю, что вы им больше не помогаете, тем не менее вы продолжаете воровать.
– Откуда вы знаете, что я им больше не помогаю? Понимаю! Невестка донесла. Она угрожала мне, что расскажет всем моим друзьям, что я забыл своих родных из-за шиксы.
Миша кипит, бурлит и говорит еще быстрее, резче и колоритнее, чем обычно: невестку не волновало то, что он выносит товар из мастерской, до тех пор, пока заработки отдавались ей, но, как только он решил, что и самому ему не грех пожить на свете, она принялась стращать его, что его поймают. Этого Миша ей никогда не простит! Не простит он невестке и то, что, стремясь разлучить их с Лидией, она внушает Мише, что его жена и сынишка в Лодзи живы и мучаются, пока он тут гуляет с шиксой.
– Окажите мне услугу, – просит Миша, и его лицо пылает. – Купите три билета за мой счет в Ленинградский театр комедии: два для меня с Лидией, один для себя. Мы пойдем втроем. Кассу открывают вечером, а я в это время работаю, поэтому без вашей помощи не обойтись.
Я обещаю купить билеты. С красными пятнами на лице от еще не утихшего гнева на невестку Миша рассказывает, что Лидия в самом начале войны потеряла жениха и до сих пор очень по нему грустит. Мише нравится ее преданность погибшему жениху, но он хочет развеселить Лидию. А поскольку она любит театр, послезавтра они идут в местный Русский драматический, и еще Миша обещал сводить ее в Ленинградский театр комедии, бежавший из-за войны в Сталинабад и расположившийся здесь в здании таджикской оперы.
Нас останавливает высокий еврей с окладистой рыжей бородой, в потрепанном халате и больших искривленных башмаках. Это набожный еврей-хасид из какого-то местечка в Польше, некогда сосланный с женой и детьми «на поселение». После того как его освободили, он скитался с родными по Сибири и Средней Азии и по дороге похоронил троих детей. Прошлой зимой он добрался до Сталинабада и теперь живет здесь подаянием.
– Помнится, я видел вас за молитвой. – Он протягивает руку между мной и Мишей. – Для себя самого я ничего не прошу у неба, но, когда я прошу для других, я знаю, что моя молитва будет услышана.
Миша дает ему пятерку. Я тоже даю ему пару рублей, и хасид с глубокой серьезностью начинает делать пассы у нас над головами, желая нам удостоиться увидеть свои семьи.
– Я вас несколько раз просил не напоминать мне о семье. Я больше ни копейки не дам, если вы опять о ней заикнетесь, – выходит из себя Миша и снова начинает пересыпать свою речь лодзинскими словечками. Он рабочий человек, ему нет дела ни до цитат из Священного Писания, ни до благословений. А особенно ему плевать на отличия между евреями и неевреями.
– Не надо отчаиваться, – вздыхает еврей с окладистой рыжей бородой и идет прочь. Он не хочет пускаться с Мишей в спор и терять жертвователя.
– Лживый еврей, он сам не верит в то, что говорит. Ну кого мы удостоимся увидеть? – гневно выпаливает Миша и еще раз напоминает мне о ленинградском театре. Он просит ждать его на Ленинской послезавтра вечером, когда они с Лидией выйдут из местного Русского театра. Ему важно знать, достал ли я билеты, и если достал, то на какой день и какой спектакль. Кроме того, Миша хочет познакомить меня со своей подругой, тогда я сам увижу, что она деликатная, умная и преданная, а не просто шикса, которая хочет его использовать, как наговаривает на Лидию невестка.
II
В Ленинградском театре комедии ожидалась премьера: «Ленинградская блокада». Я купил три билета, на Мишу с девушкой и себя. В фойе театра было пусто, прохладно и тихо. Открыто было только маленькое окошко кассы, такое узкое, что я не видел лица кассира. Когда я договорился с ним и подал в окошко деньги, оттуда с билетами высунулись две руки, худые, морщинистые, с длинными беспокойными и голодными пальцами, которые двигались сами по себе и жили собственной жизнью, как оторванные ножки пауков.
После того, что случилось позже, в конце дня, я часто думал, что, может быть, эти руки в окошке кассы и не вызвали у меня никакого предчувствия, просто я убедил себя потом, что пальцы кассира внушили мне страх и отвращение. Но я точно помню, что всунул голову в узкое окошко, чтобы посмотреть на того, кто там сидит, настолько при виде его рук мне стало неуютно. Я помню, что взглянул на кассира и еще больше удивился. У него была большая круглая голова, большие круглые очки и круглое лицо. Его глаз я не видел, потому что он опустил их и смотрел в книгу, которую читал. Руки тоже были опущены. Я подумал, что у человека с такой головой, лицом и плечами не может быть подобных пальцев. Тут у меня мелькнула безумная мысль, я даже вздрогнул: кассир притворяется читающим, чтобы я не догадался, что он высунул ко мне чужие, приставные руки… Но я тут же понял, что это бред, и отошел от окошка прежде, чем он успел поднять глаза. И все-таки на обратном пути из ленинградского театра мне снова показалось, что на раскаленном добела песке шевелится длинная тень злых пальцев кассира.
Мой день прошел, как обычно: я ходил по базару в ожидании часа, когда откроют кухню и я получу тарелку черной лапши, а потом целый вечер сидел в городском парке. Около полуночи я отправился на Ленинскую к Сталинабадскому русскому театру встречать Мишу и его девушку. Я столкнулся с ними на широких ступенях здания. Спектакль только что закончился, и они вышли первыми, зная, что я их жду. Миша познакомил меня со своей подругой. Лидия оказалась высокой, выше Троймана на целую голову. У нее были светлые волосы, гладко зачесанные назад, мягкая походка и усталая улыбка. Мне показалось, что она делает над собой усилие, что быть с Мишей ласковой. То ли не любит его, то ли действительно грустит по погибшему жениху, как говорил мне Тройман. Миша вел Лидию под руку и преданно заглядывал ей в глаза. Я сказал, что достал три билета в ленинградский театр на премьеру «Ленинградской блокады», на четырнадцатое апреля.
– Сегодня двадцать седьмое марта, а билеты на четырнадцатое апреля? – громко смеется Миша. – Да к этому времени я могу оказаться в рабочем батальоне на Урале. Я сегодня снова получил повестку и послезавтра должен явиться в военкомат.
По улицам Сталинабада часто проходят толпы таджиков, покачивая взваленными на плечи тяжелыми мешками. Они похожи на нагруженных верблюдов, идущих по глубокому песку. Этих пожилых людей отправляют в трудовые батальоны на север, вместо русских, которые ушли на фронт. О таджиках рассказывают, что они не выдерживают сибирского климата и тяжкого труда и мрут на севере как мухи. «У них кость мягкая», – говорят русские. Беженцы тоже служат в рабочих батальонах. Так как они не получили советского воспитания, их в Красную Армию не берут. Мишу уже несколько раз вызывали в военкомат, но всегда отпускали.
– Тебя и на этот раз отпустят, – утешает его Лидия. – Такого работника, как ты, у них в мастерской больше нет. Начальство за тебя заступится.
– До сих пор меня не волновало то, что я могу попасть в строительный батальон, но теперь я не хотел бы уезжать из Сталинабада. – Так Миша дает понять Лидии, что любит ее. – И все-таки билеты лучше держите у себя. – Он снова смеется мне в глаза своим деланным смехом. – Если меня мобилизуют, пойдете четырнадцатого апреля с Лидочкой и ее подругой.
– Милый мой мальчик! – Лидия гладит Мишу по лицу.
Я вижу, что парочка слишком занята собой, и отворачиваюсь. Буду смотреть на публику, выходящую из театра. Но люди еще далеко от нас, у городского парка. По пустому тротуару за нами прыгает карлик-инвалид – голова и половина безногого тела. В городе сухо, и вместо костылей он использует руки, проворно опирается на них и движется тихо, словно подкрадываясь. Я уступаю ему дорогу, а Миша и Лидия, в обнимку идущие впереди, не замечают его. Калека, привыкший к тому, что его видят и пропускают, быстро добирается до ног парочки, правой рукой отпихивает Мишу, левой – Лидию и проскальзывает между ними. Слышится испуганный крик Лидии. Инвалид поворачивает голову, смеется, обнажая белые, чуть ли не сверкающие в темноте зубы, и катится вперед, не говоря ни слова, словно своим молчанием хочет нагнать еще больше страху.
– Чего ты так испугалась, Лидочка? Разве тебе в новинку инвалиды? – успокаивает ее Миша.
– Он выскочил так неожиданно, – слабым голосом отвечает Лидия. – Мне показалось, что катится одна голова без тела.
Мы пошли быстрее и через пару минут оказались на деревянном мостике на углу, где Ленинскую пересекала другая улица. Ехал большой грузовик. Мы остановились подождать, пока он проедет. Ближе всех к грузовику был я, Лидия стояла в середине, а позади нее – Миша.
Вдруг машина, вместо того чтобы держаться середины моста, заехала своим темным передом на тротуар – и я взмыл в воздух, как на качелях, легко взлетел и тяжело упал. Ударил правое колено, но сразу же вскочил. «Неужели жив?!» – подумал я со странным спокойствием. Правая брючина была разорвана, из ноги сочилась кровь, но, не считая этого, я был цел и в сознании. Даже успел увидеть заднюю часть большого грузовика, который крутило и мотало от бордюра к бордюру, пока водитель не справился с рулем и не сбежал. Я обернулся на деревянный мостик, где минуту назад стояли Лидия и Миша, – их там не было. Я поискал глазами и увидел, что они лежат на мостовой, далеко отброшенные друг от друга.
Лидия лежала на спине с закрытыми глазами и не дышала. Я стал ее трясти, но она была бесчувственна, как кусок дерева. Потом я подбежал к Мише – он свернулся в клубок и стонал: «Лидия, Лидия»… Я окликнул его и попытался поставить на ноги, но он заорал от боли.
– Ой, не могу! Он переломал мне кости! – И Миша замолк.
Показались люди, шедшие из театра далеко позади нас. Они увидели Лидию, окружили, заглянули ей в лицо и стали поднимать. Кто-то наклонился к Мише, но тут же отступил назад.
– Помогите! – закричал я и поднял Мишу на плечи. Он снова пришел в себя и обхватил мою шею, чтобы не упасть. Внезапно к нему вернулся дар речи, и он заговорил громко и быстро.
– Я работаю в мастерской НКВД, в швейной мастерской НКВД, я должен закончить пальто для комиссара, для народного комиссара из совнаркома, – униженно уверял он, видимо, рассчитывая, что его связи обеспечат ему любовь прохожих. Увидев, что никто не протягивает ему руку помощи и я единственный тащу его на плечах, Миша несколько раз порывисто поцеловал меня в голову: его кровь текла по моему лицу, ушам, пальто, а он все целовал меня горячими и липкими губами. К нам подошел молодой человек с бледным костлявым лицом, без шапки, с растрепанными волосами, в пальто с поднятым воротником.
– Несите его в больницу, в республиканскую, это в трех шагах отсюда. – Он указал на тот переулок, где скрылся грузовик. – Давайте поможем девушке, она не окровавлена, – обратился он к окружающим.
Прохожие, которые все время молчали и стояли, как каменные, словно не в силах повернуться и уйти, теперь направились с молодым человеком к Лидии.
– Лидия, Лидия, она жива? – восклицал на моих плечах Миша. – Помогите ей, люди, помогите ей!
Я не знаю, как добрался до больницы, откуда взял силы донести раненого Троймана, который всю дорогу скрипел зубами, чтобы не кричать от боли. Дотащившись до республиканской, я так сильно рванул колокольчик у ворот, что внутри сразу началась беготня. Ворота открылись, и я увидел охранников. Чьи-то руки сняли с моих плеч Мишу, кто-то ввел меня в канцелярию и велел ждать дежурного врача.
Я долго сидел в комнате один-одинешенек, отупев, оцепенев и тяжело дыша, но дежурный врач не появлялся. Наконец я услышал медленные шаги. Я поспешно отер с лица Мишину кровь и закрыл полой пальто разорванную на колене брючину. Колено больше не кровоточило.
В комнату вошла молодая женщина, на вид не старше двадцати двух – двадцати трех лет, с густыми блестящими черными волосами, полными сочными губами, засученными рукавами, открывавшими пару ослепительнобелых рук, в белоснежном халате, который только усиливал ее темноволосое обаяние. Она дружелюбно взглянула на меня, но ничего не сказала. Медсестра, подумал я, глядя, как она берет телефонную трубку и разговаривает, сияя и немного смущаясь. В первую минуту я был уверен, что медсестра говорит с родителями или возлюбленным, но я тут же услышал что-то про сломанные ребра и разорванные сосуды. Она с кем-то советовалась и слушала ответ с воодушевлением и улыбкой любопытства. Лишь изредка она перерывала речь собеседника словами: «Неужели? Так что же мне делать?»… Я еле дождался, когда она закончит разговор и положит трубку на рычаг.
– Я принес раненого и жду дежурного врача, – сказал я, вставая.
– Я дежурный врач, – ответила она. – Я уже осмотрела этого больного и сейчас буду делать операцию.
– Ему нужна операция? А хирурга при этом не будет?
– Я хирург.
Ее молодое сияющее лицо, улыбка и телефонные вопросы невидимому консультанту, что ей делать, взволновали меня. Я решил, что Мишина операция требует присутствия опытного хирурга. И стал злобно и дико кричать, что не позволю ей оперировать этого раненого. «Он работает в мастерской НКВД», – повторял я как в бреду жалкие речи Миши о его связях.
– Другого врача этой ночью не будет. Если хотите, можете забрать больного. – Хорошенькая докторша стала куском холодного белого мрамора. Увидев, что заставила меня замолчать, она тихо, спокойно и властно добавила:
– Хотите увидеть больного перед операцией?
– Он в опасности? Это серьезно? – Я совсем сломался. Мне показалось, что она предлагает с ним проститься.
Докторша не ответила. Она вышла из комнаты, и я поплелся за ней, как приговоренный. У закрытой двери она жестом пригласила меня внутрь, а сама ушла. В большой и пустой полутемной комнате стояла длинная и узкая кровать на колесиках, в которой лежал Миша Тройман, по шею укрытый простыней. Голову его тоже закрывали бинты. Видны были только ввалившиеся глаза и нос, ставший длиннее и острее. Миша узнал меня и заговорил ясным, но каким-то пустым голосом, похожим на ветер, свистящий в ржавых трубах:
– Заберите часы у меня из жилетного кармана, тут они могут пропасть. Пойдите к моей невестке, скажите, пусть придет. Я не выживу.
– Вы будете жить, Миша, будете. – Я трясущимися руками рылся в его одежде, висящей рядом на стуле, пока не нашел жилетный карман. – К невестке я схожу, вы выживете, вы просто ранены.
– А что будет с тюбетейками, которые я собирал для сына? – Голос Миши сорвался, и он начал хрипеть. – Я не верил, что мой мальчик жив, потому что забыл, как он выглядит. Теперь он стоит у меня перед глазами живой… Я чувствую, что не выживу, что умру!
– Вы будете, будете жить, я уже иду к вашей невестке, вы будете жить! – И я выбежал из комнаты, из больницы, со двора и помчался по темным вымершим улицам к Мишиной невестке. Каждую пару минут я останавливался: Боже, как я ей скажу? Боже, она ведь умрет от страха! И я несся дальше, и все время моего бега мне казалось, что я пинаю голову и половину безногого тела того калеки, которого мы сегодня встретили. Голова повисла на моих ногах, кусала колени и скалила белые зубы: «Он умрет, умрет, умрет!» В ответ я пинал эту голову в лицо: «Он выживет, выживет, выживет!» Только бы невестка не умерла от страха, когда я ей скажу, что на Мишу наехал грузовик…
Невестка Миши не умерла от страха; умер Миша Тройман в ту же ночь во время операции, и мы похоронили его на кладбище бухарских евреев, где в половине могил уже покоились беженцы из Польши. Евреи говорили мне, да я и сам это знал, что я должен сказать благословение спасшегося от смерти. Со мной случилось чудо. Но меня это не успокаивало. Я все время ходил и спрашивал русских знакомых: почему люди, возвращавшиеся из театра, не помогли отнести Мишу в больницу? В ответ на мой глуповатый вопрос знакомые пожимали плечами и в один голос объясняли: люди, возвращавшиеся из театра, не хотели измазать кровью свои единственные праздничные костюмы. Этому есть подтверждение: прохожие отвели домой девушку, которая не была окровавлена, но страдала от контузии. А того молодого человека, который указал мне путь в больницу, русские назвали подлецом, потому что он актер сталинабадского театра, а у актеров костюмов тьма.
Еще я хотел знать, не виновата ли в смерти Миши та врачиха с беленькими ручками, которая оперировала его? И почему за все время этого трагического происшествия так и не появился милиционер? Почему по сей день не отыскали и не арестовали того шофера-убийцу?
– Не знаем, – мрачно отвечали мои русские друзья. – Не мучай ни себя, ни других. Живи, пока живешь.