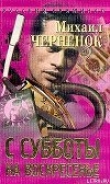Текст книги "Мамины субботы"
Автор книги: Хаим Граде
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
Родители и дети
Я протираю глаза со сна и вижу, что я в какой-то роще и что время уже послеполуденное. Сквозь густые ветви солнце капает горячо, как смола. Сияет свежая кора белоствольных берез, искрятся, их светло-зеленые кроны. В двух шагах от меня, в тени, лежат мои новые попутчики, минские евреи. Я тут же вспоминаю, что произошло сегодня утром.
Я блуждал по лесу и не знал, куда иду – вперед или назад. Я повернул туда, где сквозь редкие ветви синело небо, и вышел на асфальт шоссе, ведущего из Минска в Москву. Наткнувшись на маленькую группу евреев – беженцев из Минска, я пошел с ними дальше.
Солнце припекало, заставляя нас обливаться потом. Наши шаги тонули в раскаленном асфальте, взрытом и развороченном бомбами. Шоссе было усеяно перевернутыми машинами и телами погибших от пуль и осколков бомб. Один убитый лежал лицом вниз, сжавшись в комок, он словно хотел втиснуться в землю, спрятаться там от обстрела. Другой полусидел, опершись спиной о камень, с восковым лицом и большой желтой, словно опаленной головой без единого волоса. Он таращил выпученные глаза и цеплялся за землю скрюченными пальцами, как будто пытаясь подняться. У обочины, вытянувшись в струнку, лежал третий, накрытый ветками. Наверное, прохожие пожалели его и прикрыли, чтобы он не валялся на дороге под солнцем, а может, какая-нибудь женщина позаботилась о своем муже, сыне или отце.
Мы шли и шли, пока не услышали стальное гудение, предвестник смерти. Высоко в небе треугольником медленно летели девять самолетов. Мы поняли, что эти бомбардировщики с тяжелым грузом охотятся не на нас; мы, горстка пешеходов, слишком мелкая для них жертва. Но кто-то из нашей компании поднял крик, что один из самолетов гонится за нами. Сбитые с толку его воплями, мы сошли с дороги и, согнувшись в три погибели, побежали к лесу. Спрятавшись в гуще ветвей, мы оправились от смертельного испуга и набросились на крикуна: с чего он взял, что самолет целит в нас? Паникер дрожал и плакал, уверяя, что он слышал, как трещит пулемет: тик-тик-тик.
Минчане ругали его и все же посчитали, что, хотя на этот раз тревога ложная, того и гляди случится настоящий налет. Поэтому было решено отдохнуть в лесу, пока не стемнеет, а потом идти в Борисов. Мы зашли поглубже в лес, и минчане растянулись на траве. Я, измотанный дорогой, тоже забился под какой-то куст и проспал до сих пор.
Я подползаю на локтях к минчанам, евреям в узких коротких пиджаках, плоских суконных кепках с жесткими круглыми козырьками и высоких сапогах с немазаными голенищами. Они только вчера бежали из дома, и страх в их глазах еще не поблек. Они смотрят на меня с беспокойством, любопытством и подозрением, как жившие порознь, не знавшие друг друга братья, которые только что встретились и узнали, что они дети одного отца. В моей измятой, запыленной одежде, заросшем лице и каменной немоте они видят собственную судьбу, уже стоящую у них за спиной. Минчане хотят показать мне свою верность Советскому Союзу, и один из них говорит, жестко, на русский манер произнося «р»:
– Как только вы придете в Борисов, вы должны явиться в военкомат и попроситься в Красную Армию. Вы, западные жители, долгие годы были под гнетом польских панов. Так что защищать советскую Родину – ваш первейший долг.
Мои спутники дотянули до последней минуты: когда Минск уже горел со всех сторон и перестали ходить поезда, они бежали без своих семей. Семья среди нас только одна: низенькая, сгорбленная старушка, ее сын, невестка и внук. Молодой человек – именно ему показалось, что за нами гонится самолет, – невысокий, как и его мать. У него большие, испуганные, бегающие глаза. Его жена с длинным мрачным лицом и сутулыми плечами держит на руках малыша, баюкает его и кормит. Но парень не смотрит на своего ребенка, словно ему невдомек, что он отец. При каждом шорохе в лесу, при каждом далеком приглушенном крике или рокоте самолета он пугается и льнет к старой маме, жмется к ней и дрожит, как мальчишка. Жена сидит, опустив глаза, не смотрит ни на кого из нас, будто стыдясь труса мужа, и не разговаривает с ним, только со сдержанным гневом бормочет что-то своей свекрови. Мать тянет сына за рукав и тихо успокаивает его, говорит, что он не должен бояться больше, чем остальные.
– А когда мы вернемся в Минск? – спрашивает он плачущим голосом.
Еврей, убеждавший меня явиться в Борисове в военкомат, с отвращением сплевывает:
– Что же будет, когда вам придется идти на фронт и понюхать пороху?
Перепуганный парень сидит с затуманенными глазами, его лицо сереет, ржавеет, словно он неделями лежал на поле боя и гнил под дождем. Его мать, тощая старуха, тихо стонет, а жена злобно качает ребенка и успокаивает его, хотя младенец и так все время молчит, словно за отца стыдно даже ему.
Солнце садится за деревья. Стволы сияют, словно отлитые из меди. Земля сухая и горячая, воздух раскален, тяжел и удушлив. Хилый ветерок доносит до ноздрей запах смолы, резкий аромат сосен и разогретых лиственных деревьев. Ветви, которые целый день никли к земле, обессиленные жарой, начинают беспокойно шевелить листьями, шептать нам на ухо, что скоро можно будет выбраться из леса. Ночью самолеты слепы. Наша маленькая группа готовится выйти в путь.
Вдруг мы слышим тихие, осторожные шаги, и внезапно роща наполняется людьми. Где-то неподалеку снялся с места целый колхоз. Крестьяне, крестьянки – бабы и молодые девушки – бегут без всякой поклажи. Никто не хочет задержаться ни на миг, чтобы объяснить нам, что случилось. Только какая-то девушка с полными розовыми щеками и русыми волосами говорит громким шепотом, словно опасаясь, что ее услышат деревья:
– Немец идет! Немецкая разведка!
Я вскакиваю и бросаюсь бежать. Умирающее солнце, мерцая среди ветвей, всюду выплывает мне навстречу, хочет меня обхитрить, охватить своим огнем. Вылезшие из земли корни деревьев путаются у меня под ногами. Я соскальзываю с горки, падаю поперек спиленного дерева, вскакиваю и мчусь дальше. Но как убежать от мысли, что немцы прорвали фронт красноармейцев в лесу? Солдаты в зеленых мундирах, которые вели меня расстреливать, возможно, уже мертвы. А спасший меня еврейский командир на коне, неужели он тоже мертв?..
Люди бегут впереди и позади меня, наконец мы попадаем на заросший высокой травой луг. Я вижу, что колхозники берут правее, а потом левее, и бегу за ними. Я знаю, что главное не терять их из виду. Они местные и знают дорогу. Впереди меня бежит старуха, она плачет и что-то кричит; я обгоняю ее, настигаю ее сына и готовлюсь перегнать его жену, которая несется первая с ребенком на руках. Я слышу крик старухи:
– Вы меня покидаете, дети мои?
– Я не хочу, чтобы мой ребенок остался сиротой! – кричит в ответ невестка, не поворачивая головы, чтобы не терять ни секунды.
– Сын мой, ты меня покидаешь? – долетают до меня рыдания старухи, похожие на эхо человека, причитающего на пустом кладбище. – Сын мой!
– До свидания, мама! Если нам суждено жить, мы еще встретимся! – кричит невестка ветру, дующему ей в лицо.
Я застываю на месте, ни в силах двинуть ни рукой, ни ногой. Меня догоняет молодой человек, бегущий между женой и матерью. Он видит, что я стою, и тоже останавливается, рвет волосы на голове и царапает лицо ногтями.
– Что мне делать? Что мне делать? – Он кивает в сторону жены, а потом матери. – Что мне делать? Что мне делать?
– Иди, тебе говорят! – Жена поворачивается к нему с младенцем на руках. – Мой ребенок еще не жил на свете, и я тоже.
Сын больше не оглядывается на мать, он спешит за женой. Я чувствую, как сосуды в моих висках раздуваются и лопаются. Я прыгаю и обеими руками хватаю его за горло.
– Ты оставишь старую мать одну? – давлюсь я словами, словно это он вцепился мне в горло и душит меня.
На мгновение он замирает, позволяя себя трясти. Но потом его глаза загораются гневом. Он вырывается из моих рук и шипит мне в лицо:
– А ты? Где твоя семья? Ты убежал без них!
Я растерян, глаза моего врага злобно сверкают утоленной местью, и он убегает. Я бросаюсь за ним, не ведая, чего я хочу – просто догнать его или снова схватить за горло.
– Бегите, детки, спасайтесь! – слышу я голос старухи.
Я поворачиваю голову, не веря, что это кричит та самая женщина, которая только что просила, чтобы ее не бросали на произвол судьбы. Но это она, она, старая мать трусливого сына. Она уже далеко позади меня, она уменьшилась, сжалась в крошечную фигурку, но я все еще вижу, как над ее головой развеваются седые волосы, и слышу, как над лугами звенит голос:
– Я уже мертвый черепок. Мне грешно хотеть разделить с вами жизнь. Бегите быстрее, дети мои, быстрее!
Ее слова тонут в высоких травах, в окружающей тишине. На западе догорает огромный раскаленный закат, еще больше углубляя безмолвие вечерних полей. С одной стороны они укрыты тенями. Но с другой еще тускло краснеют высокие волны трав, похожие на огненные локоны заходящего солнца. Последние лучи подрезают друг друга, скрещиваются, как кровавые топоры, как свастика. Из пурпурных облаков, сгрудившихся на горизонте, тихо и незаметно вылетает большой черный самолет и с негромким гулом начинает снижаться над сумеречными лугами.
Десант.
Я мчусь по тропинке, по которой ушли колхозники, минские евреи и муж с женой, но не вижу на ней ни души. Должно быть, беглецы неожиданно повернули среди высоких трав. Меня охватывает страх: сейчас меня окружит немецкий десант с автоматами. Я оборачиваюсь на старуху, но и старухи больше не видно, словно она превратилась в траву, стала камнем, утопающим во мху. На том месте, где она была, стоит другая покинутая женщина: со смущенной улыбкой на лице, освещенная последними солнечными лучами, там стоит Фрума-Либча…
Я закрываю глаза и тут же открываю их снова, готовый встретить свою судьбу, – и вижу беглецов. Люди бегут, пригнув головы и плечи, прячась в высокой траве.
Вскоре я догоняю их. Колхозники, возглавляющие толпу, выводят нас на широкое шоссе, по которому мы побоялись идти днем. Теперь, в надвигающейся темноте, самолеты не смогут расстрелять нас из пулеметов. Враг скрытно хозяйничает теперь в лесах, а мы можем идти по главной дороге.
Московское шоссе
Сегодня толпы людей бегут, как рваные тучи, намного быстрее и плотнее, чем вчера вечером. Мои попутчики постоянно меняются. От прежних спутников, минских евреев, я отстал. Меня нагоняет новая группа, идет со мной несколько минут – и уходит вперед. Тот день, что я пролежал в лесу, дал мне почувствовать, как я устал. Мое тело налилось свинцом, я едва переставляю ноги и от всех отстаю.
Только один тощий парнишка из Польши держится меня всю дорогу. От него несет вонью, влажной плесенью гниющей одежды и болотом. Скверный запах, идущий от него, сводит на нет свежесть окружающих нас просторов. Мне дурно аж до тошноты, но я не могу оторваться от парнишки. Он следует за мной, словно тень, и смеется злым смешком:
– Не было ни сливочного масла, ни мяса, ни одежды, ни жилья, потому что надо было строить заводы, производить танки и самолеты, чтобы противостоять врагу. Но когда дошло до войны, у них не оказалось ни танков, ни самолетов, и теперь они бегут, как мыши.
С тех пор как я попал на старую советскую территорию, я еще не слышал подобных антисоветских речей; хотя мне было горько оттого, что Красная Армия отступает, я читал эту горечь по лицам и узнавал ее в молчании. Мне приходит в голову, что этот паренек из Польши испытывает меня, преследует, чтобы выведать мои мысли. Я говорю ему, что нам надо торопиться, потому что немец идет за нами по пятам.
Он отвечает, что ему смерть как хочется сала. Немцы дадут ему кусок свинины, которой он не ел с тех пор, как убежал из своего польского местечка в Советы. А если он наестся свинины, то ему наплевать, что потом его расстреляют.
– Вы еврей, и немцы не станут угощать вас свининой, они угостят вас пулей в голову, – сопя, говорю я и ухожу вперед. Он догоняет, и снова мне в нос ударяет кислый запах мочи.
– Вас, наверное, большевики хорошо кормили, вот вы и убегаете. А я голодаю уже два года, сплю в завшивленной одежде, от меня воняет, и я сам не понимаю, зачем я бегу. Я слышал, люди говорили, что евреи в варшавском гетто торгуют и живут.
Он сумасшедший, неизвестно, что он может выкинуть, думаю я и стараюсь затеряться в группе, нагоняющей меня сзади. Мы сталкиваемся с еще большей, чем наша, толпой, которая застряла на шоссе и не может пройти. Посреди дороги стоит раскуроченный грузовик, и высокий широкоплечий русский орет:
– Назад! Немец не пройдет!
Те, что пришли сюда раньше нас, объясняют новоприбывшим, что этому водителю грузовика в мозг попал осколок, он сошел с ума и никого не пропускает. Безумец залит кровью и что-то держит в руках. Может быть, это кусок динамита, ручная граната или бомба. Если попытаться пройти, он может ее бросить. Но сойти с шоссе люди боятся, в лесах скрываются немецкие десанты. Вот черт!
– Что ты там держишь в руках, земляк? – слышится голос человека, который хочет панибратскими речами успокоить свихнувшегося.
– Двигатель. Я вынул из моего грузовика двигатель, чтобы враг не сел в него и не приехал в Москву. Немец не пройдет! – И высокий богатырь подходит к нам с двигателем в руках.
– Господи милосердный, надо было его пристрелить, – бормочет кто-то рядом со мной. Толпа, узнав, что сумасшедший держит не взрывчатку, больше не боится его, и тот русский, который дружески расспрашивал безумца, теперь кричит, как командир на поле боя:
– Ребята, вперед!
Толпа на минуту забывает об опасности и со смехом, словно пробираясь без билетов в театр, рвется вперед со всех сторон. Сумасшедший великан рычит, воет, безуспешно пытается остановить толпу и в смятении, как лесной зверь, окруженный охотничьими собаками, бросается на меня:
– Ты куда?
Он держит двигатель над головой двумя руками, готовясь изо всей силы швырнуть его в мой череп.
Я вскрикиваю и бегу назад, слыша, как он несется за мной и орет во весь голос: «Стой! Стой!» В глазах у меня темнеет. Я не вижу дороги. Я помню только, что нельзя позволить ногам деревенеть от страха. На моей спине болтается рюкзак. Один ремень оборвался. На бегу я левой рукой сбрасываю с плеча второй ремень, рюкзак падает. Может быть, мой гонитель кинется к нему, может быть, споткнется о рюкзак и упадет. Но я слышу, что он продолжает бежать за мной. Я уже ощущаю его хриплое дыхание, втягиваю голову в плечи, чтобы удар двигателем по затылку был не таким ужасным… И врезаюсь в новую толпу, идущую нам навстречу. Мой бег, крик высокого парня и тяжелый груз в его поднятых руках сеют панику и разгоняют людскую массу, как ураган, сметающий кучу жухлых листьев. Я запутываюсь в чужих руках и ногах, затем лечу куда-то вниз и наконец падаю в глубокую яму. Растягиваюсь на дне и зарываюсь в землю.
Я слышу какие-то шорохи за спиной, слышу чье-то карабканье, беспорядочный бег, вой, хрип, торопливые шаги, топот сапог. Земля надо мной и подо мной качается, словно я плыву под водой. Я все еще слышу, как безумец кричит: «Стой! Стой!» Он гонится сейчас за кем-то другим… Но вот его крик стихает вдалеке. Десятки шагающих ног удаляются, голоса смолкают. Мое сердце стучит и стучит, словно хочет выпрыгнуть из груди, оно трепещет, плачет и молит: «Дай мне умереть, к чему эти мучения, эта борьба? Ты все равно не спасешься».
Потихоньку ритм моего сердца приходит в норму. Я слышу чистую затаенную тишину пустых дорог. Безмолвие вонзается в мозг, предутренний холод колет меня тысячами иголок, я скукоживаюсь, я устал, я хочу заснуть. Но в моем погасшем мозгу зажигается мысль, как огонек в чердачном окошке погруженного во тьму дома: немец.
Я выбираюсь из ямы и вижу: уже совсем рассвело. На шоссе ни души. Между мной и приближающимся немцем – пустое пространство, некому больше меня заслонить. Тени исчезли с окрестных полей, вся округа лежит нагая в свете восходящего утра. Я иду, опустив глаза в землю, словно человек, который карабкается по крутому склону и, боясь головокружения, избегает смотреть как в пропасть позади себя, так и на вершину впереди.
Не проходит и нескольких минут, как я наталкиваюсь на того беженца из Польши. Он стоит посреди дороги и держит в руках мой рюкзак. В серо-стальном свете дня я замечаю, что на вид ему лет двадцать пять. Он мал ростом, худ, грязен. Его лицо покрыто прыщами, а гнилью на фоне утренней свежести от него шибает еще сильнее.
– Я понял, что это твой вещевой мешок, – радостно восклицает он и протягивает мне рюкзак.
– Ты ждал меня? – Я смотрю на него и вижу, что он не чует опасности. – Брось этот рюкзак, тогда мы сможем идти быстрее.
Он молча вешает мой рюкзак себе на плечо и шагает рядом со мной. Вскоре он начинает отставать. Я поворачиваюсь к нему один раз, второй – он отстает все больше. Я останавливаюсь, чтобы подождать его, а он кричит:
– Иди, иди, я тебя нагоню!
Я ощущаю какое-то странное спокойствие и равнодушие. Меня больше ничто не волнует. Я ухожу и смеюсь про себя: пусть этот сумасшедший заберет мой рюкзак с бельем. Он сказал, что уже два года, как он гниет в своих тряпках. Теперь, перед смертью, ему надо сменить белье.
Моя поступь становится все тяжелее, я смотрю вниз, на свои ноги, и вижу, что хромаю. Оказывается, свалившись в яму, я разбил себе ногу и от страха не почувствовал боли, не заметил, что ранен. Ну, теперь я наверняка не успею убежать.
Посреди дороги стоит солдат без шинели и винтовки, с расстегнутым ремнем, в расстегнутом мундире. Он стоит, широко расставив ноги, и мочится. Повернув ко мне свою веселую красную физиономию, он издает смешок, втягивает воздух коротким курносым носиком и весело кричит:
– Не за что воевать!
Дезертир, хладнокровно думаю я и иду дальше. Он уверен, что советская власть кончилась и ему ничего не будет. Его не волнует то, что он попадет к немцам. Скоро и меня это перестанет волновать. Наплевать!
Слева от шоссе лес, и верхушки деревьев горят на солнце. Справа от шоссе тянутся равнины с огородами и заборами, вон домик, вон высокая телега без лошади, открытое стойло и стога сена на лугу. Крестьян не видно, скота не видно, нет даже собак. Все разбежались или попрятались в ожидании немца.
Впереди меня по шоссе идет старая женщина в длинном зимнем пальто. Я догоняю ее – она меня не замечает, словно я или она тень, привидение. Она печально молчит, и я тоже молчу. Я ничего не чувствую, ни о чем не думаю. Она стара, я хром, и оба мы не дойдем.
Нас догоняет курносый солдатик с пьяненькой красной физиономией. Он марширует, весело поет и машет руками.
– Куда, бабушка? – кричит он старухе прямо в ухо и подмигивает мне: – Что, невестка из дома выгнала?
Старуха не отвечает, она идет молча, печально, сгорбившись и засунув руки в рукава. Я еще раз бросаю на нее взгляд, и что-то всплывает в моем затуманенном мозгу. Охваченный неуютным чувством, я бегу прочь. Это она, та самая старуха, которую сын и невестка оставили вчера вечером на лугу возле леса! Теперь она идет искать своих детей. Я несколько раз оборачиваюсь и вижу, что солдатик не отстает от нее, он что-то говорит ей, размахивая руками и весело смеясь. Я сумасшедший, думаю я. Этот русский с двигателем и этот беженец из Польши заразили меня своим безумием. Ведь та старуха отстала в первые же десять минут. Это другая женщина, живущая где-то поблизости, и этот чужой русский солдат, пьяница и дезертир, не хочет оставить ее одну. Я еще раз поворачиваю к ним голову – нет больше ни старухи, ни солдата. Наваждение.
– Иди, иди, я тебя нагоню, я не заберу твоего вещмешка! – Позади себя на шоссе я вижу беженца из Польши, он спускается под гору и поднимается вновь. Надо бы подождать его и спросить, не встречал ли он старой женщины и солдата.
За беженцем едут военные на мотоциклах. Они едут медленно, ряд за рядом, во всю ширину шоссе и сидят на мотоциклах, словно высеченные из камня. На их касках, низко надвинутых на лбы, ослепительно сверкают свастики. Мотоциклисты улыбаются, они не смотрят ни направо, ни налево, они смотрят только на меня и улыбаются, как призраки: «Не убежишь!»
Немцы, говорю я себе с холодным спокойствием и сам удивляюсь своей невозмутимости. Я схожу с дороги и иду влево, к лесу. Сделав всего несколько шагов от шоссе, я вижу, как из-за дерева с густыми ветвями высовывается голова. Появившаяся вслед за ней рука машет мне, чтобы я подошел. Я иду к тому, кто меня зовет, и чувствую, что тоже высечен из камня, как те мотоциклисты на дороге. Вышедший из-за дерева человек стоит с обломанной веткой в руке, опираясь на нее, как на посох, на нем косоворотка под жилеткой, пущенная поверх штанов.
– Кто это там едет по шоссе? – спрашивает он.
– Немцы, – отвечаю я.
Он столбенеет и долго смотрит на меня, пораженный моим равнодушием. Я вижу, что он не верит в то, что я говорю.
– Еврей? – спрашивает он меня по-еврейски.
– Еврей.
– Пойдем, – коротко говорит он и начинает пробираться в глубь леса. Я пробираюсь за ним и время от времени оглядываюсь: на расстоянии двух шагов за нами следует беженец из Польши с моим рюкзаком за плечами.