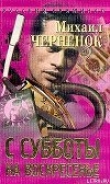Текст книги "Мамины субботы"
Автор книги: Хаим Граде
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 30 страниц)
Попутчики
Прежде мне казалось, что пожилая женщина в длинном пальто – та вчерашняя старуха, брошенная сыном и невесткой; теперь мне кажется, что и лес вокруг – тот самый, в котором я пролежал до рассвета. Мне представляется, что этот лес шел вместе со мной и за ночь стал старше, гуще, непроходимее и темнее. От тесноты столетние стволы наползают друг на друга; хвойные и лиственные деревья стоят вперемешку, путаются ветвями и смотрят на приблудных чужаков. Мы, трое беглецов, тоже переглядываемся, как чужие, осторожно принюхиваемся друг к другу, словно сбившиеся в стаю звери, гонимые охотником.
У еврея в белой косоворотке доброжелательное лицо, полные щеки не знавшего голода человека и теплые карие глаза. Он говорит мне, что он из Бобруйска и что он был на партийной работе в освобожденной Литве. Затем он бросает взгляд на низенького исхудавшего беженца из Польши, который выглядит как подросток:
– Почему от тебя так воняет? – спрашивает его еврей из Бобруйска. – Ты не ходишь в баню? В каждом советском городе есть баня.
– Это от вас, советских, воняет. – Беженец из Польши торопливо отстраняется от нас.
Бобруйчанин удивленно смотрит на меня, как будто спрашивает, с кем я его здесь свел. Я приставляю палец к виску, давая понять, что беженец из Польши тронулся умом, и подмигиваю новому знакомцу, чтобы он оставил сумасшедшего в покое.
– Вы уверены, что на дороге немцы? – спрашивает бобруйчанин так, словно он и меня подозревает в том, что я не в своем уме.
– Они уже ставят там посты. – Я показываю ему на сереющее за деревьями шоссе, по которому снуют люди.
– Я вижу фигуры, но того, что это немцы, я не вижу, – говорит бобруйчанин и все-таки выбраться из укрытия, чтобы прояснить обстановку, боится. С минуту он сидит, склонив голову. Потом вытаскивает из-под своей белой блузы какие-то бумаги, просматривает их и рвет на мелкие кусочки. При этом он морщит лоб и мрачнеет, словно стараясь запомнить все, что там написано.
– Вы тоже порвите свои документы. – Он глубоко и тяжело вздыхает, как будто ему приходится сдирать кожу с собственного тела. – Если мы попадемся, немцы не должны догадаться, что мы евреи. Я белорус, и мы друг с другом не знакомы.
Я достаю свой паспорт и открываю его на странице с фотографией. Прежде чем порвать его, я хочу еще раз на нее взглянуть. Беженец из Польши, все утро молчавший, утонувший в гниении своих тряпок и окружающей дикости, вдруг восклицает:
– Не рви его!
Я кладу паспорт назад во внутренний карман. Он прав, этот польский безумец. Если я попадусь, я все равно не смогу обмануть немцев и уверить их, что я не еврей; а если прорвусь, то без паспорта в Советах и дня не проживу спокойно. Бобруйчанин вертит в больших руках тонкую и узкую книжечку, растерянно смотрит на меня и наконец спрашивает беженца из Польши:
– А у тебя есть паспорт?
– Я неблагонадежный элемент, – передразнивает тот язык советского начальства. – Мне не дали паспорта, а теперь он мне и не нужен.
– Партбилет я рвать не буду, – шепчет бобруйчанин себе под нос, словно польский парень помог ему, сказав, что у него нет паспорта, разъяснил коммунисту, что лучше рискнуть своей жизнью, чем остаться без партбилета. Бобруйчанин снимает правый сапог, кладет в него тонкую книжечку как стельку и, с трудом натягивая сапог на ногу, замотанную портянками, говорит беженцу из Польши:
– Если мы попадемся, смотри не болтай о том, что ты тут слышал и видел. У меня есть длинный нож, и, если ты скажешь хоть слово, я тебя зарежу, – пугает он парня. При этом по лицу бобруйчанина блуждает растерянная улыбка – он совсем не похож на человека, способного кого-то зарезать.
– У вас нет ножа, и я вас не боюсь, – отвечает беженец из Польши. – Доносчики – это вы, советские, а не я.
Бобруйчанин молчит, он подавлен и не хочет спорить с сумасшедшим. Он ложится на живот, опирается на локти и шепчет мне, что, когда стемнеет, мы попытаемся прорваться в Борисов. Это очень близко отсюда, и, по его словам, под Борисовым наши окажут немцам сопротивление.
Мне кажется, что до вечера немцы уже займут все окрестности, но я ничего не говорю. Мысль о том, что меня застрелят, отдает в мозгу тупой болью, словно все органы моего тела уже отмерли и только в виске еще бьется последняя жилка. Я смотрю на беженца из Польши в странной уверенности, что он спасется как раз потому, что не сознает опасности.
– Я из Вильны, у меня там жена и мама, – говорю я ему и несколько раз повторяю, как меня зовут. – Если меня застрелят, помни мое имя и то, что я из Вильны.
– Хорошо, – отвечает он.
Вдруг мы слышим треск сухих веток от чьих-то шагов. Две руки раздвигают листья над нашим укрытием, и высокий юноша в голубой рубашке с непокрытой головой, вытянутой и заостренной кверху, отскакивает, словно натолкнулся на волчье логово. По его испугу мы понимаем, что он нас не искал, а он по нашему виду понимает, что мы прячемся. Молодой человек быстро и взволнованно сообщает, что он местный, белорус. Он шел по лесу и встретил двоих. Они напали на него и отобрали деньги, пиджак и шапку.
– Сволочи! Если бы я их встретил, я бы с ними рассчитался! – говорит бобруйчанин, довольный встречей с местным жителем, и рассказывает белорусу, что дорога занята немцами.
– Немцы? – переспрашивает белорус, не слишком сильно пораженный и испуганный. – Когда я сегодня утром вышел из Борисова, там о немцах еще ничего не слышали.
Бобруйчанин вскакивает и выпрямляется. Он придает своему лицу строгое выражение и расправляет плечи:
– Я военный политрук, партийный. Товарищ, выведи нас через лес к Борисову.
– Я тоже не хочу оставаться на захваченной территории, – говорит белорус и направляется в глубь леса.
Я вскакиваю с травы, за мной с моим рюкзаком встает беженец из Польши, и вместе с бобруйчанином мы следуем за нашим проводником, пока не выходим на наезженную грунтовую дорогу посреди леса. Неожиданно наш проводник бросается бежать, превращаясь в сплошное мельтешение рук и ног, и, прежде чем мы приходим в себя, отбегает на большое расстояние. Он поворачивается к нам, показывает жилистый кулак, смеется и исчезает в чаще. Бобруйчанин смотрит на меня белыми от ужаса глазами – от них остались одни белки, а зрачки словно вытекли от страха.
Шпион, белорус-шпион. Мои губы трясутся и в беспамятстве шепчут: «Я накажу тебя по справедливости, но не уничтожу тебя». Я сую руку в карман пальто. Там лежит мой Танах, в котором есть этот стих… Нет Танаха.
– Что ты ищешь? – спрашивает бобруйчанин.
– Я ищу свой Танах. Вы не знаете, что такое Танах? Вы еврей и не знаете, что такое Танах?! – яростно кричу я, обливаясь потом, и спрашиваю беженца из Польши: – Может быть, ты видел мой Танах?
– Я не богобоязненный вор. – Тот бешено сверкает глазами. – Если бы сейчас у меня был кусок свинины, я бы его съел.
– Наган нам бы больше пригодился, – печально, с дрожью в голосе говорит бобруйчанин. – Я бы его, этого шпиона, уложил с первой пули.
– Этот Танах спас меня от смерти, из-за него еврейский командир, на коне спас меня от расстрела, а вы не знаете, что такое Танах! – кричу я бобруйчанину и продолжаю искать книгу по своим карманам. Книги нет. Должно быть, я потерял ее сегодня утром, когда спрыгнул в яму, или раньше, на том привале в лесу. Я вернусь взглянуть… Бог мой, Танах здесь! Он лежит на своем месте, в глубине кармана.
– Нельзя здесь медлить ни минуты! – кричу я попутчикам. – Этот шпион того и гляди приведет сюда своих дружков!
Бобруйчанин устремляется вперед, я иду за ним, а за мной – беженец из Польши. Ели стоят, облитые тьмой. Среди хвойных деревьев хиреют заблудившиеся дубы с наростами на суковатых стволах, посреди лета на их поникших ветвях вянут листья: темно-зеленые, лапчатые, они висят бессильно, как пальцы потерявшего сознание. Дерево с вывороченными корнями рухнуло, но места на земле ему не нашлось и оно осталось висеть, зацепившись кроной за ветви другого дерева. В лесу темно, холодно, тоскливо и промозгло. Я не слышу ни пения птиц, ни стука дятла, ни даже жужжания мух. Я окликаю бобруйчанина, который удаляется все больше:
– Подождите меня!
– Я не могу тебя ждать, ты хромаешь. – Он гневно и неохотно поворачивается ко мне и вскоре скрывается из виду.
Он больше не хочет идти с нами двумя. Я оглядываюсь – беженца из Польши тоже нет. Я пробираюсь дальше сквозь колючие кусты, сквозь густой папоротник, через высокие кучи опавших листьев и иголок, пока лес не становится жиже и вдали не мелькает шоссе. Мертвое дыхание густой тьмы холодит мою спину и гонит меня к дороге, залитой полуденным светом.
Выйдя на шоссе, я вижу перед собой холмистую местность, крыши высоких домов и фабричные трубы. Борисов! А где немцы?.. Нет, мне не показалось. Это была разведка, которая проверила дорогу и вернулась.
Впереди меня медленно и устало бредут два человека. Я догоняю их и вижу, что это евреи, старуха и молодой парень. Парень тащит на спине большой тюк постельного белья. В правой руке он держит большой жестяной чайник, и я слышу, как в нем плещется вода. Я чувствую, что у меня пересохла гортань, и задыхаюсь. Целая гора песка выросла у меня в горле.
– Евреи, дайте глоток воды, – хриплю я, – глоток воды!
Парень не может поднять головы, так как тюк высотой с него самого. Он мрачно смотрит на меня из-под бровей:
– Я и сам-то не пью. Это только для мамы.
Женщина едва переставляет ноги и идет, согнувшись вдвое. Ее бессильно висящие руки почти достигают земли, будто она нащупывает дорогу пальцами. Старуха останавливается, смотрит на меня с болью и надтреснутым голосом говорит сыну:
– Не жалей глотка воды. Помоги человеку в беде.
Я бросаю на чайник испуганный взгляд, словно там плещется кровь, а не вода. Слышишь! Сам он не пьет, вода у него только для мамы…
– Бросьте тюк! – кричу я. – Я видел на дороге немецкую разведку. Клянусь, что мне это не показалось.
– Где вы ее видели? – Парень медленно поворачивается с тюком на плечах и смотрит на пройденную им сонную и тихую дорогу, на которой нет ни души.
– Сын тащит наши вещи от самого Минска, – начинает плакать старуха. – Если Бог нам помог и мы уже у Борисова, то как же мы теперь все бросим?
– Никого тут нет, вам это приснилось, – говорит парень, словно мой крик, что немцы мне не померещились, убедил его в обратном. – Я вижу, что вы с запада. Вы не знаете, что это такое, – скитаться по России без одежды и постельного белья.
– Идите, молодой человек, не ждите нас, – говорит старуха и снова просит сына: – Дай ему глоток воды.
Но я уже не хочу глотка воды, я ухожу так твердо, так пылко и поспешно, что забываю про свою хромоту. Я влезаю на гору, за которой начинается пригород Борисова. Тут и там под деревьями у пулеметов лежат группки красноармейцев, но никто из них на меня не оглядывается.
Я вхожу в пригород с его деревянными домишками, кривыми, косыми, запущенными, будничными. Небольшие отряды военных движутся по улицам во всех направлениях, тащат маленькую пушку по горбатой булыжной мостовой, идут за груженными крестьянскими телегами, которые тянут усталые лошади. Телеги дребезжат, репродукторы на всех углах играют солдатские марши, в воздухе висит густая пыль, красноармейцы бредут без строя и порядка, измученные и чумазые. Я иду как в тумане, шатаясь, проталкиваясь через остатки воинских частей, между подвод, а за моей спиной тянется пройденный путь, солнечный, тихий и тайный.
Там, по шоссе, идет парень с большим тюком на плечах и жестяным чайником, заботясь о своей согбенной маме, не позволяя себе даже глотка воды. Позади них, по ту сторону леса и мшистой тьмы, бредут старуха и не отстающий от нее чужой русский солдатик-дезертир. За перевалом прошедшей ночи, по полю в окрестностях Минска бегут женщина с ребенком на руках, ее перепуганный муж и их старая покинутая мама. За спинами этих троих, за еще одним днем и одной ночью, у околицы деревушки Рекойн стоит и улыбается Фрума-Либча, а за Фрумой-Либчей сидит в Вильне в своей комнате мама, маленькая седая голубка. Хотя я все больше удаляюсь от нее, мама не становится меньше, словно она звезда.
Я слышу, как меня окликают по имени, и чья-то рука хватает меня за плечо. Это беженец из Польши.
– На, – подает он мне мой рюкзак. – А ты думал, что я его заберу.
– Откуда ты знаешь мое имя?
– Ты же просил помнить твое имя, если тебя застрелят, вот я и помню.
– Я просил тебя запомнить мое имя на случай, если меня застрелят? – Я смотрю на парня так, словно он посланец с того света и рассказывает мне, что я делал в предыдущем воплощении. – А зачем ты всю дорогу тащил мой вещмешок, если теперь ты мне его возвращаешь? Я думал, ты хочешь… Я дам тебе пару белья.
– Не нужно мне ни ваше белье, ни ваш Танах. – Его глаза снова загораются безумным гневом. – Я хочу кусок свинины, я хочу есть! Я сам не знаю, зачем убежал. Говорят, что евреи в Варшаве торгуют и живут.
Он ставит рюкзак рядом со мной и уходит, мотая головой из стороны в сторону. Его измученные ноги заплетаются, и мне кажется, что этот тощий паренек в распадающемся тряпье возвращается на тихую, солнечную, пустую дорогу, к густому темному лесу, в гниение мхов.
Эшелон
За эшелоном идет деревянная нога. Теперь еще и деревянная нога прибавилась к длинной шеренге преследующих меня теней.
В Борисове, по дороге на вокзал, я увидел в открытом окне еврея с подстриженной черной бородой. Я зашел к нему, запыленный, измученный жарой, и попросил пить. Еврей указал мне на сени с земляным полом. Я вышел в сени и сунул голову в стоявшую на скамье кадушку с ледяной водой. Из водяного зеркала, качаясь, на меня смотрело чужое, заросшее и дикое лицо. Я пил до тех пор, пока зеркало не подернулось рябью, а ледяная вода во мне не превратилась в свинец. Смертельно усталый, я вернулся к хозяину, чтобы поблагодарить его и пару минут передохнуть. Комнатка была почти пустой, без мебели. На голом, ничем не застеленном столе лежал кусок хлеба и нож, на стене висела фотография Политбюро, принимающего парад на Красной площади. Я попросил хозяина продать мне хлеб. Он отрезал полбуханки и, когда я дал за нее три червонца, взял только десять рублей, – ровно столько, сколько хлеб стоил ему самому. Печально качая головой, еврей рассказал мне, что у него два сына и оба на фронте. Я сказал, что немец уже под Борисовым, и спросил, почему он не бежит. Мой собеседник высунул из-под стола, за которым все время сидел, деревянную ногу и вздохнул:
– Как я могу бежать?
Хромая, он вышел из-за стола, забрался на стул и снял фотографию Политбюро на параде в Москве.
Теперь его деревянная нога преследует меня, возглавляя длинный ряд тянущихся за мной теней. Я слышу ее в грохоте колес, в лязге буферов, в бестолковом звоне связывающих вагоны цепей: размеренный деревянный стук заглушает все и не утихает ни на минуту.
Все эшелоны с закрытыми вагонами уже ушли, набитые беженцами, и мы, новые толпы, бегущие из Минска и Борисова, из Вильны и Ковны, едем на открытых платформах, на которых в более спокойные времена возят камни и кирпич, железный лом и уголь. Мы лежим вповалку – всюду руки и ноги, головы и плечи. Те, кто без вещей, легко впихиваются в любой свободный уголок, а те, кто с багажом, вырывают место для своих пузатых мешков зубами и ногтями. При каждой остановке эшелона возникают скандалы. Плохо устроившиеся пассажиры хотят поменять свои тесные места. Глаза горят, лица искажены, на губах выступает пена, руки сжимаются в кулаки. Стычки длятся до тех пор, пока локомотив не засвистит, поезд не тронется и беженцы, притихшие, онемевшие и сгорбившиеся, не начнут раскачиваться под стук вагонных колес.
Я лежу на дощатом полу посреди толпы. Под головой у меня рюкзак, и я смотрю на людей, сбившихся в кучу на нашей платформе. Это заключенные, бородатые загорелые лагерники с грубыми, натруженными руками. Посреди лета они в телогрейках, ватных штанах, зимних шапках-ушанках. На боку у них грязные торбы. Они сидят покорно, подавленные и сбитые с толку, не разговаривают друг с другом и, кажется, даже сдерживают дыхание. Лагерники боятся, как бы их не заподозрили в том, что они радуются началу войны. Советская армия отступила, тюремным охранникам пришлось покинуть земли, где находились лагеря, и уголовников отпустили по домам. Теперь они смотрят, как звери, бегущие из горящего леса вместе со своими врагами охотниками и жителями окрестных сел; теперь все бегут, гонимые дымом и пламенем.
По платформе крутится длинный и писклявый человечек в высоких сапогах и засаленном пиджаке, заводской рабочий. Ему не сидится, он лезет ко всем и хочет понравиться беженцам, взявшим с собой еду. Беженцы понимают, почему он лебезит перед ними. Они спокойно жуют свой хлеб с сыром и луком и не отвечают ему. Он придвигается ко мне и спрашивает, нет ли у меня чего-нибудь поесть. У человека с запада, говорит он, наверняка полная торба вкусностей.
Я вспоминаю, что в рюкзаке у меня лежит большой бумажный пакет с сахарным песком. Его положила Фрума-Либча. Я вынимаю кулек и ставлю его перед заводским рабочим. У него загораются глаза, он засовывает в пакет палец и осторожно облизывает его.
– Ей-богу, сахарный песок! – восклицает рабочий и бросает в рот целую пригоршню. Он жует песок с таким усилием и скрипом, словно это не сахар, а галька.
Какой-то лагерник, молодой человек с густыми русыми кудрями и глуповатым лицом, протягивает руку и зачерпывает сахарный песок. Заводской рабочий хватает его за руку:
– Куда лезешь?! За что тебя посадили?
– Паспорт потерял, – улыбается тот, показывая редкие зубы.
– Брешешь, собака! – Рабочий позволяет лагернику забрать свою руку с горстью песка и говорит мне доверительно и тихо, чтобы окружающие не слышали: – Видишь ли, у нас за потерю паспорта дают пять лет, но этого негодяя посадили за попрошайничество. Ты же видишь, что он попрошайка, а у нас в Советском Союзе попрошайничество запрещено. Каждый может работать и зарабатывать. – И в глазах моего нового знакомца загорается злой огонек.
Рабочий берет еще горсть сахара, половину ссыпает в рот, а оставшееся протягивает другому лагернику с изрытым оспой лицом:
– А ты за что сидел?
– Прогул, – отвечает тот.
– Значит, халатное отношение. Хорошо сделало наше правительство, что тебя посадило, – радуется мой сосед и растолковывает мне с комичной серьезностью: – Видишь ли, у нас в Советском Союзе нет буржуев, которые эксплуатируют рабочий класс, у нас рабочий – хозяин заводов, и если ты день не выходишь на работу, то иди, к чертовой матери, отрабатывать в лагерь!
Я вижу, что он так и кипит от гнева, что его тянет выругаться, и восхищаюсь его искусством оговаривать советскую систему под видом ее восхваления. Рабочий снова запускает пальцы в сахарный песок и спрашивает третьего лагерника, за что он сидел. Но тому не хочется сладкого, да и говорить у него желания нет.
– Понимаешь, – хихикает, обращаясь ко мне, мой сосед, – у нас в магазинах по государственным ценам можно достать все, что душе угодно. А этот спекулянт торговал на базаре, продавал хлеб за махорку. А может быть, он, пьяница этакий, напился и подло выступал против советского строя. Говорил, что у него нет ни сапог, ни спецовки и кишки сводит от голода. Лжец! У нас у всех есть сапоги, у нас у всех хорошие квартиры, все мы едим досыта, а если ты хочешь в театр, то можешь ходить хоть каждый день.
– Но теперь-то их освободили, – говорю я, лишь бы что-нибудь сказать.
– Не бойся, – смеется он желчно и ядовито. – Они далеко не уйдут. Хоть они и едут домой, местный НКВД уже знает, сколько еще эти бродяги должны отсидеть. А если их дела пропали, им дадут двойной срок. Не бойся! Политических, врагов народа и контрреволюционеров не освободили. Если их нельзя было вывезти с захваченных земель, их наверняка расстреляли. Ну и черт с ними! – Он сплевывает сладость сахара, оставшуюся у него во рту.
Беженцы лежат на своих тюках вповалку, вперемешку, но теснота не сближает их. Одни сидят, сунув голову в сумки с едой, и глотают целыми кусками, не пережевывая, словно их душит соседство с голодными. Другие стеснения не чувствуют, грызут свои сухари с явным удовольствием, причмокивая и запивая холодной водой. Беженцы, у которых нет еды, смотрят в пол или в небо, чтобы не раздразнивать аппетит и не внушать соседям мысль, что их голодные спутники ждут от них угощения.
Заводской рабочий не спускает глаз с молодой женщины, у которой такое закопченное лицо, будто она только что выскочила из огня. Рядом сидят ее дети и едят хлеб с селедкой и колбасой. Сама она не ест и не отрывает застывшего взгляда от стоящего возле нее стеклянного графинчика с водой. Когда дети поднимают крик и начинают вырывать друг у друга еду, мать выходит из своего оцепенения и бьет их по рукам.
– Командирша, – с тихим смешком говорит мне сосед и громко обращается к женщине: – Дай мне хлеба с селедкой, и получишь западный сахар, будешь пить с ним кипяток.
– Это разве твое, мерзавец? – отвечает она с отвращением, словно стряхивая гадкое насекомое. Потом она спрашивает меня с мрачным блеском в глазах: – Почему вы отдали этому нахалу весь свой сахар?
– Я не люблю сахарный песок, в Орше я куплю кусковой сахар, – отвечаю я, теряясь под ее пронзительным взглядом.
Она смотрит на меня с удивленной улыбкой, внезапно озарившей ее посветлевшие глаза. Потом снова опускает голову и застывшим взором упирается в графинчик, словно там, в дрожащей воде, качаются чаши весов с ее судьбой. Другие соседи по платформе тоже смотрят на меня – холодно, презрительно и враждебно, как на шута, явившегося там, где не до шуток. Заводской рабочий кричит командирше с деланным гневом:
– Видишь, этот парень, хотя и с запада, а хороший товарищ и верит в советскую власть. Он знает, что, как только мы прибудем в Оршу, он купит в привокзальном буфете столько сахара, сколько захочет.
В его писклявом крике и насмешливых глазах я вижу радость оттого, что ему удалось меня высмеять. Мне становится обидно, что я сам выставил себя дураком.
– Забирайте и оставьте меня. – Я показываю рабочему на сахар. – Я понимаю вас.
– Что ты понимаешь? – вскакивает он, скорее напуганный, чем разозленный. – Ах ты, западный шпион! Немедленно покажи, что у тебя в рюкзаке!
– Дайте ему в морду, этому подлецу! – яростно и истерично орет командирша.
Другие беженцы тоже набрасываются на рабочего:
– Ты съел его сахар, а теперь хамишь? У нас есть кому беречь страну от шпионов. Не твое это дело, болтун!
– Да я ничего, я пошутил, – смеется он мягким заискивающим смешком и вдруг, скорчившись от смеха, ложится на пол, не в силах выговорить ни слова.
Я сую остатки песка обратно в рюкзак, кладу его себе под голову и начинаю дремать, укачиваемый платформой, на которой, вновь погрузившись в мрачное молчание, вместе со мной качаются беженцы. Внезапно локомотив ревет, колеса дают задний ход, цепи между вагонами лязгают – и поезд останавливается.
Справа от железнодорожного полотна – лес, слева – станция, магазинчик в деревянном бараке, колонка с водой и несколько недостроенных домишек. Со всех платформ позади и впереди меня на землю весело и шумно прыгают люди. Я хочу пить и есть, я хватаю свой рюкзак и собираюсь спуститься по колесам. Командирша останавливает меня:
– Молодой человек, принесите воды, потом вы тоже можете ее пить. – Она протягивает жестяной чайник и заверяет меня, что постережет мой рюкзак, – не надо тащить его с собой.
Я бросаюсь к колонке. Когда я добегаю до нее, там уже стоит длинная очередь. Еще через миг за моей спиной вырастает хвост вдвое больше. Вода льется яростной толстой струей, и очередь движется быстро. Кто-то черпает кружкой, кто-то – кастрюлей. Один пьет из пригоршней, другой наполняет шапку, третий припадает к железному крану своими мясистыми губами, а четвертый подставляет ведро. Он кричит, что должен обеспечить целый вагон. «Снабженец!» – смеются люди и не дают ему больше половины ведра. Я успеваю налить полный чайник и мчусь к бараку, осаждаемому толпами беженцев.
– Что там? – спрашиваю я одного из тех, кто отчаянно проталкивается вперед.
– Не знаю, – отвечает он, продолжая работать локтями, чтобы подойти поближе.
– Больше ничего нет! – кричат те, кто стоит у двери магазина, и толпа мгновенно распадается. Люди, которым удалось попасть внутрь и купить товар, выходят с полными руками спичечных коробков.
– Махорки нет, – говорят они.
Другие держат узкие круглые свертки из голубой бумаги. Я вижу, что такой сверток выносит из магазина заводской рабочий, мой сосед. Он панибратски подмигивает, словно между нами и не было никакой ссоры, отламывает от своего свертка половину и протягивает мне:
– Попробуй, немедленно попробуй!
То, что он мне подает, похоже на старый, подсохший черный лекех. Может быть, это русский пряник, думаю я. Я голоден, а заводской рабочий смотрит на меня с вызовом, готовый смертельно обидеться, если я не приму его подарок и не отведаю блюда, которое едят все советские люди. Я кусаю, морщусь и сплевываю:
– Цикорий.
– Это то, что было, и то, что мне удалось урвать. Ты меня угощал западным сахаром, а я тебе даю советского цикория. Ничего! За свою жизнь ты съел достаточно сладкого. У нас все есть! – Он произносит этот советский штамп с открытой ненавистью. – Будешь цикорий?
– Нет.
– Тогда давай сюда. – Он отбирает у меня свои полсвертка.
Локомотив дает гудок, и я бегу назад, к нашей платформе, с полным чайником, но пустым желудком, бурчащим и слипшимся от голода.