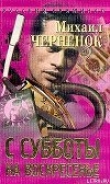Текст книги "Мамины субботы"
Автор книги: Хаим Граде
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
Арестанты
Эшелон въезжает в военную зону, где эвакуированным запрещено сходить с платформ. По обе стороны дороги тянутся территории, огороженные колючей проволокой. За оградой видны склады боеприпасов, здания, холщовые палатки, у которых снуют красноармейцы. Вдоль рельсов стоят караульные посты, охраняющие пороховые склады. Один солдат вытянулся в струнку и застыл, словно на смотру, – взгляд в небо, каблук к каблуку, приклад у самой ноги. Другой провожает эшелон улыбкой, восторженно подмигивая какой-то девушке в крестьянском платке, третий с завистью глядит на гражданских, которые все больше удаляются от линии фронта.
– Наша доблестная Красная Армия! – с гордостью и любовью говорит кто-то из моих соседей. Другой вздыхает, третий светлеет лицом. Беженцы смотрят на военный лагерь торжественно, как на парад, и печально, как при прощании. Вид фронтовиков утешает скитальцев, дает надежду на то, что Красная Армия в конце концов изгонит врага.
Поезд вздрагивает, дергается вперед-назад, и, прежде чем он успевает остановиться, я замечаю, как с эшелона спрыгивают люди, подобно широкой реке, докатившейся до обрыва и с шумом свергающей волны в пропасть. «Самолеты совершили налет на пороховые склады. Мы все сейчас взлетим на воздух», – вспыхивает у меня в мозгу, и я тоже прыгаю с платформы. Но толпа кричит и шумит, как гонитель, а не гонимый. Мне говорят, что минуту назад, когда поезд замедлил ход, с него спрыгнула какая-то группа и скрылась на огороженной территории арсеналов.
Переодетые немецкие диверсанты.
Люди бросаются во все стороны, ищут в кустах, лезут под колючую проволоку. Караульные посты, возбужденные, растерянные и смущенные тем, что они проморгали вражеских парашютистов, бегают с винтовками наизготовку. Толпа кричит им: «Сюда! Сюда! Он здесь! Он там!» От этого солдаты теряются еще больше. Прибегает низенький командир и орет на беженцев:
– Это вам не Гражданская война! Без вас справимся! Назад, по вагонам!
Несколько человек оторвались от высыпавшей из эшелона толпы и исчезли между зданиями. Неизвестно, то ли они увлеклись преследованием шпионов, то ли они сами шпионы. Солдаты открывают огонь, пули свистят над головами. Кто-то из гражданских краснеет от гнева и кидается на красноармейцев с кулаками:
– Дурак! Куда ты стреляешь?
– Я офицер! Я тебе покажу, как стрелять!
– Это не Гражданская война! – рычит командир из последних сил. – Назад, по платформам!
Мы лезем на свои платформы, соседи кипятятся, рассказывают друг другу, куда и как убежали шпионы. Громче всех орет заводской рабочий: «Никого они, эти солдаты, не подстрелили! Ни одного человека!» Он оглядывается, словно ища на нашей платформе того самого неподстреленного шпиона, и его взгляд утыкается в освобожденных лагерников, которые все это время сидели на своих местах.
– Одного заключенного не хватает! – заявляет заводской рабочий.
Не хватает лагерника с русыми кудрявыми волосами и редкими зубами, того, который сказал рабочему, что его посадили за потерю паспорта.
– Вот он! – хором кричат мои соседи.
Из-за кустов выходит арестант. Он идет неторопливо, сонно-задумчиво, натягивая свои спущенные штаны, словно он один в чистом поле и ему некого стесняться.
– Где ты был? – орет вся платформа.
С других платформ его тоже пожирают глазами, и из десятков глоток вырывается мстительный крик, рев хищного зверя, который всем своим напряженным тяжелым телом, лапами, когтями и зубами, бросается на съежившуюся жертву:
– Шпион!!!
Бестолковый лагерник застывает у эшелона как громом пораженный. Он не говорит, не двигается, и его острые скулы становятся еще острей оттого, что он стискивает зубы, чтобы они не лязгали. Низенький командир с группой солдат кидается к нему и приказывает поднять руки. Арестант поднимает их так высоко, словно тонет в глубоком болоте и делает последнее усилие, чтобы держать на поверхности хотя бы кончики пальцев. Поднятые руки тянут за собой телогрейку, являя взгляду обгоревшее на солнце тело без рубашки и простую веревку, которая держит ватные штаны. Весь эшелон затаивает дыхание. Командир обыскивает арестанта, выворачивает его карманы и достает у него из-за пазухи длинную костяную расческу.
– Франт, – улыбается военный, глядя на оборванного лагерника с кудрявыми волосами, и возвращает ему расческу. – Ступай!
Командир, который до этого требовал, чтобы все вернулись на свои места, с арестантом, как назло, обращается дружелюбно. Эшелон просто кипит от ярости, потому что заключенные – враги Советского Союза. Они могут быть завербованными шпионами или скрывать в своей среде немцев.
– Парашютисты выскочили из банды заключенных! – эхом проносится по платформе.
– Ну и командир! Наверное, у него отец кулак или сам он белогвардеец, потому и поддерживает врагов народа! – раздается голос из плотных рядов беженцев.
Командир смотрит на густую людскую массу, закусив губы, словно едва сдерживается, чтобы не отдать солдатам приказ навести винтовки на толпу гражданских. Он велит красноармейцам забраться на платформы и проверить документы у эвакуированных, а потом сопровождать эшелон, пока он не покинет военную зону. В тех, кто попытается спрыгнуть, – стрелять на месте без предупреждения!
Солдаты рассредоточиваются по эшелону, а командир бежит к локомотиву и машет руками, сигналя, чтобы поезд тронулся. На нашу платформу поднимается молодой солдат с костлявым лицом, серыми глазами и небритым, колючим подбородком. Вслед за ним карабкается кудрявый лагерник и садится на прежнее место среди арестантов.
Как только на платформе появляется солдат в длинной шинели и с винтовкой, к нему с паспортами протягиваются десятки рук. Он бросает взгляд на первый паспорт и хочет его вернуть, но другие беженцы суют свои носы в документ соседа, не доверяя солдату, – вдруг он что-то просмотрел. Через минуту проверенный кричит недоверчивым спутникам:
– Я вам свой паспорт показал, теперь вы мне свои покажите!
Поезд трогает. Солдат и его добровольные помощники широко расставляют ноги, чтобы удержаться на качающемся полу, и проверка продолжается. Заводской рабочий, предъявивший всем свой паспорт, победно машет раскрытой книжечкой и показывает на меня:
– А он?
– Ваши документы. – Солдат останавливается рядом со мной, и у меня замирает сердце. Я вижу, что они ищут жертву, а я с запада. Еще в Борисове, поднимаясь на платформу, я слышал шепот, что западные жители помогали немцам прогнать Красную Армию и кроваво рассчитались с русскими, не успевшими бежать из новых советских областей.
Солдат заглядывает в паспорт. Вокруг него стоят мои соседи, холодно, отчужденно, словно забыв, что все это время мы ехали вместе. Командирша, которая во время ссоры с рабочим заступилась за меня, а потом попросила принести воды, тоже сидит с гневным лицом, будто готовясь отрицать, что знает меня, когда я призову ее в свидетели.
– Еврей, – бормочет солдат и возвращает мне паспорт. Командирша поднимает голову и весело, по-свойски, даже преданно смотрит на меня.
Проверяющие окружают заключенных. Те говорят, что у них нет документов. Паспорта отобрали при аресте, а когда арестантов выпускали, некому было выдать им бумаги. Их освободили, когда немец был у самого лагеря, и начальники разбежались первыми.
– Каждый немецкий шпион может сказать, что у него нет паспорта, потому что он освобожденный заключенный, – встревает заводской рабочий.
– Встаньте, мы посмотрим, что у вас с собой, – приказывает солдат.
Лагерники встают медленно, лениво, с застывшим отчаянием на лицах. Только арестант с русыми кудрями остается сидеть, привалившись спиной к ящичку, который загораживали собой заключенные.
– Встань, – командует заводской рабочий. – Что там у тебя за спиной?
Арестант продолжает сидеть, раскинув ноги на опустевшем дощатом полу и запрокинув голову. Он замер и напряженно смотрит на проносящиеся мимо телеграфные столбы. Наконец по его окаменевшему лицу проходит дрожь – и, вытянув вперед руки, он вскакивает и слетает с платформы быстрее птицы.
Все стоят в растерянности, онемев, застыв на своих местах. Солдат бросается к краю платформы, за ним следует заводской рабочий с жадным огоньком в глазах. Я вцепляюсь руками в пол: не вскакивать! не смотреть! Еще подумают, что я тоже хочу спрыгнуть… Солдат стреляет, и по его лицу, развернутому ко мне в профиль, я понимаю, что он не попал. Он стреляет второй раз, и заводской рабочий аж подскакивает от удовольствия:
– Есть!
Солдат стреляет в третий раз, и рабочий смеется:
– Точка!
Беглеца подстрелили.
Солдат стоит бледный, спокойный, с холодным блеском в серых глазах и жестокой победной улыбкой в уголках сжатого рта. Мои соседи вдруг изменились. Они больше не кричат от радости, не грозят кулаками, их лица сдержанны, серьезны, лбы наморщены. На других платформах, с которых было видно, как упал подстреленный беглец, тоже стало тихо, так тихо, что я слышу, как стонут вагонные колеса, словно в них вселились предсмертные хрипы жертвы.
Солдат подходит к окаменевшим лагерникам и севшим голосом приказывает им открыть ящичек, который загораживал спиной беглец. Заводской рабочий подбегает к ящичку прежде, чем арестанты успевают двинуться. Он рывком открывает его и проворно вытаскивает содержимое. Внутри лежат темно-синяя блуза, пара штанов того же цвета, фонарь с батареей, сложенная карта, короткий и широкий полевой нож в кожаных ножнах.
– Значит, парашютист. – Заводской рабочей вытаскивает синюю блузу, словно хочет ее примерить. – Он мне с первого взгляда не понравился.
– Он сидел с нами в одном лагере в Литве, как же он мог быть парашютистом? – подает голос здоровенный лагерник, который не захотел сказать рабочему, за что его посадили.
– Он был дурачок, а чемодан нашел, – вставляет другой заключенный. – Дурачок, спрыгнул от страха.
– Так вы знали об этом чемоданчике? – спрашивает солдат побелевшими губами.
– Знали, – отвечает первый арестант. – Мы ему говорим: «Где ты это взял?» А он: «Кто-то потерял, а я поднял». Так он нам сказал. А что внутри, мы не знали.
– И вы всю дорогу берегли чемоданчик, загораживали его своими задницами, потому что парень пообещал вам часть вещей? – Заводской рабочий вытягивает шею, как хищная птица.
– Да, он сказал, что, когда мы прибудем в Оршу, он с нами честно поделится. Но что внутри, мы не знали, – повторяет первый лагерник устало, тихо и печально, словно он уже попрощался с жизнью.
Беженцы стоят, немые и глухие, не смотрят друг на друга и стараются казаться равнодушными. Только командирша не может сдержаться. Она поворачивается к рабочему, и ее лицо кривится от отвращения и ненависти.
– Сволочь проклятая!
– Заткнись! – налетает на нее рабочий. – Я русский человек и защищаю страну от шпионов!
– Собака ты, а не русский человек! Мой муж на фронте, а ты драпаешь в тыл, спасая свою собачью шкуру! – сплевывает командирша.
– Замолчите! – сквозь зубы шипит солдат, и в этом шипении слышится такая угроза, что все беженцы мгновенно рассаживаются по местам. Командирша прижимает к себе детей, гладит их по головкам и качает, словно баюкая.
От далекого локомотива ветер приносит клубы дыма и гонит их над нашими головами. Дым становится все гуще, все чернее. Он смешивается с плывущими навстречу низкими облаками. Беженцы молчат, уйдя в себя, отодвинувшись от заводского рабочего, который лежит в углу отдельно от всех, и от солдата, который стоит посреди платформы, опершись на винтовку. Густое молчание висит как мрачная туча.
Дождь
Опускается ночь. Поезд снова въезжает в военную зону и останавливается. Из дальних вагонов доносится громкий приказ караульным постам: сойти с платформ и встать вдоль эшелона, не давая эвакуированным покинуть поезд. Наш солдат молча слезает с платформы. Ему не надо повторять приказ.
Я кладу голову на рюкзак, накрываюсь пальто и хочу вытянуть ноги. Но вокруг лежат скорченные тела, и я тоже вынужден лечь скорчившись. У меня невыносимо болят колени. В них словно ввинчиваются железные винты, они входят все глубже, и я чувствую, как костный мозг вытекает у меня через затылок. Как хорошо было на шоссе между Минском и Борисовым! В поле, в лесу и даже в ямах я мог распрямиться. Пустое солнечное шоссе между Минском и Борисовым живет во мне своей тайной жизнью. Как она дорога мне, эта полная опасностей дорога, как дороги встреченные там тени: задумчивые и тихие, с печальной улыбкой, лица людей, уже представших перед судьбой. Они следуют за мной, успокаивают и утешают, говоря, что я не повинен в смерти спрыгнувшего с платформы дурачка.
Я чувствую, что сбившиеся вокруг меня беженцы тоже не спят. Наверное, как и я, они думают о невинно расстрелянном. Но никто из них не пнет сапогом проклятого заводского рабочего, который способствовал этому убийству. Провокатор лежит себе в своем уголке и, должно быть, печалится, что и меня заодно не пристрелили. Заключенные знали наверняка, что их товарищ невиновен. Ведь он сидел с ними в одном лагере в Литве. И все-таки они побоялись остановить солдата, крикнуть ему, чтобы он не стрелял.
Заключенные сказали, что они из литовского лагеря. Я знал, что есть лагеря в Архангельске, в Иркутске и Якутске, но в Литве? Советы присоединили нас только год назад, когда же они успели создать в Литве лагеря? В Вильне говорили, что русские строят секретные аэродромы, прокладывают тракты и укрепляют границы, но что за рабочие осуществляют это строительство, мы не знали. Теперь понятно! Из Вильны людей ссылали в Сибирь, а из Сибири отправляли в Литву. Я разъезжал по соседним местечкам, гулял по лесам и не знал, что делается вокруг, не догадывался, что хожу по скрытым ямам.
Где-то наверху грохочет гром, он разражается над головой и разбивает вдребезги мои мысли. Я бросаю взгляд из-под пальто и вижу, что небо затянуто тучами. На эшелон нападает ветер, он раздувает и рвет одежды беженцев, забирается под покрывала и швыряет медные дождевые капли в натянутый брезент. Протягиваются руки, приподнимаются головы. Люди хотят удержать развевающиеся одежды, но ветер бесится и хлещет со всех сторон. Головы опускаются, втягиваются назад в плечи, тела съеживаются, жмутся друг к другу и снова лежат, промерзшие и застывшие, согнутые и погруженные в себя.
Гром гремит все чаще, все раскатистее. Между раскатами грома застланное тучами небо от горизонта до горизонта свежуют молнии и тут же гаснут. Сплошная стена дождя падает тяжко, как свинец, и хищно, как нож. Ветер лупит дождем вкривь и вкось, справа налево и слева направо, потоки облегают голову, как плахта [168]168
Плахта – часть народного костюма. У поляков – накидка на плечи и голову.
[Закрыть]. Вода струится под моей одеждой, заливает ботинки, уши, течет по шее и затылку, яростно кружит в водоворотах.
– Боже мой! – вздыхает кто-то рядом. – Почему мы не едем?
– Перегрузка линии, – давится другой заливающим его дождем. – А может, рельсы разрушены налетом.
Двое детей командирши начинают тихо плакать, они воют протяжно и тонко, как волчата: «Мама, я боюсь! Мама, мне мокро!» Я чувствую, как их плач пилит мне жилы, вытягивает из моих костей мозг. Мне кажется, что они всхлипывают и жалуются назло мне. Пусть сверкают молнии, пусть гремит гром, пусть смоет дождем весь эшелон, только бы они так не плакали. Я срываю пальто с головы и сажусь.
Напротив меня, обнимая детей, сидит командирша. Она уже накрыла их всеми своими платками, загородила руками, телом и, с непокрытой головой и растрепанными волосами, беззащитная перед хлещущим дождем, кричит в темноту, солдату, стоящему на карауле у железнодорожного пути:
– Товарищ красноармеец, позволь спрятаться под вагоном, а то дети подхватят бронхит.
– Нельзя, – долетает ответ, произнесенный мертвым, словно из бездны донесшимся голосом.
– Пожалей детей! – Она наклоняется над краем платформы, заходится сухим кашлем среди яростного дождя, и ее плач сливается с протяжным волчьим воем детей. – Мой муж на фронте, товарищ красноармеец!
– Замолчите, – снова шипит солдат, точь-в-точь как после убийства арестанта. – Замолчите! – вдруг ревет он во всю глотку, и командирша с детьми замолкают, словно солдат своим ревом задушил их голоса. – Замолчите! – гневно шипит и хрипит он, заляпанный темнотой и дождем. Кажется, будто в солдата вселился дух убитого им человека и мучает, доводя до безумия.
Дождь прекращается так же внезапно и быстро, как начался. Сквозь поредевшие тучи с неба сочится желтоватый свет, озаряя беженцев, похожих на кучи мокрых скользких камней. Вдоль всей длины скрепленных цепями вагонов воцаряется мертвая тишина. Одежда отлипает от моего тела, которое стынет так, словно завернуто в лед.
Неожиданно локомотив дает гудок, он плачет и воет в ночной тьме: застреленный был простаком! простаком! Поезд дергается вперед, и колеса начинают размеренно стучать: там-там-там. Я навостряю уши: деревянная нога борисовского еврея, который не мог убежать, снова следует за мной. В лязге буферов я слышу, как он идет чеканным солдатским шагом по краю песчаной насыпи – и не падает. Он проходит между эшелоном и мостом через реку – и остается невредим. Деревянная нога шагает за поездом слева от железной дороги, а справа за мной плывет кровавое молчание… тянется луг с застреленным арестантом.
Толпа сопровождающих меня теней растет.
Но караульный солдат со мной не едет. Он забрал с нашей платформы чемоданчик дурачка и остался в военном лагере, где мы простояли полночи. Только его глаза, как глаза локомотива, горят в туче, низко висящей над моей головой, да уши режет и буравит его хриплый, шипящий голос:
– Замолчите!
Скиталец
В Орше я был мобилизован на рытье противотанковых рвов. Я ел солдатские сухари, пил воду из жестяных консервных банок и спал там, где работал, в вырытых рвах. Мои волосы и борода свалялись в один сплошной колтун, пересыпанный песком и пылью. Какой-то солдат побрил меня, начисто лишив голову растительности. Тогда я увидел свои ввалившиеся щеки. Вокруг меня взрывались бомбы. Санитары кричали в полевые телефоны: «Люди умирают!» Но не было ни карет «скорой помощи», ни носилок. Ребята из моего отряда, рожденные в Советском Союзе, учили меня стрелять из винтовки, ходить в штыковую атаку, бросать в танки гранаты, но в армию меня не взяли, потому что я с запада. Когда окопы были вырыты и подоспели немецкие танки, меня отпустили и я уехал в Смоленск.
Смоленск был сожжен, но я не вышел из города, пока не искупался в Днепре, сдирая ногтями застарелую грязь с тела. На обратном пути к вокзалу меня снова покрыли пыль, дым и пепел взорванных зданий. Над моей головой качались остовы разрушенных домов, переплетения арматуры, куски бетона и дерева.
Снова дни и ночи на открытых платформах, которые тянутся на восток. Мы уже проехали Брянск, Орел и подходим к Курску на пути в Воронеж. Мои попутчики больше не интересуют меня. От долгих скитаний лица стерлись. Они наплывают друг на друга, как серые тучи, окаймляющие небо на горизонте. Я лежу полуголый, широко развалившись на платформе, сохну, как выловленное из воды бревно, и вижу сладкий сон о Вильне, о Мясницкой улице прежних лет, залитой жарким солнцем такого же летнего дня, как сегодняшний.
Сутулая немолодая еврейка сидит у большого бочонка с селедкой. На настиле спит носильщик с веревкой на поясе. По пустой тихой улице лениво тащится старьевщик со своим магазином на плечах: пара красных штанов, бархатный пиджак и зеленая охотничья шляпа с пером – одежда для фокусника. Женщина с ребенком у груди тянет руку за подаянием, но вокруг ни души. Нищенка продолжает стоять с протянутой рукой, как каменная. Мама дремлет над своими корзинами и мечтает о зрелой красной смородине, волосатом сладком крыжовнике и набухшей черной блестящей черешне. Ее губы шевелятся, она уговаривает покупательниц: «Разве это смородина? Это же виноград! Разве это черешня? Это же мясо!» Задремав, она раскачивается слишком сильно, открывает глаза и видит, что вместо столпотворения клиентов в ее пустых корзинах полчище мух. Над ее головой висят весы, стрелка которых стоит строго посередине, свидетельствуя перед Богом и людьми, что мама не обвешивает.
Я открываю глаза, вижу беженцев, греющих на солнце свои промерзшие кости, и мой взгляд устремляется за поля. Деревня торопливо отбегает назад и прячется среди деревьев, будто испуганная нашествием странников. Рабочие с ломами и кирками на боковой ветке железной дороги долго, безмолвно и печально смотрят нам вслед. Крестьянка на пороге своей избенки, подперев голову кулаком, глядит на нас, а потом в небо: немецкие самолеты еще не пролетали над ее домом, но кто знает, не придется ли ей завтра бежать от бомб?.. У дороги стоит колодец с красной крышкой, и беженцы тянут к нему шеи и жаждущие губы, но эшелон не останавливается. Вдруг с поля прибегают босые дети и начинают весело махать руками, как стая аистов, которая плещет белыми крыльями. Никто из эшелона не отвечает им. Дети стоят, опустив руки, взволнованные, восхищенные и смущенные.
Железнодорожные пути расширяются, главные линии переплетаются с боковыми. Курск уже мигает нам своей электростанцией, фабричными трубами и большими резервуарами. По одну сторону от нашего эшелона тянется длинный товарняк с высокими закрытыми вагонами, на крышах у него пулеметы, на подножках вооруженные солдаты. Товарняк идет туда, откуда мы прибыли, на фронт. С другой стороны на холме стоит православная церковь с белыми стенами, куполами и крестами. Рядом с ней видны лошади с повозками. Солдаты выносят из распахнутых ворот церкви сено и грузят его на повозки. Никто из моих соседей по платформе не обращает внимания на церковь, превращенную в амбар. Все смотрят на вокзал. И как только останавливается локомотив, вокзал затопляет толпа в надежде добыть еды и питья.
Я вижу парикмахерскую и скребу скулу – я снова сильно зарос. Вхожу внутрь и попадаю в другой мир. Тихо, прохладно, клиенты – командиры, начальники, а парикмахерши – молодые девушки в белых халатах. Я сажусь на стул, и девушка намыливает мне подбородок. Она делает это равнодушно, лениво, даже не глядя на меня. Я рассматриваю ее в зеркало: рослая, темная, с длинным носом, бледной кожей и застывшим взглядом совы. Девушка замечает, что я на нее смотрю, и улыбается.
– В жару и в пути быстро зарастаешь, – оправдываюсь я за свой дикий вид.
Парикмахерша просит не двигаться, чтобы ненароком не порезать меня бритвой. Она бреет медленно, потом смывает пену теплой водой и, не спрашивая, смазывает лопнувшую кожу на моем лице какой-то холодящей мазью. Я прикрываю глаза, вспоминая, как Фрума-Либча уговаривала меня взять с собой бритвенный прибор. Я не хотел, думал, что никогда уже не буду бриться… Русская девушка осторожно массирует мне кожу, разминает мешки под глазами, и я пьянею от ее пальцев. Голова тяжелеет, глаза подергиваются туманом, губы дрожат, и я подставляю лицо под ее руки, как под легкий весенний, смешанный с солнцем дождик. Как давно нежная женская рука не ложилась на мой лоб? А она, словно почувствовав дрожь моих губ под ее ладонями, не убирает рук и улыбается, глядя мне в глаза:
– Не волнуйтесь, я вижу ваш эшелон в окно. Когда он тронется, я вам скажу. Все пассажиры еще на вокзале.
– Я не знал, что в России есть женщины-парикмахеры. Как вас зовут?
– Катя, – отвечает она после долгого размышления, словно выбрав одно из десятков пришедших в голову имен.
Я спрашиваю, из Курска ли она и есть ли у нее жених. Девушка вытирает меня полотенцем, снимает простыню и неохотно говорит, что за работой им запрещено разговаривать на посторонние темы. Я вижу, что другие девушки в белых халатах свободно беседуют с клиентами, и понимаю, что она боится говорить со мной, потому что я с запада. Я встаю и даю ей два червонца. Мгновение она держит купюры за самый краешек, словно сомневаясь, можно ли их взять.
– Вы даете слишком много, – тихо говорит девушка. – Вам хватит на дорогу?
– Не беспокойтесь, спасибо. – И я выхожу. На улице в окно я вижу, что на моем месте уже сидит другой и Катя так же улыбается ему, но глаза она опустила, словно все еще думает обо мне. Так мне кажется, и я смеюсь с болью в сердце: должно быть, я очень одинок, если мне в голову приходят такие мысли.
Мне удается купить черствых пряников, посыпанных сахарной пудрой, и я тут же принимаюсь их грызть. Слышу горькие рыдания мужчины, и жесткий кусок застревает у меня в горле. Здоровенный широкоплечий еврей стоит в окружении милиционеров и обеими руками рвет свою густую чуприну, выбивающуюся из-под козырька. У него украли деньги с паспортом. Рядом с ним стоит жена и орет на него с дикой злобой и отчаянием:
– Где твой паспорт? Ищи! Ищи! Ищи!
– Я искал, искал, нету его, нету! – Он раздирает ногтями щеки и плачет перед милиционерами, словно прося защитить его от жены. – Товарищи, помогите! Помогите найти вора! Пусть возьмет деньги, только паспорт, паспорт отдаст!
Милиционеры стоят и молчат с жестким блеском в глазах. Я не знаю, думают ли они о воре, обездолившем человека, или им противен ревущий как баба еврей. Локомотив дает гудок. Я мчусь к своей платформе, в одной руке держа кулек с пряниками, а другой ощупывая внутренний карман, в котором лежит мой паспорт.
Миновал полдень. Эшелон змеится и петляет на пути к Воронежу. Солнце льет огонь, и внутри у каждого пылает, люди раскрывают рты в надежде выдохнуть жар и только сильнее изнывают от зноя. Жгучие лучи вонзаются, как копья, выпивают кровь из жил и наполняют их смолой, желтой лихорадкой. Соленый пот струится по лицу и стекает на грудь. Каждая его капля склеивает волосы и падает на сердце как раскаленная лава. Пыльная сухость сводит углы рта, на зубах и нёбе песок, кожа шелушится, лопается, и освежеванное солнцем тело мокнет, как незаживающая рана. Беженцы маются, вертятся с бока на бок, не находя себе места. Небо как расплавленная медь, на просторах вокруг не колыхнется ни один цветок, не пролетит ни одна птица, и короткие тени деревьев вьются вокруг стволов, словно тоже хотят укрыться от жары.
Поезд останавливается посреди поля, недалеко от лиственного леса, чтобы эвакуированные могли нарезать веток и закрыть платформу от солнца. Но пассажиры эшелонов, прошедших здесь раньше, уже срезали с ближайших деревьев все ветви. Остались только пышные макушки, печально глядящие сверху на голые стволы. Мы углубляемся в лес, разбредаемся в чаще, и тут же раздается сухой треск ветвей. Я ломаю высокую стройную осину. Ее листья, округлые, гладкие, с зубчиками по краям, беспрестанно дрожат и трепещут, как солнечные лучи. Я наламываю кучу веток, поднимаю их, хочу вернуться к эшелону – и замираю, очарованный чуткой тишиной.
Погруженный в молчание, лес задумчиво и изумленно прислушивается, будто не верит, что его разоряют. Дрожащие листочки на обломанных ветках в моих руках наполняют меня ужасом, как загадочные живые твари, извлеченные из морских глубин. В траве кто-то движется. Кажется, что заросшее мхом существо пробудилось от многолетнего сна. Я поднимаю глаза и вижу, как под сеткой из высоких крон идет по темной узкой тропинке маленькая босая женщина с туфлями в руках. Она все время беспокойно оглядывается и удивленно улыбается, словно и радуется, и боится того, что заблудилась. Я смотрю на нее широко раскрытыми глазами, и сердце мое замирает. Я знаю, что нельзя даже пикнуть, чтобы не испугать ее. Внезапно она поворачивается ко мне лицом – и исчезает. На тропинке никого нет. Никого.
Мне показалось, что там шла мама.
Я крепче беру охапку веток и возвращаюсь к эшелону. Вместе с соседями я засовываю ветки в щели досок вокруг платформы, отгибаю верхушки, сплетаю их между собой, и, когда наш эшелон трогается, кажется, что едет лес.
Я забираюсь в затененный листьями угол и думаю о своей седой голубке. Она пришла ко мне так же нежданно, как несколько лет назад, после моей женитьбы на Фруме-Либче. Мы с женой выбрались тогда за город, в ту самую деревушку Рекойн, где я оставил Фруму-Либчу после побега из Вильны на второй день войны. Там в первое лето после свадьбы мы целыми днями бегали по лесу, плескались в мелкой речушке и вместе с хозяином нашей хаты ходили косить траву на его лугах. Каждый раз, когда хозяин бывал в городе, он заезжал к маме и привозил от нее фрукты и сладости. Когда леса покрылись лиловым налетом ранней осени, я бродил в чаще, далеко от деревни, искал боровики. И однажды на узкой лесной тропинке увидел маму, идущую босиком с туфлями в руках. От нас две недели не было вестей, из-за работы в поле наш хозяин не ездил в город. Так что мама оставила свои корзины и на автобусе приехала в Рекойн. Здесь она зашла к одному еврею, расспросила о деревне и отправилась через лес по дороге, которую ей указали. Она сняла туфли и чулки и, как настоящая деревенская жительница, пошла по бархатно мягкой траве босиком. Так она и шла, пока не заблудилась.
– Вот бы Всевышний мне помог и я жила в селе, – сказала мама. – Когда живешь в селе, можно ходить босиком, как Хава в раю. А в городе я должна бегать в своих плоских туфлях по кривому, колючему булыжнику.
Когда я спросил, как это она решилась пойти одна через незнакомый лес, – ведь она могла проблуждать целый день, она ответила мне со смешком:
– Я не была на вашей свадьбе в Варшаве, так хоть порадуюсь, видя вас теперь. Ведь это ваш медовый месяц.
Когда Фрума-Либча увидела, что я выхожу из леса с мамой, ее лицо порозовело, а уши запылали, как в тот день, когда она стала моей невестой и в первый раз пришла к нам в кузницу на субботнюю трапезу. Но мама ни в коем случае не собиралась оставаться у нас больше, чем на час. Когда я стал ее упрашивать, она сердито сказала:
– Будешь командовать своими детьми. У меня товар, взятый в кредит, и в такую жару он к вечеру завянет. У тебя есть жена, вот ей и радуйся. А с меня хватит и того, что я вижу вас, слава Богу, здоровыми.
Локомотив сопит и устало тащится по русским просторам. Чем дальше на восток, тем меньше лесов и больше степей. Наступает вечер. Небо заволакивает тучами, и лучи заката шевелятся в них, как красноногий рак в воде. Из степи дует ветер. Он расплетает ветви над моей головой, и осиновые листья, которые несколько часов назад трепетали, как живые, качаются теперь, как висельники. Тело, разогретое дневной жарой, быстро остывает. Я съеживаюсь, дрожа от холода, закрываю глаза и в полусне снова вижу маму, словно взял ее из курского леса вместе с наломанными ветками. Вот бы окликнуть ее, обнять и согреть, но у меня нет голоса. Вот бы спрыгнуть с эшелона и полететь за мамой, но тени от листьев над головой опутывают меня, как веревки. Я знаю, что сплю и вижу сон, но не могу проснуться. На моих глазах мама, маленькая и сгорбленная, возвращается через темные курские леса в Вильну, как в тот день, когда она пришла к нам на час и тут же засобиралась к своему взятому в кредит товару; мама идет и не оглядывается, хотя и знает, что я смотрю ей вслед. А ветер в листьях над головой шуршит и бормочет человеческим голосом, голосом моей мамы: бедные веточки, вас отломали от ствола, и теперь вы скитаетесь по чужим мирам, бедные обломанные веточки…