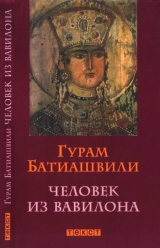
Текст книги "Человек из Вавилона"
Автор книги: Гурам Батиашвили
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
Пространство и время
Он был потрясен. Вдруг почувствовал себя беспомощным, слабым человеком. Ему казалось, ноги больше не держат его. Бессилие усугубляло ощущение тщеты и суетности всего на свете. Потому он так полюбил книгу пророка Иеремии. Практически не расставался с ней, читал днем и ночью, как если бы стояли траурные дни месяца Ава. Занкан находился в глубокой скорби и печали, и Плач Иеремии – причитание смятенных неистовых душ – еще раз убеждал его в том, что страдание – неизменный спутник человека. Это открытие, естественно, мало утешало, но примиряло с муками, поскольку он обнаружил некую закономерность – счастливого во всех отношениях человека не существует, страдания и муки сопутствуют ему и помогают постичь величие Создателя. В последнее время Занкан с поразительным равнодушием оглядывал дворец, доставшийся ему в наследство от предков, трезвым разумом оценивал свое богатство и то, во сколько раз оно возрастет для Мордехая и Бачевы. Когда он представлял себе это, сердце его сжималось – ужасная болезнь Бачевы, ее полная отрешенность от всего и по-прежнему бессмысленный взгляд ставили под сомнение, сможет ли она распорядиться своим богатством. До и нужно ли оно ей? Вкус богатства доступен лишь тому, кто, не щадя себя, работает на него, борется, ищет.
Бачева же была далека от всего этого. Нуждалась ли она в богатстве? Знала ли, что она владелица несметного состояния, или думала, что за душой у нее нет ничего? Естественно, этот вопрос неотступно преследовал Занкана, но главной причиной его чувства беспомощности, безнадежности было то, что он терял надежду продлиться во времени. Он не мог надеяться лишь на сына, уехавшего в Византию Мордехая. Еврейское потомство приносит еврейская женщина. Он знал, если род его не продлится и у него не будет потомства, опасности для существования во времени еврейского народа в целом не возникнет, из таких, как он, и такие, как он, составляют диаспору еврейского народа, а жизнь в диаспоре чревата тем, что стряслось с Бачевой. Вот и с семьей Хахиашвили произошла трагедия: их старший сын Цхаку, отправившийся на учебу в Константинополь, привез оттуда большеглазую гречанку и, представив ее родителям – Малке и Иосифу, сказал: «Моя жена».
Поэтому-то он и тревожился по поводу того, что для еврейского народа было едва ли не основным – существование во времени. Евреи никогда – ни до Занкана, ни во времена Занкана, ни после него – не стремились к существованию в пространстве. Несмотря на то что евреи неоднократно становились жертвами завоевателей пространства, сами они все же предпочитали существование во времени – Бог вечен, и завет, положенный между Богом и евреями, подразумевает вечное богослужение, т. е. существование евреев во времени. В глубине души он порой думал, что эта близость к Богу, постоянное пребывание в поле его зрения приносит им только страдания, но тот же Бог печется об их существовании во времени. Он ведет их, непокорных, неугомонных, во времени так, как отец – своих детей. Тонкими прутьями искусных наездников судьба забросила в мир забвения завоевателей чужих пространств, в том числе и тех, что Господь даровал евреям, и это еще более убедило их: одно из условий вечности – именно существование во времени. Занкан же не видел его для себя, и это угнетало его. Он запирался в своей комнате, душа его причитала, как причитали, сидя на берегу Вавилона, его пленные предки. Плач Иеремии помогал развеять эту тоску – такова жизнь, – но со временем, когда он попривык к терниям на своем пути, Занкана потянуло к псалмам Давида – он знал свою беду, пора причитаний прошла, пришла пора надежды. Псалмы Давида дарили надежду. Правда, облегчение было пока мимолетным, но ведь было же, это давало возможность перевести дух, а другого ему не надо – он только о том и думал, как помочь дочери и самому себе. Сколько дней, сколько мучительных темных ночей провел он, думая об этом. Но ничего не смог придумать. У него было все, чтобы решить проблему, и, найди он путь ее решения, от нее не осталось бы и следа, но тревожило то, что он никак не мог найти этот путь.
Обессиленный, подавленный, разочаровавшийся в своих надеждах, Занкан время от времени входил в комнату дочери, присаживался рядом и нежно, очень нежно гладил ее по волосам. Бачева же сидела, бессмысленно уставясь либо в пол, либо в потолок. Ни одним словом не откликалась на слова отца. Занкан даже не был уверен, что она чувствует его ласку. Пару раз он наивно попытался по-детски поиграть с ней – взлохматил ей волосы, пощекотал под мышками, но эта натянутая шутливая игра лишь убедила его в серьезности заболевания Бачевы – она никак не отреагировала на нее, даже не поняла, что с ней шутили. Потом он призвал на помощь Тинати – может быть, подруге детства удастся разрушить возведенную Бачевой преграду между ее внутренним и внешним миром. Он преисполнился надежды, как потерпевший крушение, который в бушующем море хватается за обломок своего тонущего судна, но легкая волна выбила опору из рук – Тинати помогла Бачеве не больше, чем Иохабед или Занкан, она никак не откликнулась на ее присутствие. Он не сердился на дочь за то, что она сменила веру, ему было бесконечно жаль ее. Он и себя жалел – как не сберег свое бесценное сокровище, свою самую заветную драгоценность, которая покинула его, ушла, как вода из горсти, выпала из общего ритма жизни, потеряла шанс продлиться во времени. Он и не помнил, сколько времени прошло в мучительных, горестных раздумьях, сколько раз зашло солнце и взошла луна, сколько раз она истаяла и вновь засияло солнце, сколько раз тбилисские фазаны испили родниковой воды, сколько времени он не выходил из дома, даже в трапезную не заглядывал и с Иохабед не общался – не было никакой уверенности, что она сможет облегчить боль его смятенной души. Он лежал на тахте в своей комнате, находя облегчение в чтении псалмов и молитвах. С тех пор как ему исполнилось тринадцать и он стал, по еврейским традициями, членом общества, он не выпускал из рук Торы и филактерия и сейчас, когда ему было так тяжело, он находил утешение именно в молитвах и псалмах Давида. Молитва умиротворяла, псалмы давали надежду, хотя он знал, надо искать не утешения и надежды на завтрашний день, а в первую очередь позаботиться о здоровье дочери. Сегодня же, в этот час, в эту минуту.
Его горе разделил именно тот человек, от которого он менее всего ожидал этого – как-то утром Шело объявил о приходе хахама Абрама, и у Занкана сжалось сердце. Что сказать духовному наставнику, который почитал его распорядителем судеб множества людей, а он не мог уследить за своей дочерью?! Но хахам Абрам, войдя в комнату, сказал:
– Не забывай, ты – человек, а человек жив Господом: Бог возвышает тебя, а умаляя себя, ты потакаешь дьяволу. Жизнь человека – повседневная борьба с дьяволом, мы не должны унижать и губить себя.
Они посидели и поговорили. Хахам Абрам в основном вел разговор о невзгодах жизни царя Давида. А вечером вдвоем отправились в синагогу. Занкана встретили как обычно – никто не прятал глаз, все вели себя так, словно ничего не случилось. По окончании молитвы, выходя из молельни, жали ему руку, желали спокойной ночи. И лишь Бено Какитела и Иорам Базаза задержались возле него. Бено долго не выпускал из своих руку руку Занкана.
– Надеюсь, ты в порядке, дорогой Занкан, это так?! – Ирония, звучавшая в его словах, больно отозвалась в сердце Занкана, но это была ерунда в сравнении с тем, что последовало далее. – Увы, мой Занкан, увы, какая замечательная у тебя еврейская семья, и дочь какая необыкновенная! – Он собирался было отойти от Занкана, как Иорам Базаза ухватил его за локоть, остановил. Бено погрузил руку в бороду и медленно протянул: – Занкан, ты человек мудрый, знаешь Тору, нусхури[19]19
Вид грузинского письма.
[Закрыть], наверняка ты помнишь, какой мудрец сказал: жизнь что лестница, кто-то поднимается, кто-то спускается?
Занкан покачал головой: нет, не помню. А Бено Какитела с лукавым выражением на лице смотрел на Занкана, который пытался сдержать рвущуюся наружу ироничную улыбку.
– Чего не хочешь, того не помнишь, да? – ввернул свое слово Иорам.
– Желаю вам спокойной ночи, – и Занкан повернулся к ним спиной.
Выйдя в дверь молельни, Иорам возмущенно говорил верующим: гордец этот ваш Занкан Зорабабели, даже не пожелал разговаривать с нами. Люди слушали и кивали ему, молча соглашаясь.
С этого дня Занкан оставался в молельне после молитвы и вел долгие беседы с хахамом Абрамом.
Эти беседы вернули его к самому себе, к нему возвратилась способность действовать.
Как-то после утренней молитвы Занкан возвращался домой. Любуясь фазанами, сгрудившимися у ручейка вдоль дороги, он почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Не оборачиваясь, проследил за полетом фазанов, вспугнутых чем-то и с криками опустившихся на берег Куры, и боковым зрением увидел всадника на коне. Баха Опимари широко улыбался Занкану. Соскочив с коня, он поспешил ему навстречу, приложился к плечу.
– Давно же мы не виделись с тобой, – с укором произнес улыбающийся Занкан, – не показываешь своих картин!
– Дом Опимари всегда открыт для Зорабабели! Да хоть сейчас поехали, посмотрим!
– Поехали!
Они миновали Петхаин, спустились в Куре. Кура ярилась, шумела, чайки с криками носились над мутной водой. Они вошли в наполненную светом мастерскую Бахи.
Занкан бывал здесь неоднократно. В петхаинском доме и в Арагвиспира у него висело несколько работ Бахи вместе с картинами, привезенными из Константинополя. Мастерская Бахи была хорошо знакома ему, но на этот раз только он вошел, как им овладело странное благостное чувство. Он не сразу понял, откуда оно взялось, но, осмотревшись, увидел новую работу Бахи – портрет царицы Тамар в царском одеянии, от которого исходила какая-то завораживающая духовность. Как зачарованный смотрел Занкан на лицо царицы, осененное Божественным лучом. Исходивший от нее покой воспринимался как сила, рождающая веру.
Занкан опустился на тахту и, сощурившись, смотрел на работу, возвышающуюся почти до самого потолка.
– Ты придал глазам царицы удивительный взор, – наконец произнес он, – впрочем, что взор, ты из тех мастеров, что дарят царям вечную жизнь. Пройдет время, не станет царицы, не станет и нас, а последующие поколения будут помнить и любить Тамар благодаря улыбке, взгляду, который ты даровал ей.
Он умолк. Снова уставился на портрет. Молчание нарушил Баха.
– Попробуй хотя бы фрукты, – сказал он Занкану. – Знаю, ничего другого в доме христианина ты есть не станешь.
– С удовольствием. Я еще не завтракал.
Баха вынес блюдо с фруктами. Занкан взял грушу, и в это время в поле его зрения попала картина, на которой был изображен юноша. Небольшая работа боком стояла возле портрета Тамар, как бы пытаясь укрыться за полой платья царицы. Занкан подошел и поставил полотно так, чтобы можно было лучше рассмотреть его: лицо юноши было исполнено печали. Печаль была настолько ощутима, казалось, она затягивала тебя.
– Молодой человек с умным взглядом, но почему столько боли и скорби? – спросил Занкан.
Баха ответил не сразу. Он, в свою очередь, смотрел на портрет юноши так, словно увидел его впервые.
– Он был моим другом, – сказал он погодя.
– Был?
– Его нет с нами.
Сердце у Занкана вдруг забилось.
– Я не узнаю его, кто это? – В голосе его чувствовалось волнение.
Выразительное молчание, последовавшее затем, убедило его в том, что догадка его верна. И Баха, похоже, все знал.
– Это Ушу, батоно Занкан, Ушу, сын Саурмага, – наконец сказал Баха, но Занкану и так все было ясно.
«Ушу, Ушу, Ушу, Саурмаг, Саурмаг… Ушу, сын Саурмага! – набатом звучало у него в голове, сам же он сидел, замерев, плотно сжав губы. – Человек, перевернувший мою жизнь, это из-за него все пошло кувырком», – продолжал звучать набат, и его звон принес с собою мысль, которую Занкан так тщетно искал для себя. Вот она – явилась вслед за тревожным звоном колокола, звучавшим у него в голове! Занкан был не тем человеком, кто легко принимает решение – он должен все осмыслить, взвесить, проверить. А тут он принял решение мгновенно и, не колеблясь, сказал:
– Это полотно должно принадлежать мне, – он указал рукой еще на одно, – и это тоже, они мне нужны, Баха!
Бачева полулежала на тахте, уставившись в потолок. Платье на ней задралось, оголив бедра, из-за расстегнутого лифа выглядывала грудь. Когда Эуда вошел в комнату с картинами в руках, она даже не шевельнулась. Люди входили в ее комнату, выходили – Бачева этого не замечала.
Взгляд Эуды воровато скользнул по обнаженной груди девушки, ее чувственным бедрам. У Эуды перехватило дыхание. Показалось, комната поплыла перед глазами. Он остановился, зажмурился, но продолжал видеть грудь и бедра Бачевы. Эуда открыл глаза, поставил картины у стены и вышел вон. Занкан ждал его за дверью. Эуда взял следующие две работы.
– Постой! – остановил его Занкан.
Эуда остановился. Занкан бесстрастно оглядел работы, которые парень держал в руках. На одном из полотен раскинулось безбрежное изумрудное поле. Шаловливый ветерок ерошил траву. Казалось, полю нет конца и края. Далеко на горизонте стояло отягченное плодами пестрое дерево. Эта картина говорила Занкану о бесконечности мира, о том, как много нужно работать, учиться, проливать пот, чтобы сорвать желанный плод. Бывало, глядя на картину, он размышлял о третьем дне творения. «Наверное, такими вот были первозданная твердь и первозданные воды, наверное, также дышала и колыхалась изумрудная трава. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод… И стало так». Проведя какое-то время наедине с этой картиной, он обычно предавался молитвам.
Вторая работа – «Орел» – принадлежала кисти константинопольского художника. Он привез ее, как и первую, из Византии, когда Бачеве было два года. Дом художника стоял на берегу моря, усеянном журавлями, слетевшими сюда в поисках корма. Занкан с трудом отыскал дорогу к дому художника. И все это время его сопровождал журавлиный крик и хлопанье крыльев. Когда Занкан спросил у художника, какую из его новых работ стоит перевезти через два моря, художник показал ему орла: эта картина, сказал он, заслуживает того, чтобы ее перевезли не через два, а через пять морей. Сказал это, скривив губы, и вернулся к своей работе. А оценил свою работу так: «За одну серебряную монету в горах Анатолии можно приобрести двух живых орлят, а за моего орла и пятисот монет мало. Живой орел умирает, а мой будет жить вечно».
Занкан какое-то время не отрывал глаз от картины, а потом сказал:
– Я удивляюсь, что ты ее оценил…
Занкан молча прохаживался по коридору, а Эуда мысленно рвался в комнату Бачевы. Перед глазами у него были бедра и обнаженная грудь Бачевы. Сердце истово билось.
– А теперь иди, – наконец сказал Занкан, и Эуда, подхватив картины, поспешил в комнату Бачевы. Бачева лежала в той же позе. Эуда зажмурился. «Разве это дело?! Ее бы оседлать сейчас и шпокать, шпокать безостановочно, иначе в чувство не приведешь!» Он положил картины на пол, подошел к тахте, не сводя глаз с ее розовых ног и рук и, затаив дыхание, осторожно погладил по бедру. Бачева даже не шевельнулась. А Эуду пробрала дрожь, и он медленно еще раз провел рукой по бедру девушки, заглядывая при этом ей в глаза. Но оцепенелый взгляд Бачевы ни о чем не говорил. Эуду бросило в холодный пот, он опустил руку и с сожалением взглянул на девушку. Бачева не осознавала даже его присутствия.
Парень вспомнил тот день, когда он, подхватив Бачеву на руки, мчался с ней к парому – каким горячим, возбуждающим было ее тело, но в тот день он не думал об этом, тогда его волновало совсем другое, поэтому возбуждающее ее тепло только мешало ему.
Эуда вернулся к картинам, приставил к стене и направился к выходу.
Занкан вопросительно взглянул на него. Эуда покачал головой.
– А теперь занеси эти две! – и Занкан указал на работы Опимари. Одна из них была портретом Ушу. Эуда молча взял картины и вошел в комнату Бачевы. Занкан затаил дыхание, превратился в слух. Ждал, что будет, – произойдет ли то, на что он так надеялся: сможет ли изображение Ушу потрясти ее застывшее сознание? Не дыша, он вслушивался в тишину, и казалось ему, она длится вечность. Он было подумал без всякой надежды, что и этот путь ни к чему не ведет, как вдруг раздался отчаянный вопль Бачевы.
Эуда стремглав выскочил из комнаты.
– Я ничего… Я ничего не сделал… Я просто выходил… Что она увидела?.. Ничего плохого я…
А сердце у Занкана полнилось несказанной радостью, он облегченно вздохнул и сказал покрасневшему, вспотевшему Эуде:
– А теперь занеси эти две и понаблюдай за ней.
Эуда отправился выполнять указание хозяина. В коридоре появилась Иохабед.
– Что происходит, батоно, почему кричала Бачева?! – спокойно осведомилась вечно невозмутимая Иохабед.
– Иди в свою комнату, Иохабед, в свое время все узнаешь, – ответил Занкан.
Иохабед покорилась.
– Она плачет, батоно, горько плачет! – сообщил хозяину приятную весть Эуда, появившись в коридоре. Для Занкана плач Бачевы звучал сладостной музыкой, пожалуй, он никогда не испытывал такой радости.
Эуда видел, как менялось выражение лица Занкана – даже взгляд у него зажегся. Он вдруг направился во двор сказать Шело, чтобы пригласили Тинати, – пусть поговорит с Бачевой. Но не успел он сделать и пары шагов, как неожиданно услышал голос Эуды:
– Я обманул тебя в прошлом году!
Занкан резко обернулся, мрачно уставился ему прямо в глаза. Опешивший Эуда потупил голову.
– В прошлом году, когда ты пришел к нам, я сказал, что похитил твою дочь из-за денег, я обманул тебя. – Эуда умолк.
– Слушаю тебя, – коротко и сухо произнес Занкан.
– Она мне нравилась, потому и похитил! – Эуда не узнавал собственного голоса, интонации. Словно говорил не он, а кто-то другой.
«Будь благословенно имя твое Господи! Это еще что?!»
Откровение Эуды Занкан посчитал еще одним знаком существования во времени. Он внимательно взглянул на него и подумал: «Благо, для чего эта ложь понадобилась». И повернувшись, продолжил свой путь.
Бачева никогда не видела портретов.
Отец часто привозил из Константинополя полотна, иные висели у них в Тбилиси, иные в доме на берегу Черной Арагви, но портретов среди них не было. Создание портретов считалось богохульством, ибо изображение лика человеческого означает превращение его в идола, и по этой причине в домах Занкана не было подобных работ.
Она полулежала на тахте без единой мысли в голове, уставясь в потолок, когда Эуда внес в комнату два полотна. Нет, полотен она не видела, глаза ее все еще были вперены в потолок, но всем своим телом она вдруг ощутила, что в комнате происходит что-то необычное. Бачева медленно опустила глаза и наткнулась на лик Ушу. Ужас голодным зубастым волком набросился на нее, и она отчаянно закричала. Застывшие мысли пришли в движение. И как только они пришли в движение, первая ее мысль была: «Все это проделки бесов», – и она повернулась лицом к стене. Но лик Ушу по-прежнему стоял перед глазами. Ушу смотрел на нее укоризненно и что-то выговаривал ей. И она снова повернулась к нему лицом, в изумлении уставилась на портрет и больше уже не отворачивалась: потому что Ушу упрекал ее за то, что она бежит от него. И в тот же миг из ее глаз хлынули слезы.
Сколько времени прошло со смерти Ушу! Сегодня дочь Занкана впервые заплакала по любимому. Доныне ее как бы не было среди живых. Потрясение, которое пережила столица Грузии несколько месяцев назад, только сейчас встряхнуло ее пробудившееся сознание, и тот, в чьих объятиях она представляла себя в своих сладких девичьих грезах, умер для нее в этот миг.
Бачева горько причитала.
Занкану доставлял наслаждение горький плач дочери. Эти минуты, этот день казался ему самым счастливым в его жизни. На глазах выступили слезы счастья – он возблагодарил Господа за то, что тот услышал его мольбы. Занкан спустился во двор и приказал Шело немедленно послать кого-нибудь к Тинати и передать ей, что Занкан просит ее приехать. Он не вернулся в дом и ждал Тинати во дворе, хотя шел мелкий дождь, и мокрые фазаны – украшение двора – выглядели жалким образом. Тинати не заставила себя долго ждать – она примчалась на своем коне и взволнованно крикнула поспешившему ей навстречу Занкану:
– Что случилось?
Занкан спокойно отвечал:
– Бачева плачет, ей станет легче, если ты побудешь с ней. – Он проводил Тинати до дверей комнаты дочери, а сам, в какой-то мере умиротворенный, отправился к себе.
Вечером, когда зашло солнце и замершие в сгущающихся сумерках окрестности как бы слились с небесами, Занкан взял Бачеву за руку и сошел с нею во двор. Здесь он попросил ее накормить фазанов, и Бачева молча принялась выполнять просьбу отца.
А Занкан призвал к себе Эуду.
– Обманул, говоришь? – спросил он сухо.
– Да, батоно, я не из-за денег ее похитил, нравилась она мне, я ее в жены хотел.
Занкан молчал. Смотрел то на Эуду, то на стол.
– Сколько тебе лет?
– Думаю в Песах двадцать один стукнет, а может, двадцать два.
«Много воды утекло», – подумал Занкан. Он сидел, уставясь в стол, и думал о необходимости существования во времени. «Это самое главное. Остальное – в руках Божьих. Но с парнем надо поработать».
– Скажи-ка мне, Эуда, сколько у тебя за душой?
Эуда растерянно смотрел на хозяина – он не понял вопроса.
– Сколько у тебя денег? В кармане или что-то отложено? Десять, сто монет?
– Сто? О чем ты говоришь, батоно?! Или десять? Я даже не видел столько монет вместе. – Эуда от души рассмеялся, что свидетельствовало о его искренности.
Занкан молчал – мысленно прорабатывал неожиданный шанс продлиться в времени.
– Как ты думаешь, Эуда, на что требуется больше ума – чтобы заработать деньги или потратить их? – наконец спросил он у Эуды.
Эуда громко рассмеялся в ответ.
– Чтобы потратить деньги, большого ума не требуется! А вот заработать их гораздо труднее. Для этого мозги нужны. А тратить – вынул из кармана, и все дела!
Занкан молча смотрел на Эуду. Потом сказал:
– Но деньги зарабатывали и хамори[20]20
Дурак (груз.).
[Закрыть].
Эуда расхохотался:
– Богатого хамори я что-то не встречал!
– И не встретишь, во-первых, потому, что, сколько бы денег он ни заработал, ему никогда не быть богатым, а во-вторых, потому, что мы, евреи, ищем глупцов среди бедняков, а не среди тех, кому повезло.
– Повезло? А почему повезло? Может быть, дело в том…
«Нет, он не дурак. Почувствуй он силу, возьмет быка за рога!» – подумал Занкан.
– Стало быть, как ты говоришь, ты похитил мою дочь не из-за денег, а потому что она тебе нравилась? – спросил он тихо.
– Это так, – растерянно отвечал Эуда.
– Да?! – В голосе Занкана прозвучало удивление, словно он только что узнал об этом. Он даже не взглянул на Эуду, взгляд его был устремлен во двор. Потом не спеша повернулся к парню и, пристально глядя ему в глаза, сказал: – А теперь скажи мне, Эуда, почему ты обманул меня утром и продолжаешь обманывать сейчас, утверждая, что тебе нравится моя дочь?
Эуда ответил не сразу. Занкан почувствовал, парень смотрит на него как на ровню.
– Да, ты прав, я обманул тебя! – Эуда говорил медленно, почти цедил сквозь зубы. – Но сейчас дело обстоит по-другому, и, если смогу, наверняка похищу ее.
– Почему, – так же тихо спросил Занкан, – тебе так предпочтительнее?
– Я так хочу! – Голос Эуды звучал твердо. – Мне нравится она, и я ее похищу – мне плевать, что она тут с кем-то связалась. Кто слыхал про женский ум?! – И он направился к двери.
Занкан спокойно смотрел ему вслед. Когда он вышел, Занкан откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Какое-то время сидел, погрузившись в свои мысли. Потом встал, позвал Шело и велел привести Эуду. Через несколько минут Эуда вновь стоял перед ним.
– Стало быть, ты сказал… А что ты сказал? Я ничего не понял, похоже, ты был раздражен.
Эуда молча смотрел на Занкана. А Занкану нравилось, что он не спешит с ответом.
– Ты знатный человек, батоно, но я все же скажу: мне нравится твоя дочь…
– Ты же знаешь, что с ней случилось? Она крестилась, даже хотела венчаться, оказывается…
Эуда как-то странно скривил лицо:
– Ну и что?
– А то, что это знает весь город… Иные ее даже не признают за еврейку.
– Мне плевать! – Лицо Эуды выражало презрение. – Через неделю… через неделю она все забудет… А почему, собственно, она не еврейка?
– Многие так говорят…
«Он больше не злится, говорит то, что думает», – подумал Занкан.
– Я говорю тебе, Занкан, я сделаю все, чтобы через неделю она все забыла, она позабудет и купание в Куре, а если вспомнит, то со смехом.
Занкан открыл ящик стола, вынул оттуда небольшой кошель и высыпал на стол серебро. Потом не говоря ни слова, подошел к окну.
Эуда с изумлением смотрел на хозяина.
– Мы сделаем так, Эуда, – наконец заговорил он, – деньги, что лежат на столе, отныне твои! Тысяча серебряных монет. Таких денег в городе и у десяти человек не наберется. С этой минуты ты богат. Я даю тебе шесть месяцев. Иди куда хочешь, делай что хочешь… Пусть будет даже год…
– Почему ты даешь мне эти деньги? – тихо спросил Эуда.
Занкан помолчал, потом сделал несколько шагов к нему, обошел и, оказавшись у него за спиной, сказал:
– Я испытываю тебя, Эуда, и не скрываю, что испытываю. Бедный человек жалок, а богатый, денежный человек каждый день подвергается опасности… и деньги выявляют его мужество. Деньги – огромная сила. А испытание состоит в том, как ты используешь свои деньги, свою силу, для чего… Эти деньги твои. Тебе не придется возвращать даже пятака. Я не спрошу и того, на что ты их потратил. – Занкан подошел к столу, собрал серебро и опустил в кошель. – Я потребую от тебя отчета, не денег, – сказал Занкан, открывая двери, – впрочем, можешь и не отчитываться. Все будет и без того ясно. Не скроется! А о Бачеве поговорим позднее, через полгода или через год.
Занкан сунул Эуде кошель в руки и вышел из комнаты.
Эуда какое-то время стоял, не шевелясь. В руках у него были огромные деньги. «Ну вот я богат, а теперь что?» – думал он.






