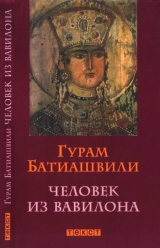
Текст книги "Человек из Вавилона"
Автор книги: Гурам Батиашвили
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
Эстер
Когда Занкан с сопровождавшими его людьми скрылся из глаз, Иохабед обратилась к Бачеве:
– А где это Аран? (Занкан сказал ей, что отправляется в Аран.) – Бачева, думая о своем, не расслышала вопроса. Почему-то ею овладел страх. Подсознательно она чувствовала, что с отъездом отца ее жизнь резко изменится, и это пугало ее.
Мать повторила свой вопрос, и Бачева нехотя ответила:
– Понятия не имею, мама, по-моему, это там, где очень жарко. – И ушла в свою комнату.
Предстоящие крещение и венчание хоть и внушали трепет Бачеве, но влечение к Ушу было куда сильнее страха. Все ее помыслы и желания были связаны с ним. Страхи меркли перед ними: Ушу ведь будет рядом с ней, чего же ей бояться. Но стоило ей представить себя в постели с Ушу, как ее охватывал сладостный трепет, хотелось, чтобы он длился вечно.
Пестунья Эстер заглядывала в глаза своей воспитаннице и шепотом, хотя никого, кроме них, в комнате не было, спрашивала: «Тебя что-нибудь беспокоит, детка?» – «Нет, няня, ничего». – «Помни, родная, высказанное горе – это сраженный наповал враг», – снова шепотом, едва слышно внушала Эстер. Ласковость няни ставила Бачеву в тупик, она прятала от нее глаза, потому что Эстер обладала даром заглядывать ей в душу. Пряча глаза, она тем не менее, как малое дитя, прижималась к ее груди, и та так нежно обнимала ее, так ласкала, что Бачева была готова раскрыть перед ней душу.
Картина, увиденная Эстер на поле Абулетисдзе, не давала ей права вынести окончательное решение, но она доверяла своей интуиции, хоть и не могла поверить, что ее воспитанница может полюбить нееврея. Поэтому ей хотелось поговорить с Занканом. Она решила переждать субботу, благословенный Господом день, и в воскресенье после обеда попросить Занкана выслушать ее. Она собиралась рассказать ему о возможной опасности и получить совет, как ей быть, но в воскресенье Занкан ускользнул от нее, как ускользает маленький озорник от задремавшей матери.
И Эстер решила во сто крат усилить свое внимание, не выпускать Бачеву из поля зрения.
Когда утреннее солнце достигло зенита и высветило все закоулки города, Бачева сказала Эстер, что поедет к Тинати, и уехала.
Эстер тут же накинула на голову платок, выскочила из дома следом за ней и маленькими улочками, кратким путем, добежала до дома Тинати раньше Бачевы. Бачева появилась верхом на неторопливо идущем коне, спокойно оглядела окрестности. Эстер в ужасе отпрянула – Бачева была без сопровождающего.
В церкви царила прохлада, особенно приятная после пыльной раскаленной от зноя улицы. Поначалу Бачева ничего не видела, хотя повсюду горели свечи. Ушу подошел к ней, взял за локоть. Под конец, когда ее глаза привыкли к полумраку церкви, Бачева увидела молящихся. Они неслышно шевелили губами. «И эти, как мы, о чем-то просят Господа!» – с облегчением подумала Бачева. Она уже освоилась в сумраке церкви. Было тихо. Большое количество икон поразило Бачеву. На иконах были изображены люди. В глаза бросалось обилие золотого цвета. Куда бы ни падал ее взгляд, отовсюду ястребом налетал на нее желто-золотистый цвет. «Зачем им столько изображений людей или этого золота?» Хотела было спросить у Тинати, но Тинати рядом не было, и это тоже ее угнетало. Будь Тинати рядом, она не чувствовала бы себя такой скованной. Однако Тинати отказалась пойти с ней, сославшись на головную боль.
Бачева была загипнотизирована увиденным в такой степени, что не могла говорить. Они подошли к молодому человеку со спокойным взглядом и доброй улыбкой – Ушу сказал про него, что это его духовный отец. Бачева, разумеется, ничего не поняла, кроме того, что молодой человек был, оказывается, отцом Ушу. Не поняла она и того, что говорил ей этот молодой человек. Он произносил слова как-то странно, напевно. «Никакой он не отец, – вдруг пронеслось у нее в голове, – наверное, это раби, раби Ушу». И кивнула головой священнику. Он что-то спрашивал ее, и Бачева с улыбкой кивала ему – она согласна на все. Да, да, конечно же она сама пожелала прийти сюда, нет, нет, силой ее никто не приводил, ну да, она пришла сюда, чтобы креститься, конечно, она хочет этого сама. Почему? Из-за Ушу, ради Ушу… Она должна стать его супругой… Быть рядом с ним… Никто и ничто не сможет помешать им быть вместе…
– Да благословит тебя Бог! – сказал «раби» Ушу.
«Он говорит, как хахам Абрам», – пронеслось у нее в голове.
– Тогда начнем! – вновь с улыбкой сказал «раби» Ушу и позвал Бачеву с Ушу за собой. Отец Ростом шел, что-то бормоча себе под нос. Ушу и Бачева следовали за ним.
Ушу ободряюще улыбался Бачеве.
Они вышли на залитый солнцем церковный двор. Миновав двор, пошли по узкой тропинке. Отец Ростом шел впереди. За его широкой спиной ничего не было видно. Бачева не могла взять в толк, куда они идут. Ушу что-то говорил ей, но она не слышала его. Самое главное – он был рядом, подле нее. Из-под ног у них неожиданно выпорхнули фазаны. Отец Ростом остановился, приложил руку козырьком ко лбу и посмотрел на фазанов. Потом, покачав головой, продолжил путь.
Они вышли к берегу Куры. «Раби» Ушу, не снимая рясы, вошел в мутную воду и протянул руку Бачеве – следуй за мной. Бачева уставилась на Ушу – как ей быть? Ушу, улыбаясь, кивнул головой. И Бачева вошла в воду вслед за отцом Ростомом. Холодная Кура злобным щенком накинулась на нее.
Отец Ростом что-то бормотал неслышно. Время от времени задавал Бачеве вопросы, которые были ей не совсем понятны, но она, улыбаясь, кивала ему головой. Отец Ростом зачерпнул горстью воду и вылил ее на голову Бачеве. Один раз, второй, третий. Потом положил ей руку на голову и несильно надавил, приглашая окунуться с головой. Бачева опять вопросительно посмотрела на Ушу. Ушу снова улыбнулся ей – делай, как говорят. Бачева трижды окунулась с головой. Волосы у нее разметались, вода ручьями стекала с нее. Потом «раби» Ушу вынул из кармана золотой крестик, приник губами ко лбу Бачевы и нараспев произнес:
– Да благословит тебя Бог, Сидония. Твоей прародительницей была Сидония, приобщившая наши сердца к вере Христовой. Да хранит тебя ее благодать, – отец Ростом протянул руку Бачеве, – пойдем, Сидония, – и пошел впереди нее. И в это время с висячего моста через Куру раздался крик:
– Помогите ей, помогите!
И в тот же миг что-то с шумом упало в реку. Водяные брызги почти достигли моста. Все взоры устремились в ту сторону. Река невозмутимо несла свои воды, лишь там, откуда только что донесся шум падения, вода трепетала, как сердце испуганного ребенка.
– Она упала здесь, вот здесь! – кричал стоящий на мосту человек, тыча пальцем под мост. Отец Ростом, не раздумывая, поплыл к мосту. Поняв, что ряса помешает ему, он скинул ее и бросил Бачеве. Бачева, потрясенная, застыв, стояла на месте, она даже не заметила брошенной ей рясы. Ушу между тем прыгнул в воду, и вскоре догнал отца Ростома. Через несколько минут они были уже там, куда указывал человек на мосту. Первым нырнул Ушу, за ним – отец Ростом. Но тщетно.
– Не бесовское ли это наваждение, – спросил отец Ростом Ушу, – каким образом тело так вдруг исчезло? – А потом крикнул человеку на мосту: – Ты уверен, что кто-то упал? Может быть, тебе показалось?
– Я тебе покажу «показалось», если сойду вниз! Что значит показалось?! Она вот здесь находилась, эта женщина!
В этот момент раздался душераздирающий крик Бачевы. Вода вынесла утопленницу к месту, где она стояла, а вспененная волна буквально швырнула ее Бачеве под ноги.
Отец Ростом и Ушу быстро поплыли назад. Ушу схватил Бачеву за руку и увлек к берегу, а отец Ростом, подхватив утопленницу под плечи, с трудом вытащил ее на берег. Бачева почти задыхалась от пережитого. Отец Ростом уложил труп на землю, перекрестился и сказал:
– Да славится, Господи, имя твое! Эта женщина не утопленница, она и капли воды не проглотила… Но как мгновенно почернела! У нее, похоже, разорвалось сердце, а потом она упала в реку. – Он пригляделся к ней и воскликнул: – Гляди-ка, что у нее на шее?! Она иудейка! – Отец Ростом осенил себя крестом и испуганно подался назад.
Услышав это, Бачева встала, Ушу мгновенно оказался рядом. Пошатываясь, подошла взглянуть на труп. Впрочем, в этом не было необходимости… Она и так знала, кто это. Она чувствовала… Она все понимала, тем не менее, ухватившись рукой за Ушу, она тащила его с собой. Подошла, взглянула… Конечно же это Эстер, ее пестунья Эстер! Она ведь всегда была рядом с Бачевой, так почему, почему Бачева решила, что сегодня она оставит ее?!
Казалось, глаза няни остались открытыми лишь для того, чтобы не сводить изумленного взгляда с крестика, покачивающегося на шее у Бачевы. Так, во всяком случае, ей почудилось… И ею вдруг овладел стыд – она зажала крестик в руке, остановила его покачивание.
В тот вечер, когда тело Эстер опустили в землю и хахам Абрам читал заупокойную молитву, а собравшиеся вокруг могилы опечаленные мужчины вторили ему «Амен!», маленький мальчишка, взобравшийся тут же на дерево, крикнул во весь голос:
– Глядите, на Бачеве крест, Бачева христианка!
Исрелико Кривляка попятился назад и, повернувшись, что было духу бросился прочь. Исхакия Карлик, не отрывая презрительного взгляда от Бачевы, ретировался вслед за ним. Даниэл Зрелый также припустил вниз по склону холма, на котором находилось кладбище. А Шатули из Карели, протянув руку в сторону Бачевы, крикнул:
– Будь проклята созданная на любви семья, которая позавидует вашему богатству!
– Остановитесь, люди! Наш долг перед Господом – отдать дань уважения почившей! – послышался спокойный голос хахама Абрама. Все повернулись к нему, убегавшие остановились, а хахам Абрам, обратившись к Бачеве, сказал: – Моя бедная, несчастная дочь Занкана, ты, наверное, не знаешь, что на похоронах иудея или иудейки женщины не присутствуют – ни еврейки, ни нееврейки. В присутствии женщины мы не можем исполнять необходимый ритуал. – Хахам Абрам сделал паузу и с доброй улыбкой добавил: – Прости нас, дочь Занкана!
Бачева повернулась, сделала несколько шагов и остановилась. Почувствовала, как взгляды собравшихся пронзили ей спину. Хотела было что-то сказать, но не смогла. Слезы душили ее, но никак не могли вырваться наружу. И люди молчали, не произносили ни слова, но видели бы вы их глаза – Мошии, Кобии Цапли, Арона, Дано…
И Бачева ушла.
А хахам Абрам подумал: «И все же она осталась иудейкой, подчинилась нашему обычаю».
И тихий, спокойный голос раби Абрама прозвучал в наступившей тишине. Он читал кадиш[16]16
Заупокойная молитва.
[Закрыть]. Люди вторили ему: «Амен!» И этот скорбный возглас несся над кладбищем.
Бачева спустилась с холма. Там, внизу, ее ждал Ушу. На миг она замешкалась. Возгласы «Амен!» лишь усиливали владевшее ею чувство одиночества. К нему прибавилось ощущение полной беспомощности. Она пошла в другую сторону, где никто не ждал ее, и она могла побыть в полном одиночестве.
Исав бен Ханох
Исав бен Ханох не жалел ни об одном своем шаге, ни об одном своем решении. С Андреем Боголюбским он был дружен с юношеских лет. Смуглый небольшого роста Исав по-настоящему любил этого белокурого краснощекого горлана. И Андрей был предан ему. Ничто не омрачало их дружбы.
Андрей был вынослив, как мул. В бесконечных войнах с соседними княжествами (какой бы кровопролитной ни была эта война, Исав обычно называл ее распрей – у соседей такие огромные леса, реки и пахотные земли, надо отобрать у них хотя бы часть) эта выносливость часто выручала его, но он был и упрям, как мул! Сколько раз Исав бен Ханох пытался примирить братьев – «Да уступи ты Всеволоду, не упрямься», – ничего не получалось. Во-первых, великий князь был не в меру строптив, а во-вторых, убежден в собственной правоте – «Будь Святослав великим князем, а я неимущим, он бы отнял у меня жизнь из страха, что я отниму у него трон».
И великий князь был прав. От Всеволода никто не ждал добра, даже Исав бен Ханох – он это сердцем чуял. Как-то раз, когда великий князь вернулся с охоты, он присел рядом с ним и сказал:
– Если у человека все отнять, уж лучше его убить!
– Неужели смерть предпочтительнее бедности?
– Да, для многих предпочтительнее, – отвечал Исав бен Ханох, – и для тебя в том числе. Либо он должен быть сыт, либо убей его. Ты все отнял у Всеволода, и он, верно, только о том и думает, как бы умертвить тебя.
Андрей Боголюбский захохотал. Смеялся от души. Исав бен Ханох же сокрушенно качал головой. После той памятной беседы он не видел великого князя – не видел живым, а то мертвым…
Жена Андрея – круглолицая голубоглазая княгиня Екатерина – ложась в постель (луна уже сверкала на небосклоне, доколе же дожидаться отправившегося на охоту князя!), откинула одеяло и увидела на подушке отсеченную голову мужа. Поначалу она даже не признала мужа в этом почерневшем куске мяса, окрасившем кровью подушку, а потом…
Отчаянный крик княгини потряс дворец.
Всеволод явился, когда во дворце собрались все близкие великого князя, преданные ему бояре. Верхом на коне он въехал в зал, стегая кнутом каждого, кто попадался под руку. Потом велел позвать племянника – Юрия. Почувствовав опасность, княгиня подняла голову.
– Мой сын был с отцом на охоте, и он остался жив? – спросила она.
Исав бен Ханох понял хитрость княгини, низко поклонившись Всеволоду, он сказал:
– Продай мне мать и сына.
Какое-то время Всеволод не сводил с него холодного взгляда, а потом, осклабившись, громко произнес:
– Продам, но дорого возьму…
– Настоящая дружба никогда не стоила дешево.
Новый князь-братоубийца потребовал у Исава бен Ханоха немедленно оставить Суздаль:
– Тебе нет здесь места, а брата я сам предам земле.
В ту же ночь Исав бен Ханох покинул Суздаль вместе с супругой своего друга Екатериной и его сыном юным Юрием. А Всеволод пожалел о своем приказе: не надо было изгонять этого жида, раз он умеет так дружить.
А Исав ни о чем не жалел. Он взял под свое покровительство семью друга. Вот уже сколько времени они живут в стране половцев. Здесь он ведет свои дела, здесь поставил на ноги своих детей, и дети уже живут своей жизнью, здесь его все уважают. Он достаточно богатый человек, но основное его богатство, считают люди, это его талант оказывать помощь ближним. Непременное правило для еврея – десятую часть своего дохода отдавать беднякам – он оставлял без внимания. Отдавал гораздо больше. Кому только не протягивал руку помощи – христианину, мусульманину, еврею, он не делал между ними различия.
– Разве мы все не люди? – говорил он с улыбкой. – У всех у нас есть рот и желудок, все мы дышим и все умираем.
Вечно улыбающийся, ни от кого не зависящий Исав говаривал обычно:
– Господь не назначал меня старейшиной золотых запасов, и ключа не давал, чтобы я хранил то, что он даровал мне. Это он раздает злато моей рукой, и я благодарен, что для такого благого дела он избрал меня.
– Не будь у меня эти чурбаны вместо ног, мой дорогой Занкан, ты знаешь, я бы вскочил, как бывало, и бросился тебе навстречу, – воскликнул Исав бен Ханох, ублаготворенный лицезрением Занкана. Занкан сам подошел к нему, нагнулся, обнял и поцеловал в плечо.
Они долго беседовали, пообедали вместе, откушали фруктов, много смеялись (Исав любил рассказывать смешные истории), и, когда солнце стало клониться к закату, Занкан приступил к главному.
– Ты очень дружил с семьей Боголюбских… – сказал он.
– Я и сейчас дружен с ними… Эх, достойным человеком был великий князь!
Занкан рассказал Исаву бен Ханоху о цели своего приезда в землю половскую, хотя умолчал о самом главном – что грузины прочат Юрия в мужья своей царицы. Он сказал только, что некий достойный человек желает сделать его своим зятем, юношу ждет большое будущее, и он просит совета Исава, как подступиться к этому делу.
– Эх, как почитают грузины иноземцев! – с улыбкой покачал головой Исав. – Зачем им Боголюбский, чем он славен?
– Он княжеских кровей и единоверец, – отвечал Занкан.
Исав молчал, уставившись немигающим взглядом на столик с фруктами, потом заглянул Занкану в самую душу и спросил:
– Скажи мне, зачем ты встрял в это дело?
Это был тот вопрос, на который Занкан не имел ответа. Открой он все Исаву, он должен будет сказать, что действует по поручению царского дарбази, а этого ему пока не хотелось делать.
Поэтому, как бы между прочим, он проговорил:
– Меня попросили, а я не смог отказать.
Исав бен Ханох промолчал в ответ.
– А как насчет того, чтобы отвертеться от этого? – наконец спросил он. – Если есть возможность, не пожалей и злата, дабы уклониться от этого дела.
Занкан не произнес ни слова. Было очевидно, Исаву не нравился выбор грузинского вельможи, а Занкан пожалел о своем визите. «Почему я сюда явился, мне поручили договориться с Боголюбскими, а не советоваться с Исавом!»
Но ведь это дело делается во благо Грузии!
– Почему, зачем грузины так льнут к иноземцам? Почему вы думаете, что они лучше грузин?! Я не советую тебе встревать в это дело. Лучше подумай о том, как бы отбояриться от него.
– А если это дело принесет пользу моей стране? – спросил Занкан.
Исав не спешил с ответом.
– Мне нравится выражение «моя страна», – наконец заговорил он, – да, это твоя страна, и ты должен служить ей, но… – Тут Исав сделал паузу. – А если выйдет не так, как ты предполагаешь? Если этот человек не принесет блага твоей стране? – Он умолк. И Занкан молчал. Вошел на цыпочках слуга, неслышно зажег свечи. – Скажу тебе откровенно, Занкан, – продолжил Исав, – Боголюбский не принесет блага твоей Грузии, и когда они убедятся, какого человека избрали в зятья…
Они еще долго беседовали, Исав бен Ханох и Занкан. Когда Занкан ушел от него, на небе сверкали мириады звезд. Он вспомнил Иошуа и подумал: «Да, сидение дома ничего хорошего не приносит, становишься подозрительным и недоверчивым».
И он очень просто обошел ответ, который искал. Он был рядом, совсем близко, а Занкан не заметил его и продолжил путь.
Иохабед
Отец Занкана Зорабабели Мордехай имел обыкновение за несколько дней до Рош Ашани объезжать картлийские деревни и города, где жили евреи. Там он заглядывал в синагоги, просил указать ему дома бедняков. Затем обходил эти дома и одаривал нуждающихся деньгами: Новый год идет, все должны радоваться, кто знает, что нас ждет в следующем году!
У иных даже присаживался во дворе, просил принести колодезную воду, беседовал с хозяином и вновь отправлялся в путь. Домой возвращался под самый Новый год. За новогодний стол садился довольный собой, в хорошем настроении – чем больше он раздавал серебра беднякам, тем отраднее было у него на душе. Он начал свою благотворительную деятельность в тридцатилетием возрасте и занимался ею до конца своих дней. Он никогда никому не посылал денег, сам ходил по городам и весям, сам находил обездоленных. Был уверен, что добро надо творить именно так. В тот день, когда ему исполнилось девяносто два года, он лег вечером в постель, произнес свое обычное «Шма, Исраэл» и заснул.
Наутро он не повторил этих слов – не проснулся.
Иохабед он увидел в Карели в доме Ицхака по прозвищу Хайло. Большеглазая, пышногрудая с маленьким пухлым ртом, она напоминала олененка. «Этому олененку не место в землянке», – подумал Мордехай и повернулся к Ицхаку:
– У меня парень восемнадцати лет, твоей дочери – четырнадцать, – он не отрывал взгляда от Иохабед, – похоже, Господь помог мне найти невесту для сына. Что скажешь на это?
– Ну что я могу сказать, кроме «Амен!», – ответствовал Ицхак.
– Тогда будем считать, что мой Занкан и твоя дочь помолвлены. Мы приедем в Симхат Тору, приготовьтесь к хупе. – Мордехай Зорабабели еще раз взглянул на Иохабед и снова подумал: «Нет, ей не место в землянке». Потом поинтересовался, знает ли она грамоту. Ицхак Хайло улыбнулся:
– Кто дал нам такое счастье, батоно, или деньги, да и нужно ли это вообще… Какое добро от учения?
Зорабабели помрачнел и после продолжительного раздумья сказал:
– Тогда мы поступим так: вот тебе деньги, завтра же начни обучать ее еврейскому и грузинскому письму, а в осенний праздник справим не свадьбу, а помолвку. Поженим же их после Хануки. Это время достаточно для овладения грамотой. Знание – сила, ты ведь слышал об этом.
Перспектива породниться с достойным человеком вряд ли обрадовала Ицхака Хайло в такой степени, как серебро, которое Мордехай, не считая, высыпал из кармана ему в горсть. Потом позвал дочь хозяина, спросил, как ее зовут.
– Отныне ты помолвлена с моим сыном Занканом Зорабабели, – сказал он ей. – Ты должна научиться грамоте, чтобы уметь читать. Твоего будущего мужа Торе обучал такой учитель, которого уже не сыщешь в самом Иерусалиме. – И, повернувшись к Ицхаку, добавил: – Перед помолвкой я пришлю моих людей, они все подготовят. А ее приданое будет ее честность и грамотность.
На следующее утро после возвращения в Тбилиси, Мордехай позвал сына.
– Поздравь меня, сынок, я нашел себе невестку, а тебе жену. Девушку выбрал – такая по городу Тбилиси еще не ходила!
В осенний праздник Симхат Тора они действительно приехали в Карели. Сойдя с коня, Мордехай справился у Иохабед, как идут дела с учебой. Но Ицхак Хайло опередил дочь с ответом: даже самым ретивым, сказал он, не снилось, как она занимается. Мордехай оставил еще одну пригоршню серебра – ничего, де, не жалей для учебы.
За прошедшие два месяца Иохабед еще более похорошела. Мордехай заметил, что и сын и жена одобряют его выбор. Это привело его в хорошее расположение духа. Естественно, ему было невдомек, что познания Иохабед оставались на том же уровне, что и до Нового года. Нужду порождают не только невезение и беспомощность, но и малодушие и недомыслие.
Ицхак Хайло, как истинный голыш, увидев столько серебра, чуть было не лишился сознания. Не мешкая, вырыл в своей же землянке ямку, ссыпал серебро в горшок и закопал. А сверху покрыл рогожей. Ночами Ицхак спал на рогоже, а днем сидел тут же, уставясь на заветное место горящим взглядом и думал: «Ну чем я не султан?! Захочу, справлю себе пятьдесят атласных халатов и кош!» Жене не сказал, что стал обладателем такой кучи серебра, и уж тем более дочери. «А какое ей до этого дело?! Она здесь гость. Не сегодня-завтра появится тот человек, заберет ее и конец!» Учить Иохабед грамоте ему и в голову не приходило. «Моя дочь и так прекрасно все знает: умеет варить горох и стирать белье на речке. Чего же еще?!»
Побывав на свадьбе и оценив богатство свояка, Ицхак Хайло вернулся домой другим человеком – исполненным спеси и чванства. На вчерашних своих сотоварищей смотрел свысока – кто вы, мол, такие в сравнении со мной. А карельцы – будь то грузины или евреи – угощали его тычками по голове: ты, мол, вообразил себя ханом на селе?! На что Ицхак Хайло отвечал: плевал я на вашего хана, мать его за ногу.
Он не отходил от рогожи, днями и ночами лежал или сидел на ней, бормоча себе под нос: «Чем я не хан? Ну чем я не хан?!»
– Вставай наконец, – кричала ему жена, – пойди пройдись по деревне! Что ты сторожишь эту рогожу?!
«Попробуй не посторожи, – думал Ицхак, – черти сразу ею завладеют». Опасение за свою мошну и постоянное соперничество с гипотетическим ханом помутили его сознание. Он стал забывчив и рассеян, постепенно болезнь прогрессировала и очень скоро обострилась настолько, что он и не помнил, почему сторожит свою рогожу. Он слег и уже не мог подняться с нее. Разумеется, о кладе, зарытом под рогожей, он и думать забыл и спустя время отдал Богу душу, будучи таким же убогим, каким был до появления Мордехая Зорабабели. Жена не знала о зарытом в землю кладе, и Ицхака похоронили на деньги, собранные сельчанами.
Позднее Мордехай и Занкан обнаружили, что Иохабед неграмотна. Они, конечно, расстроились, наняли ей учителя, но ничего из этого не вышло. Очаровательная Иохабед не отличалась манерами и умением вести беседу. Пока она молчала, от нее трудно было отвести глаза, но стоило ей открыть рот, как возникало желание заткнуть уши. Мордехай был откровенно разочарован. «Похоже, Бог решил покарать меня, – думал он, – и покарал». Выросшая в нищей семье Иохабед, войдя в семью Зорабабели, усвоила командный тон разговора. По отношению к слугам проявляла такую жестокость, что у Мордехая и его жены сжималось сердце от жалости к ним. Со свекром и свекровью была резка и неучтива, словно она являлась владелицей дворца и по доброте душевной дала им приют. Поэтому они решили отделиться от молодых. Там же в Петхаине построили себе новое жилище, а дворец оставили сыну с невесткой.
Не порадовала семью Зорабабели Иохабед и в другом плане – прошло довольно много времени прежде, чем она зачала сына. Мордехай и за это корил себя: «Как угораздило меня нарваться на бесплодную женщину!» Это укрепляло его уверенность, что Господь карает его, но, когда через десять лет родился мальчик, Мордехай Зорабабели не уставал благодарить Господа: наконец-то он сменил свой гнев на милость!
Узнав о гибели Эстер, Иохабед воскликнула «Ой, бедняжка!» И только. Провожать ее в последний путь она не стала – Эстер не та фигура, чтобы Иохабед беспокоилась на этот счет.
На другое утро, расчесывая во дворе волосы, Иохабед увидела Хаву по прозвищу Мегера. Хава снабжала Зорабабели кошерным молоком, мацони и сыром.
– Отчего умерла твоя соседка? – громко спросила ее Иохабед.
От Хавы не укрылся наплевательский тон Иохабед в адрес той, что воспитала ей дочь. Хава поняла, кончина Эстер, ее соседки и подруги, никак не тронула Иохабед.
– Эстер бы жить да жить, но твоя дочь убила ее! – какой «мегерой» была бы Хава, не скажи она в лицо Иохабед все, что думала, – ей не нравилась невестка Зорабабели. Занкан был учтив и скромен, а Иохабед ведет себя так, будто весь Петхаин принадлежит ей. Вчера все еврейство Петхаина оплакивало Эстер. Никто не произнес ни звука по поводу того, что Иохабед не соизволила проводить Эстер в последний путь – все было ясно и так. О Бачеве же все в один голос говорили – «эта бедняжка».
Иохабед потрясла головой, еще раз провела золотым персидским гребнем по волосам и насмешливо спросила Хаву:
– Чего кусаешь мою дочь, Хава?
Золотой гребень резал Хаве глаза, но с этим она еще могла смириться. Ее раздражало, что эту женщину ничего, кроме собственных волос, лица и задницы, не интересовало, даже то, что ее родная дочь стала христианкой, похоже, ее мало трогало. И Хава гневно бросила ей в лицо:
– Может быть, ты и того не знаешь, что твоя дочь крестилась?
– Ты что, спятила, женщина?
– У тебя дочь христианка, понимаешь, хри-сти-ан-ка! – с отвращением проскандировала Хава и бросилась вон со двора.
Несмотря на то что Иохабед давно утратила стройность – можно сказать, вошла в тело, она стрелой помчалась в комнату дочери.
Бачева со вчерашнего вечера сидела на тахте, не шевелясь. Она не могла ни плакать, ни спать. Сидела молча, бессильно опустив руки. Когда мать ворвалась в ее комнату, она подняла на нее потухшие глаза. В лице – ни кровинки. На шее покачивался маленький крестик. Естественно, это было первое, что бросилось в глаза Иохабед. Она закричала и рванулась к дочери. Бачева не спеша поднялась с места, а толстуха Иохабед, не удержавшись на ногах, рухнула на тахту и зарыдала.
– У меня нет больше дочери, она умерла! Почему, Бачева, почему ты ушла из жизни?! – причитала Иохабед.
Причитания матери вызвали слезы у Бачевы. Она нагнулась и обняла ее. Никогда так не жаждала она материнской ласки, как сейчас, никогда ей так не хотелось, чтобы та прижала ее к своей груди, утешила, ободрила! Но Иохабед с отвращением отвела от себя руки дочери и вылетела из комнаты так же стремительно, как и появилась.
Через некоторое время со двора донесся отчаянный вопль. Бачева бросилась к окну и увидела группу женщин, одетых в черное. Они плакали, причитали, царапали себе щеки. Бачева разглядела среди них свою мать – она сидела на стуле, по бокам от нее устроились Шошана, Ривка, Рути и Лиа. У всех головы были покрыты черными платками. Перед ними стояла тахта, на ней что-то лежало – Бачева присмотрелась и, узнав свое платье, невольно вскрикнула.
Двор постепенно заполнялся женщинами. Входя в калитку, они поднимали такой крик, так царапали себе лица, что пришедшие немного ранее и точно так же вопившие, разинув рты, смотрели на них – почему они кричат, ведь дочь Занкана и Иохабед на самом деле жива! Окончив причитать, вновь прибывшие, как бы исполнив свой долг, становились в стороне, а во двор тем временем входила новая группа плакальщиц в составе трех – пяти женщин. Эти, в свою очередь, пытались превзойти ранее пришедших своими воплями и причитаниями, чтобы выглядеть более убедительно и впечатляюще. И все эти крики сопровождались громкоголосыми рыданиями Иохабед:
– Почему, почему ты оставила нас, дочка?!
Женщины вторили ей душераздирающими воплями, так что у Бачевы слезы наворачивались на глаза.
Во дворе появился Михи, служитель синагоги, быстрым шагом направился к Иохабед и, наклонившись над ней, почти приказным тоном произнес:
– Раби Абрам просит немедленно прекратить это, не надо множить грехи!
Иохабед подняла глаза на Михи, лицо ее кривилось от отвращения.
– Ежели хахам Абрам тоже крестился, – процедила она сквозь зубы, – мне он не нужен, ежели он продолжает считать себя евреем и нашим раби, пусть изволит явиться сюда и выполнить все необходимые для такого случая обряды, а то Занкан и не посмотрит в сторону его синагоги. – Не отрывая презрительного взгляда от Михи, Иохабед умолкла, а потом добавила: – Пойди и передай ему все это!
Но Михи не торопился уходить и с сочувствием смотрел на Иохабед.
В это время к ним на цыпочках подошел Бено Какитела.
– Иохабед, несчастная моя сестра, ты же знаешь, как предан я вашей семье. Прикажи все, что пожелаешь, и я исполню. – Лицо его светилось добротой.
– Раби Абрам велел немедленно прекратить это, – повторил Михи.
– Сейчас этой семье нужно наше сочувствие, – с возмущением воскликнул Бено Какитела, – а не поучения! Слово Иохабед еще имеет вес, семья Занкана еще стоит на ногах!
– Пусть хахам Абрам немедленно придет сюда и даст мне возможность похоронить дочь! – ободренная поддержкой приказала Иохабед.
Михи молча отошел от Иохабед и Бено. Было видно, что он недоволен. Бено, в свою очередь, на цыпочках удалился от Иохабед, довольный, но, как подобало ситуации, внешне опечаленный.
Шум во дворе постепенно стихал. Уже никто не плакал, никто не причитал. Все, кто должен был явиться, явились. Женщины, несколько мужчин, собравшиеся в углу двора, переговаривались друг с другом – главное дело было сделано, настала пора бесед. Обсуждался один-единственный вопрос – принятие Бачевой христианства. Никто толком ничего не знал – почему Бачева крестилась и связана ли гибель Эстер с этим ее поступком. Поэтому простор для воображения был необозримый.






