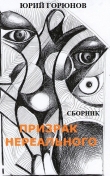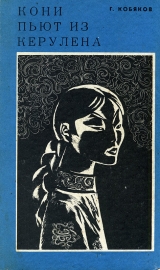
Текст книги "Кони пьют из Керулена"
Автор книги: Григорий Кобяков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
Самбу помолчал и, не глядя на Ванчарая, бросил:
– Давай свое заявление.
Ванчарай торопливо сунул листок в председательские руки. Тот прочитал и отодвинул листок от себя. Из кармана вытащил платок и начал вытирать руки, будто прикоснулся к чему-то нечистому. Ванчарай, наблюдавший за Самбу, тяжело молчал, переступая с ноги на ногу, как застоявшийся под седлом конь.
Да, неласково встретили в «Дружбе» беглого ветеринара. Впрочем, Ванчарай и не ждал иной встречи.
Председатель рубанул:
– Я знаю, на что ты надеешься, Ванчарай. На жалость: люди простят. Тем более, что в объединении пока нет ветеринара. Но мы еще посмотрим…
Самбу хлопнул по столу ладонью, словно гвоздь по самую шляпку вбил, резко закончил:
– Твое заявление рассмотрим на заседании правления. Все!
Когда Ванчарай закрыл за собой дверь, Самбу выругался:
– Вот тарбаган паршивый. С превеликим удовольствием я прогнал бы его. В шею! Но ведь некуда деться, безвыходное положение… Скот лечить надо. Понимаешь, брат?
Кто-кто, а Алтан-Цэцэг понимала: не раз и ей приходилось браться за лечение скота.
– А ты чего засиделась у меня? – вдруг удивленно и, как всегда, грубовато спросил Самбу. – Я же сказал, что ни о каких курсах не может быть и речи, хотя разнарядка из сельхозуправления и есть.
– Но мы говорили об университете, о сельхозинституте…
– Это как правление: решит отпустить – отпустим. А я ничего не могу обещать… Кроме своей поддержки.
Ни обиваться, ни сердиться на председателя было невозможно. Самбу поступал, как и должен был поступать: такие вопросы он единолично не решал. Но свою точку зрения высказал вполне определенно: он поддержит. А это главное. Теперь надо было подумать об учебниках, о времени для подготовки к экзаменам и о Максимке.
Когда землю обласкало весеннее солнышко, многие зимние тревоги отпали. А с появлением душистых зеленых трав и совсем стало хорошо: скот быстро поправлялся, и дела в объединении пошли, как в добром караване.
Председатель Самбу сдержал свое слово: на одном из заседаний правления поставил вопрос о направлении Алтан-Цэцэг на учебу в университет и добился согласия членов правления. Это было не очень трудно: в объединение приехали два молодых специалиста.
В тот же вечер Алтан-Цэцэг ускакала на ферму, чтобы поделиться своей радостью с Цогзолмой. Они долго бродили по высокому берегу Буир-Нура, в котором трепетали крупные синие звезды.
Расставание было грустным.
– Завидую тебе, – говорила Цогзолма. – Получишь знания – мир станет шире для тебя, Я тоже мечтаю об учебе в техникуме, но пока не пускает. Говорит: вместе поедем. А когда его отпустят?
Алтан-Цэцэг догадалась, о ком говорит Цогзолма, – о председателе Самбу. Осторожно спросила:
– У вас с ним серьезно?
– Кажется, серьезно.
Прощаясь, Цогзолма ласковой ладонью провела по щеке Алтан-Цэцэг. Грустно сказала:
– Что было худое – забудь, а хорошее – помни и носи в сердце.
Утром Алтан-Цэцэг познакомилась со специалистами – выпускниками Баин-Тумэнского сельскохозяйственного техникума зоотехником Хандху и ветеринарным фельдшером Дуламжав. Она пришла в контору, когда с ними беседовал председатель. И Дуламжав, и Хандху, как два птенца-желторотика, сидели и топорщились. Одному из них, ветеринарному фельдшеру Дуламжав, председатель предлагал поехать на постоянное местожительство на отдаленный участок:
– Там у нас, – говорил Самбу, – основные стоянки отар, гурт мясного скота и табуны лошадей. Для ветеринара все под рукой.
Дуламжав не возражала.
Но туда же просился Хандху.
– Зоотехнику лучше остаться здесь, на Центральном участке.
– Но ведь там я нужней, – возражал Хандху.
Председатель поглядел в глаза юному зоотехнику, перевел взгляд на ветеринарного фельдшера, пожал плечами и хмыкнул:
– Вот упрямый народец! – и к Алтан-Цэцэг: – Что ты, брат, скажешь?
– Согласиться надо, дарга, – мягко сказала Алтан и усмехнулась, поняв, чем вызвана такая настойчивая просьба. – Молочная ферма может обходиться без зоотехника. Там Цогзолма – профессор в своем деле.
– Коль так считает наша студентка – поезжайте – рубанул председатель. – Но предупреждаю: тяжело с жильем. Мы поставили там одну юрту, предполагая…
Председатель замялся. Снова поглядел на юных специалистов и спросил:
– Кто из вас будет жить в юрте?
– Я, – ответила Дуламжав.
Хандху на этот раз промолчал.
– Значит, нам надо думать, где и как устроить Хандху?
Хандху снова промолчал, только поглядел на подружку. Девушка конфузливо потупилась.
– Зачем искать? Мы будем жить в одной юрте…
Через несколько дней Алтан-Цэцэг побывала на том отдаленном участке и навестила юных специалистов. Юрту им поставили на высоком сухом месте, рядом с другими, в которых жили семьи чабанов.
Когда Алтан-Цэцэг вошла, то сначала увидела две головы, склонившиеся над одной книгой. Справа и слева от столика стояли аккуратно застланные койки. Их разделяли чемоданы, сложенные горкой. На чемоданах высилась другая горка – книжная. Алтан-Цэцэг приветствовала ребят пословицей: «Солнце взойдет – оживает природа, книгу прочтешь – просветляется ум», – сама сразу же потянулась к книжной горке.
– О, Михаил Шолохов, «Поднятая целина».
Перебрала другие книги. Здесь были специальные сельскохозяйственные, томик стихов Пушкина, «Как закалялась сталь» Николая Островского, сборники стихов и рассказов Д. Нацагдоржа и Ц. Дамдинсурэна.
У ребят сразу складывалась ладная жизнь.
Глава двенадцатая
Пр утрам, когда над быстрой и светлой рекой Толой поднимался белый туман, оживал войлочный студенческий городок. Университетское общежитие не могло принять всех, и многие студенты жили в городке на берегу Толы. Лодой предлагал дочери поселиться у его старого приятеля. Но Алтан-Цэцэг не захотела отделяться от товарищей и осталась вместе со всеми.
До завтрака, а его, как правило, готовили сообща, в одном котле, парни приводили с лугов коней. Девчонки кашеварили и наводили порядок в юртах.
Завтракали коммуной. Затем седлали коней и, сложив учебники и тетради в переметные сумы, отправлялись на занятия.
Мимо юрт, рассыпанных по берегу Толы, через узкие немощеные улочки Старого города, через просторную площадь Сухэ-Батора к трехэтажному белокаменному с колоннами зданию государственного университета ехали дружной гурьбой и с песнями. Из юрт и глинобиток выходили старые люди и, приставляя козыречками ладони к глазам, долго глядели вслед веселым студентам, а потом вздыхали: «Монголия такого еще никогда не знала».
Оттого, что так празднично и ярко начинались учебные будни, оттого, что повседневной жизнью стали лекции, семинары, лабораторные работы, конспектирование книг и споры, на душе Алтан-Цэцэг было легко и радостно. Мечта исполнилась – она студентка вуза, первого на монгольской земле.
Теперь Алтан-Цэцэг окружало море мудрых книг. Плыви по этому морю и держи курс к дальнему зовущему берегу. Достигнув его, ты станешь в ряд с теми, кто ведет людей в будущее, кто учит их жить и работать по-новому.
В выходные дни многие из городка уезжали за Толу – в горные распадки и сосновые боры. Там выбирали солнечную полянку, спешивались и, стреножив лошадей, разводили костер. Варили бухулер или на смолистых сосновых вертелах жарили шашлыки. Бродили по гулкому зеленому сумраку, где в таинственных чащах прятались запоздалые осенние грибы и спелые ягоды. Воду пили из светлых и звонких родников. Потом снова собирались на полянке и затевали игры – боролись, стреляли из лука, прыгали через костер, кувыркались в траве. Беззаботная юность!
Два или три раза со всеми выезжала и Алтан-Цэцэг. Но потом отказалась. Кольнула мысль: она не может, не имеет права так бездумно и беззаботно разбрасываться временем. При этом вспоминала время, прожитое среди степняков на Халхин-Голе, жалобы председателя объединения на постоянную нехватку специалистов. Парторг Жамбал, провожая ее, сказал:
– Едешь в столицу. Соблазнов там много. Мой совет: обуздай, как скакуна, свои желания. Ждем тебя ученым человеком.
О том же говорил и отец.
– Если хочешь достигнуть в жизни чего-то большого, не промелькнуть в ней сгоревшей звездой – приобретай знания. Знания – богатство, не имея которого, мы не сможем двигаться вперед.
А Максим? Он ведь тоже мечтал о знаниях и о том, чтобы научиться хорошо делать свое дело.
Немногим более двух месяцев судьба отпустила Алтан-Цэцэг на встречи с Максимом. И безжалостно оборвала их. Живая память о Максиме тревожила, будоражила, бередила сердце. Как голос Великой войны, как горькое напоминание о Максиме в душе Алтан-Цэцэг звучала грустная и суровая песня:
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза…
С жадностью она набрасывалась на книги.
– Сумасшедшая, – говорили новые подруги Алтан-Цэцэг поздними воскресными вечерами, возвращаясь с далеких прогулок.
– Сумасшедшая и есть, – отвечала смеясь Алтан-Цэцэг.
Алтан-Цэцэг успешно провела зимнюю сессию. Сразу после экзаменов подвернулась попутная машина на Баин-Тумэнь. Геологи, советские ребята, засунули в собачий спальный мешок. Ехала, как у будды за пазухой.
И вот Алтан-Цэцэг, студентка-первокурсница зооветеринарного факультета Улан-Баторского государственного университета, дома, на каникулах.
Первое, что хотелось сделать – повидать Лидию Сергеевну. О ней Алтан-Цэцэг соскучилась. Но Лидии Сергеевны не оказалось дома. С неделю назад она уехала на родину: не то в отпуск, не то вызвали по служебным делам. Когда в августе Алтан-Цэцэг уезжала на учебу, у Лидии Сергеевны были служебные неприятности. По письмам Ивана Николаевича, тем самым, которые Алтан-Цэцэг увезла с Черной речки в поселок, Ледневу вызывали в высокие инстанции и делали внушение. «Но за что?» – ни тогда, ни сейчас не могла понять Алтан-Цэцэг и с горечью думала о том, что те рябые бумажки она могла бы тогда и не довезти до поселка, могла бы не отправить… «Есть еще на свете люди, которые за бумажкой не могут увидеть красоты человеческого сердца и его подвига».
На второй день с утра Алтан-Цэцэг поехала за Керулен – к бабушке и сыну. Маленький мохноногий и шустрый конек, принадлежащий аймачному партийному комитету, резво нес ее по степному раздолью. Ветер не. сильно бил в лицо, покрывая его густым малиновым румянцем. Алтан-Цэцэг зaxoтелось петь. И она запела:
Тоненький стебель подснежника
Ветром весенним пригнет,
Месяцы с сыном не виделись,
Встретимся – сердце замрет.
Максимка обычно жил с дедом, ее отцом. Многие дни проводил у Лидии Сергеевны – зимой она часто работала дома, составляя разные отчеты. Но когда дед Лодой уезжал в командировки по своим партийным делам, а уезжал он по-прежнему часто, Максимку отвозил за Керулен к бабушке. Было бы, конечно, лучше, если бы старая Цэрэнлхам жила вместе с ними в городе.
Но сколько ее ни уговаривал Лодой переехать в светлую и теплую городскую квартиру – уговорить не мог. Цэрэнлхам оставалась, верной обычаям, укладу жизни, и привычкам своих предков. «Четыре угла? Нет, не привыкну я к ним», – говорила она и о чем-то грустно вздыхала.
А, может, бабушку держало в степи маленькое хозяйство, которое появилось у нее после народной революции. Раньше-то она ничего своего не имела. Работала с рассвета до темна, не разгибая спины, – выделывала кожи, шила рукавицы и малахаи богачам, свивала арканы из конского волоса – и получала за это ячменную лепешку или кусок мяса через день из остатков хозяйского стола. Бедность и голод круглый год караулили за дверью дырявой юрты, похожей на опрокинутую закопченную чашу. Впрочем, все батраки так жили.
Муж Цэрэнлхам пас овец у нойона, получая за работу жалованье – одного ягненка в месяц, телембу на рубашку или мерлушку на оторочку шубы. За работой и нуждой не видел света, бедолага. Однажды во время свирепого шургана, спасая хозяйских овец, он замерз в степи. Это случилось, когда дочке Дарь надо было праздновать первую стрижку волос – ей исполнилось три годика.
Максимку, своего правнука, старая Цэрэнлхам принимала всегда с охотой и нескрываемой радостью. Звала она его по-своему: белым мальчиком или Русачком.
Максимкой не звала – имя непривычное. Куда проще и привычней – Белый мальчик – Цаган хухэд, Цаган бустэй или орос – русский, русачок.
Рос Максимка не капризным, послушным и любознательным парнишкой. С ним Цэрэнлхам легче было коротать тоскливые дни глубокой старости. Как-то покойней себя чувствуешь, если рядом есть живая душа. И потому всякий раз, когда привозили Максимку, старая начинала хлопотать у очага, лезла в древний сундук, перетянутый потемневшими ремнями из сыромятной кожи, доставала оттуда конфеты в красивых обертках и печенье, которые у нее, как и у многих старых бережливых людей, всегда были в запасе.
Максимке у бабушки тоже было хорошо. Ему нравилась юрта, речка, степь.
Степь Максимку поражала своей широтой, простором и необъятностью. И еще тем, что в разное время, она бывает разная.
Утром выйдешь из юрты, глянешь вокруг – степь вся залита солнечным светом, купается в нем, искрится или капельками росы, или снежными хрусталиками.
Днем степь – утомленная, разомлевшая от беспощадного зноя.
Над нею дрожат голубые волны душного горячего воздуха. Это – летом. К осени зной спадает, и в неподвижном воздухе начинает плавать паутина. А в небе – чистом и ясном – собираются в цепочки журавли и подолгу кружат, оглашая степь печальным курлыканьем. В такие дни бабушка козырьком приставляет руку ко лбу, прикрывая глаза от солнца, и подолгу смотрит в небо. Потом говорит:
– Птицы прощаются с родиной.
Попрощавшись, журавли улетают на юг, в теплые края, а над землей, над степью еще долго слышатся их тоскливые крики. И степь вдруг как-то сразу становится неуютной. Побуревшие травы мочат дожди, потом засыпает снег.
Ну, а зимой степь – стылая, со снежными застругами. Холодное зимнее солнце висит низко и под вечер становится совсем рыжим. Оно быстро скатывается за Керулен, за город и там куда-то падает. Сопка Бат-Ула– перед закатом хмурится, темнеет, словно сердится.
Вот она какая разная степь!
Занятий у Максимки много, скучать не приходится. Три раза в день надо накормить Сторожа – большую лохматую собаку. Потом побегать со Сторожем вокруг юрты. Кликнуть Веселого – белого коня бабушки. Веселый, если он пасется недалеко от юрты, всегда откликается на Максимкин голос коротким и веселым ржанием и рысцой трусит к юрте. Останавливается, прядая большими острыми ушами, и ждет угощения. Максимка дает коню кусок сахару или горсть соли. Шершавыми губами Веселый захватывает сахар, а соль слизывает с ладоней длинным и тоже шершавым языком. От удовольствия у него раздуваются ноздри. Он косит на Максимку фиолетовым глазом с выпуклым белком, похожим на большую пуговицу и в знак благодарности трется большой головой о Максимкино плечо.
И еще есть у Максимки одна работа – пасти овец.
Они со Сторожем идут на сто шагов от юрты в ту сторону, откуда появляется солнце. Тут лежат кучкой белые и черные камешки – Максимкина отара. Максимка становится с одной стороны отары, Сторож – с другой. Подражая бабушке, Максимка говорит:
– Трава здесь добрая, нагуливайте жир…
Зимние вечера длинные. Управившись со своим небольшим хозяйством, Цэрэнлхам растапливает очаг. Не торопясь бабушка с внуком пьют чай. Потом Цэрэнлхам снова садится к очагу, в котором весело и ярко полыхает огонь. На пологих скатах юрты и на медных бурханчиках, сидящих на комоде, играют красноватые всполохи. Рядом с бурханчиками стоят начищенные до блеска бронзовые чашечки, заполненные зерном, крупой, молоком и кусочками мяса.
Максимка не раз просил бабушку рассказать про богов-человечков…
– О них нечего рассказывать, Русачок, – отвечала старая Цэрэнлхам, и лицо ее становилось печальным. – Молодым они ни к чему. Держу по привычке…
А сама вспоминала, как после гибели мужа, всем сердцем веря в богов, обращалась к ним с мольбой: «О, милосердные, сжальтесь надо мной, ниспошлите моей единственной дочери-малютке ум и мудрость, благополучие и радость…» Но боги оказались бесчувственными и злыми. Лишь народная революция, отвергнув богов, дала дочери и ум, и мудрость, и благополучие, и радость.
Цэрэнлхам закуривала трубку. Курила долго, с наслаждением. Иногда она пыталась петь. В тягучих, похожих на плач песнях, жаловалась на что-то далекое и потерянное. От ее хриплого голоса Максимке становилось тоскливо и немножко жутко. И тогда он просил:
– Не пой, бабушка. Расскажи лучше…
Старая Цэрэнлхам знала много улигеров – народных преданий, легенд и сказок. Улигеры были разные: веселые и грустные, о людях и животных. Максимка слушал их с затаенным дыханием, хотя не все еще понимал.
Однажды она рассказала Максимке легенду о журавлях-девушках.
…Когда-то на берегах синего Керулена жило кочевое племя самых мирных людей на свете. Люди эти пасли отары овец и табуны лошадей, разводили верблюдов. Раз в году, перед великим кочевьем, собирались все вместе. Мужчины играли в свои военные игры: боролись, стреляли из лука, скакали на лошадях, состязались в силе, ловкости, сноровке. Женщины танцевали веселый танец биелэх. Над Керуленом звенели песни радости и счастья.
Но однажды небо закрыла большая черная туча и на много-много дней скрыла солнце. Потемнела Керулен-река, в берега ударила пенистой волной. Потемнела степь.
Пользуясь темнотой, с той стороны, откуда вставало солнце, к берегам Керулена пришли Враги. Они были злее степных шакалов и кровожадных волков.
В войлочные юрты – жилища кочевников пришло горе. Враги нападали на пастухов и табунщиков, отбирая и угоняя скот, они сжигали хотоны и айлы, они убивали стариков и юношей и уводили в плен девушек. Застонала, заплакала земля керуленская.
После очередного налета па берегу реки собрались мужчины всего племени и стали думать, что теперь им делать. Тогда поднялся самый почтенный и самый мудрый старец и сказал:
– Мы должны защищать свои пастбища, свои юрты, своих жен и детей. Но если будет это делать каждый сам по себе – пришельцы покорят мирный Керулен и всю степь сделают мертвой.
Почтенный и мудрый старец оглядел всех и добавил:
– Есть ли у нас баторы?
И тут все юноши, а в юности каждый считает себя батором, в голос ответили:
– Родную степь и родные очаги мы защитим. Только дайте нам самых быстрых коней и луки с крепкой тетивой и острыми стрелами.
Дали юношам и коней и луки со стрелами. В тот же день заняли воины сопку Бат-Ула, что высится за Керуленом и над всей степью, и стали ждать врага с той стороны, откуда восходит солнце.
День стоит дружина, другой стоит, третий… Но нет врагов. Сморилась, устала дружина. На четвертый день воины-дружинники слезли с коней, упали на каменистую землю и уснули. А злодеи, видно, того и ждали. По неглубоким распадкам, под прикрытием невысоких холмов они прокрались к самому Керулену.
Первыми врагов увидели женщины из кочевья. Но как предупредить спящих воинов?
Тогда самые красивые девушки кочевья сбежались на берег Керулена, напились живой речной воды и, взмахнув руками-крыльями, взмыли в синее небо журавлями. Девушки-журавли опередили врагов. Прилетев к сопке Бат-Ула, где спали юные богатыри, они мощными трубными кликами разбудили воинов.
Проснулись воины, схватились за луки и стрелы, вскочили на горячих коней и ринулись на неприятеля.
Три дня и три ночи шла жестокая сеча. Девушки-журавли кружились над полем боя, своими кликами воодушевляя юных баторов. После трех дней и ночей ни одного пришельца не осталось.
Песнями и кумысом встретило кочевье победителей-баторов. Начался праздник. И пока он звенел весельем, девушки-журавли кружились в голубом небе, а потом с печальными кликами улетели в далекие неведомые края. Девушки, став птицами, в родное кочевье уже не могли вернуться.
…Много, много времени прошло с тех пор. Но девушки-журавли не забывали родного Керулена. Каждый год с приходом весны они, нарядившись в новые весенние платья, в белые пуховые шапочки, прилетают на свою родину. Долго кружат в небе, оглашая степь веселыми и громкими звуками.
– Курлы, курлы, курлы!
По утрам, когда степь заливается солнечным светом, когда на травах лежат серебристые росы, журавли опускаются па землю и начинают свои весенние игры. Они кружатся в величаво-плавном, размеренном танце, похожем на весенний танец девушек-степнячек – биелэх. Люди выходят из юрт, путники останавливают скакунов на дороге, чтобы – полюбоваться чудесным хороводом журавлей-красавок.
В любовных играх-танцах журавли выбирают себе подруг. А потом попарно поселяются невдалеке от стоянок пастухов. Девушки-журавли стремятся служить человеку, и если это им удается – постеречь скот подобно умной собаке, вернуть своим бранчливым криком или чувствительными ударами клюва в морду теленка, ушедшего далеко от юрты, прикрыть от орла-беркута ягненка, веселыми поклонами и пляской позабавить хозяина юрты – испытывают радость. А люди отвечают на это добротою и лаской.
Наступает осень. Журавли-девушки собираются в стаи, поднимаются высоко в небо и долго кружат над степью. Прощаются с родиной.
– Курлы, курлы! – несутся их клики из-под облачных высей. – До свидания, люди! Мы вернемся к вам… Курлы, курлы…
В такие вечера, когда бабушка рассказывала улигеры, спать ложились поздно. Максимка забирался под шубу и мгновенно засыпал. Ему в эти ночи снилось всегда что-то хорошее, а что именно – он потом никак не мог вспомнить. А старая Цэрэнлхам, скрестив под собою ноги, оставалась сидеть возле очага.
Потрескивал ядреный морозец. Конь, застоявшийся в городе, бежал резво. Скоро Алтан-Цэцэг увидела дымок над бабушкиной юртой. Пустила коня легким галопом. Максимку замётила невдалеке от юрты. Он, одетый в теплую баранью шубу и шапку, как толстый тарбаганчик, стоял перед россыпью камешков. Напротив Максимки сидел Сторож. «Отару пасет», – догадалась Алтан-Цэцэг. Крикнула:
– Максимка!
С веселым лаем навстречу кинулся Сторож. За ним– Максимка. В дверях юрты появилась бабушка.
Алтан-Цэцэг прожила у Цэрэрлхам три дня. Потом, забрав Максимку, вернулась в город, намереваясь здесь прожить до конца каникул. Но случилось так, что Максимку снова пришлось отвезти к бабушке. В один из вечеров отец пришел крайне возбужденный и взволнованный. За ужином Алтан-Цэцэг спросила:
– У тебя какая-то неприятность, папа?
– В «Дружбе» что-то неладно.
– Нарушение границы?
– Начался массовый падеж строевых лошадей в табуне, приготовленном для передачи Красной Армии. Подозрение на сап. И о Ванчарае-младшем известия непонятные.
Никаких других подробностей отец или не знал, или не хотел говорить. Попросил приготовить что-нибудь в дорогу.
– Когда выезжаешь?
– На рассвете.
– С кем?
– С главным ветеринарным врачом из сельхозуправления.
Алтан-Цэцэг вдруг захотелось побывать в «Дружбе», встретиться с Тулгой, с Жамбалом, Цогзолмой, Дамдинсурэном, Самбу. Два года, прожитые там, многому ее научили.
– Папа, а место в машине найдется?
Лодой поднял голову, посмотрел на Алтан-Цэцэг, перевел взгляд на внука, сказал:
– Только без Максимки. Не на прогулку едем. Максимку оставим у бабушки.
Максимка, услышав о бабушке, обрадовался, захлопал в ладоши. Алтан-Цэцэг огорчилась: «Отвык от матери».
Глава тринадцатая
Полгода назад, когда на заседании правления обсуждали заявление беглого ветеринара Ванчарая, разговор был крутым. Ему высказали в глаза, что он жалкий и презренный трус, что своим бегством он опозорил и себя, и весь род Ванчараев. И если его соглашаются спора принять на работу, то не столько потому, что в объединении не могут обойтись без ветеринара, сколько из-за желания дать Возможность молодому человеку честным трудом смыть этот позор. От хорошего отвернуться легко, научиться хорошему трудно. Вот и хотят члены правления, чтобы Ванчарай научился хорошему, стал знающим специалистом, оправдал делом средства, затраченные на него государством.
Ванчарай, как шелудивый щенок с поджатым хвостом, стоял перед членами правления и повторял снова и снова, что готов пойти на любую рядовую работу – чабаном, пастухом, табунщиков, скотником – и «доказать, показать, смыть… если будет доверено…»
Позднее, когда Ванчарай, «смывая позор», стал мотаться по степи – вчера его видели на ферме, сегодня – у чабанов, завтра он собирался к табунщикам – кое-кому показалось, что человек только и живет работой, горит ею. Животновод однажды даже предложил отметить Ванчарая за его радение и старательность. Но сухарь-председатель, выслушав животновода, лишь неопределенно хмыкнул:
– Поживем – увидим.
Осень стояла долгая, ветреная и бесснежная. Овцы, хорошо нажированные летом, стали быстро терять упитанность – от водного голоданий. И только в самом конце ноября выпал небольшой снег. Чабаны облегченно вздохнули. Но начало зимы не обещало ничего хорошего: по степи заструилась тугими жгутами, потекла сухая снежная пыль и ударили сильные морозы. Начался падеж овец.
Тревога усилилась, когда ни с того ни с сего подохли две стельные коровы на молочной ферме. Здесь-то «безводное голодание» было совсем ни при чем, как ни при чем были и морозы с ветром: вода под боком и в холодные дни коровы содержались в помещении.
Ветеринар Ванчарай, составляя акт на павших коров, указал причину гибели животных: от перекорма. Пастух и доярки пытались протестовать, но их протест не был принят.
– Что вы с наукой спорите? – спросил животновод.
– Не с наукой, а с Ванчараем.
Поверили заключению Ванчарая. Пастуха и доярок наказали.
Но самое худшее ждал© впереди. Начали болеть лошади, сведенные в специальный табун, – отборные скакуны. Их готовили для пополнения конно-механизированных частей Советской Армии, действующих на фронте.
Председатель, побывав на многих чабанских стоянках, заехал к табунщику Найдану. Впрочем, Самбу никогда не проезжал мимо стоянки табуна скакунов. Недавний конник, он любил лошадей особой любовью кавалериста и понимал в них толк. Еще в юности, работая табунщиком в государственном хозяйстве, Самбу был лихим наездником. Ему довелось в те годы объездить не один десяток полудиких табунных жеребцов. Самбу и сейчас носит метку того времени – шрам от надбровья до нижней челюсти.
…Начинался буран. А в буран, известно, у всего табуна – одна безумная голова. Самбу услышал исступленное ржание коней. Звери ли табун напугали, буран ли погнал их – неизвестно. Только все это плотно сбитое лошадиное скопище сейчас мчалось на крутояр речки.
На миг представилось жуткое зрелище: лошади валятся с высокого обрыва, ломая себе шеи, ноги, позвоночники, и глыбами мяса застывают на речном льду…
Самбу вскочил в седло и ринулся наперерез табуну. Успел врезаться в голову, в самую гущу… Кричал, хлестал длинной плетью по разъяренным мордам. Кони вставали на дыбы, сцеплялись друг с другом и поворачивали от обрыва.
Самбу все-таки столкнули вместе с лошадью. Но он, поднявшись, продолжал кричать и хлестать плетью напирающих коней. Табун был спасен. У табунщика оказалось рассеченным надбровье и сломана нижняя челюсть.
К Найдану Самбу заезжал часто: любуясь скакунами, он отдыхал душой. Старый табунщик понимал это, и принимал председателя всегда с радостью. Но на этот раз он встретил его опечаленным. Не ожидая обычного вопроса: «Ну, как твои скакуны, Найдан?», не ожидая, когда председатель спрыгнет с седла и разомнет затекшие ноги, Найдан сказал:
– Неладно с табуном, председатель.
– Что случилось, Найдан? – встревожился Самбу. – Упитанность терять начали? Этого никак нельзя допустить, ведь скоро передача…
– Заболели два скакуна.
– Где они?
– Во дворе.
Самбу спрыгнул с седла, бросил повод в руки Майдана, торопливо пошел за юрту, к конному двору.
У изгороди, понуро свесив голову, стоял Лебедь – белый красивый жеребец, подаренный Дамдинсурэном. Диковатый обычно Лебедь не поднял сейчас даже головы, когда подошел незнакомый человек. Он только вздрогнул. Второй скакун, Орлик, лежал недалеко от изгороди. Оба сипло и часто дышали и надсадно кашляли.
– К сену не притрагиваются третий день, – сказал подошедший Найдан. – Траву на пастбище тоже не едят.
– Ванчарай был?
– Позавчера приезжал. Сказал: «Обыкновенная простуда. Пройдет». Какой-то порошок развел в воде и велел выпаивать по поллитра два раза в день. Но пользы пока никакой нет.
Не стал Самбу заходить в юрту к табунщику: испортилось настроение. Мрачный и злой поскакал в поселок. Сразу же вызвал в контору Ванчарая. И хотя вечер только начался, Ванчарай пришел заспанный. О Лебеде и Орлике он сказал то же, что и табунщику: «У скакунов обыкновенная простуда».
– Откуда она? – спросил Самбу.
– Странный вопрос – откуда? Ветры холодные…
– Ветры? Но монгольские лошади никогда не знали помещений, они всегда на ветру…
– И всегда простывали.
– Ну, а если все-таки не простуда? Если что-то другое, более серьезное? – жестко спросил председатель.
Ванчарай пожал плечами.
– Другого ничего не может быть. Все признаки…
– Признаки очень нехорошие, – перебил Самбу. – Температура, кашель, потеря аппетита, гнойное истечение из носа. Заметил?
– Если не верите мне, – обиделся Ванчарай, – то вызывайте ветврача из сельхозуправления.
– Норов свой ты мне, Ванчарай, не показывай, – грубовато и строго сказал Самбу. – Но если что случится…
– Угрожаете?
В узких глазах Ванчарая блеснули злые и холодные искры. Они не остались незамеченными Самбу.
– Пока – нет. Просто напоминаю, какой это табун и какая ответственность за него лежит на нас. Понимаешь ли это ты?
– Понимаю.
– Тогда немедленно поезжай туда и принимай все меры. И никуда не отлучайся.
…Весь следующий день для Самбу прошел в необъяснимо тревожном ожидании чего-то недоброго. Хотел даже съездить к Найдану, посмотреть, что там делает Ванчарай, – не удалось. Пришлось заниматься с заготовителями, приехавшими из аймачного центра, съездить на ферму, осмотреть свежие пастбища, вечером подписывать бухгалтерские бумаги. Поездку к Найдану отложил на утро.
Но ночью, перед рассветом, Самбу разбудил Найдан, прискакавший из степи.
– Беда, председатель! Лебедь и Орлик пали…
– Ванчарай – там? – сдерживая гнев, спросил Самбу.
– Нет Ванчарая.
– И не было?
– После того, как ты был, никто не приезжал.
Самбу яростно выругался и стал быстро одеваться.
– Еще три скакуна заболели…
Лицо Самбу окаменело.
– Худая болезнь пришла, председатель.
– Худые болезни сами не приходят, их привозят или приносят, – глухо сказал Самбу и стремительно вышел из юрты. За ним вышел Найдан.
– Что делать, председатель?
Самбу не ответил. Он пошел к конторе. Следом за ним направился Найдан. Но Самбу остановился и, круто обернувшись, спросил:
– В последние две недели, кроме Ванчарая, у тебя кто бывал?
Найдан подумал, вспоминая.
– Один раз парторг Жамбал приезжал, один раз бухгалтер Гомбо, два раза – ты, председатель. Четыре раза – Ванчарай. Все!