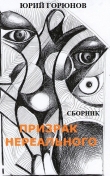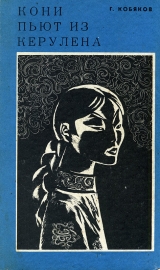
Текст книги "Кони пьют из Керулена"
Автор книги: Григорий Кобяков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
– Есть вопрос!
Все оглянулись на Лодоя. Он, смущенный, стоял у самой двери.
Говори.
– Я убью Цамбу! – выкрикнул Лодой.
Ничего не успел ответить гость. Ответил батрак, стоящий рядом с Лодоем:
– Хо! Хватился. Цамба еще вчера ночью убежал.
– Куда?
– Пойди да спроси.
Сход батраков закончился договоренностью о создании партизанского отряда, а вернее сказать, это уже был сбор партизанского отряда. Здесь решили вопросы о скакунах, которых надо взять в табунах Цамбы, об оружии, о времени выступления.
Прежде чем разъехаться, каждый из батраков подошел к столику и прикоснулся пальцами к листку с Обращением: Прикосновение к документу было выражением согласия с ним, присягой на верность.
Через два дня под командованием Гостя партизанский отряд, состоящий из тридцати семи всадников, напоив коней в Керулене, выступил в поход.
Перед тем как двинуться, командир отряда, с партийной кличкой Гость каждому партизану надел на шею голубой ходак с завязанной в нем винтовочной пулей. Это была молчаливая клятва не щадить жизни в борьбе за свободу своей Родины.
Отряд взял направление на северо-запад, к Алтан-Булаку, чтобы там влиться в Народно-революционную армию Сухэ-Батора.
…Военные ветры подхватили керуленских батраков, а с ними и юного Лодоя, и понесли их по длинным дорогам святой и справедливой войны за счастье народное.
Глава десятая
Юный батрак Лодой и такая же юная батрачка Дарь свою судьбу связали на дороге, по которой их вела Революция.
Морозный декабрь тысяча девятьсот двадцать третьего года. Сто парней и девчонок скачут на запад. Скачут днем, скачут ночью. Спешат. От уртона[7]7
Уртон – станция для отдыха и смены лошадей.
[Закрыть] к уртону.
На уртонных остановках, коротких, – как солдатский перекур – чтобы только немного размяться, выпить по две, по три пиалы горячего чаю и сменить лошадей – уртонные начальники спрашивали:
– Кто вы такие? Откуда скачете? Куда и зачем?
– Ревсомольцы мы, – дружно отвечали ребята, – а скачем из Баин-Тумэнского хошуна в столицу Республики Ургу на третий съезд Революционного Союза молодежи Монголии.
– Доброго пути вам, молодые революционеры!
Сотню юных бойцов-ревсомольцев, избранных на хошунной конференции делегатами съезда, вел секретарь комитета ревсомола Лодой. Немного, всего лишь трое суток, понадобилось юным всадникам, чтобы покрыть расстояние в восемьсот километров.
Старые люди говорят, что женихов в Монголии оценивали прежде всего по тому, как они в седле умеют держаться, как под ними кони идут. Шутка это или не шутка, только Дарь, юная батрачка с берегов синего Буир-Нура, похоже, что жениха себе приглядела именно по этому признаку. Все восемьсот километров она скакала рядом с Лодоем.
И еще старые люди говорят: украшением коня является седло, а украшением жизни – женщина. Для украшения своей жизни Лодой избрал Дарь. В Урге, в дни съезда, они поженились.
Свой медовый месяц молодожены провели в дороге. Сразу после съезда группу ревсомольцев, в их числе были Лодой и Дарь, направили на учебу в Советскую Россию, в Институт народов Востока, на долгих четыре года.
После учебы Лодой стал партийным работником, Дарь – учительницей.
Конец двадцатых, начало тридцатых… Трудные это были годы для страны. Новая жизнь рождалась в муках, в жестокой классовой борьбе. Скотоводы-кочевники радовались, когда началась конфискация имущества богатеев. Они горячо поддерживали предложения об открытии в селах-сомонах школ. Батраки были благодарны, когда революционная власть безвозмездно стала наделять их скотом, отнятым у нойонов и лам.
Среди степняков у Лодоя появилось много друзей. В старых, почерневших от непогод, латаных и перелатаных батрацких юртах его встречали как дорогого гостя. И пусть на столе в этих юртах не часто появлялись кумыс и архи, сушеный творог и жирная баранина, зато вдоволь было сердечности и радушия.
– Что нового? – приезжая, спрашивал Лодой.
– Новостей ждем от тебя. Ты, наверное, привез их полную седельную сумку.
– Ну, сумку не сумку, а кое-что привез.
Проходил на западную, мужскую, половину юрты, садился на низенькую скамеечку или на кошму, подобрав под себя ноги калачиком.
– Все ли здоровы?
– Спасибо, здоровы все.
– Учатся ли дети?
– Учатся.
– Жирен ли скот?
– Жирен…
– Хороши ли пастбища?
Не торопясь пили чай, а вечером под вздохи и сопение овей, живым кольцом обложивших юрту, начинали вести деловой разговор. Лодой рассказал степнякам о городе Ленина, о колхозах и совхозах, которые создавались в Советском Союзе, о новых решениях партии и революционного правительства.
Лодоя слушали. Кому не хочется узнать, что делается в мире? Кому не хочется заглянуть в свой завтрашний день? А то, что разговор шел о завтрашнем дне – никто не мог сомневаться.
Лодою, в недалеком прошлом батраку и сыну батрака, степняки верили. Если человек борется за новую коллективную жизнь, значит она лучше. Кто же будет бороться за худшее? Все это, конечно, так. И все же со старым укладом, привычным, многовековым, расставаться как-то боязно. Кто ее знает, как она, эта новая жизнь, пойдет, в какие узлы начнет завязывать судьбы людские?
Революция совершалась во имя того, чтобы покончить с бедностью. Но бедность пока оставалась. И Лодой знал причины ее. Иной арат в постоянной работе и хлопотах накопит деньжат, приобретет две-три дюжины овец, а подойдет непогодливая зима – сразу лишится всех, потому что укрыть овец на время бурана негде. Другого одолевают вечные несчастья и болезни. У третьего – ртов полная юрта. Со всего круга только к слышишь: «Дай молока. Дай мяса. Дай лепешку». А где взять? Четвертый услышит про водку – слюнки текут, а про работу услышит – будто на шило сядет. Пристрастится такой к горькой – и на все махнет рукой.
Несчастна доля бедняцкая: за ее плечами постоянно ходит нужда, выбиться из которой в одиночку не под силу. Уж что-что, а эго Лодой хорошо знал. В годы своего батрачества он хорошо узнал, в какой юрте тепло, а в какой холодно, кто прав, кто не прав, где справедливость, а где обман. Если ты батрак – нет тебе защиты.
Сейчас времена не те, ну, а бедность-то пока остается. И покончить с нею можно лишь объединившись, создав коллективные хозяйства. Лодой часто вспоминал слова Гостя, вполне применимые и здесь: «Если кричать– то в одни голос, если трясти – то всем сообща».
Да, это была самая правильная правда, найденная Лениным.
Но, создавая колхозы, а курс был взят именно на колхозы, кое-кто, как казалось Лодою, слишком торопился. Не учитывалась ни материальная подготовленность, ни психологическая. Готовя аратов к объединению, надо было повести решительную борьбу с темнотой, невежеством, суевериями, надо было вырвать люден из-под влияния лам, которые выступали воинственными проповедниками седой старины. Траву косить – нельзя. Землю пахать – нельзя. Коней ковать – нельзя. На тракторах работать – нельзя. Учиться – нельзя. Казалось, на всей жизни лежит запрет Всевышнего – нельзя. Попробуй, переступи… А не переступив запретов – нечего и думать о развитии хозяйства.
Так вот и выходило: араты побаивались новой жизни, а Лодой побаивался, как бы слишком не увлечься и не наделать ошибок, строя эту жизнь. Побаивался Лодой и недругов. Люди эти жили в просторных, добротных юртах, владели табунами коней и верблюдов и тысячными отарами овец. Многие из них пока что рядились в мирные одежды и не пытались вступать в споры. Более того, встречая, улыбались, а когда речь заходила о колхозах, нередко поддакивали как бы соглашаясь. Но Лодой знал – это враги, скрытые и жестокие, и они ждут своего часа…
Среди друзей и недругов встречались люди, которые восхищали Лодоя своей мудростью. При всей темени, необразованности, они обладали удивительной глубиной суждений и широтой мысли.
Лодой любил степных мудрецов. Беседуя с ними, он выслушивал суждения о жизни и обогащался сам. Известно же: от лунного света и снег белеет, от мудрого слова и разум светлеет.
Не всегда соглашались мудрые люди с Лодоем, но он знал: они будут размышлять. Знал также, что слова, сказанные им в споре, покатятся по степи. Степь еще не знала ни телеграфа, ни телефона, ни радио. Но случись где-то что-то, через очень короткое время все знали о случившемся. Молва переходила от путника к путнику, от юрты к юрте. Лодою было приятно, когда до него доходило, что «мудрец такой-то в споре о новой жизни согласился с Лодоем. Значит, Лодой вдвойне прав».
От юрты к юрте, от хотона к хотону скакал Лодой, встречая рассветы к седле. Так вот в седле и жил он в те годы и был счастлив. Верил: ему самой судьбой предназначено отвечать на многочисленные вопросы, советовать людям, учить их, спорить, развязывать узелки, которые завязала жизнь.
А в степи мало-помалу начали рождаться колхозы.
Провожая мужа в дальние и ближние дороги, Дарь нередко упрекала его в том, что они почти не видятся. Но спасибо Дари: в ее упреках не было той раздраженности, которую так не любят мужья, а было дружеское участие.
– Лодой, ты извелся весь. Я боюсь, ты скоро совсем забудешь нас с дочерью. Алтан дичиться тебя стала. Ну, погляди, какой отчаянной сорви-головой она растет.
Лодой словно бы просыпался, обнаруживая вдруг, что дочка его научилась и на коне скакать, как заправский наездник, и плести тонкие и крепкие арканы из конского волоса, и читать.
– Да когда же все-это?
В тихие ночные часы, жарко лаская Лодоя, истосковавшаяся Дарь жаловалась:
– Со своими бесконечными поездками в степь ты, наверное, скоро забудешь, что твоя Дарь еще и женщина?
– Не забуду.
– Ты знаешь, что означает слово «Дарь»? Божество, богиня. Да понимаешь ли ты, Лодой, какое богатство тебе досталось – жить с самой богиней. А как ты относишься к ней?
– Как к простой смертной…
– Эх, ты…
– Поверь: только до осени так… Вот познакомлюсь поближе с людьми…
Маленькой ладонью Дарь закрывала рот Лодою, дурашливо трепала за уши, смеялась:
– Помолчи, не верю.
Притворно вздыхала:.
– До осени подожду. У меня терпения много…
Но проходила осень с ее мягким задумчивым шелестом трав, наступала зима с ее ледяным дыханием севера, а Лодой никак не мог исполнить свое обещание. Забот и хлопот не убавлялось. Наоборот, их становилось больше. Степь звала и ждала его. Там, в степи, рождалась новая жизнь, там жили и трудились люди, и им всегда нужна была помощь Лодоя – представителя Народной революционной партии. И Лодой спешил к ним.
Но в тридцать втором году Дарь забеспокоилась не на шутку. Казалось, все было как всегда. С началом лета безлесные холмы и сопки вдруг зажглись яркими огоньками: зацвела кудрявая сарана. Буйно цвели ирисы. Из редкой и жесткой травы начали выглядывать голубенькие глазки незабудок.
Но цветы быстро исчезли. Их сожгло горячее солнце. От жары сгорела и трава на увалах и холмах. Она стала бурой, сухой и колючей. И тогда наружу проступили тоскливые серые камни и желтые песчаные плешины. Однако в долинах рек зелень буйствовала. Тепла и влаги было много.
Колхозы жили по-разному. Одни набирали силу, богатели – таких были единицы, другие хирели. Не было техники, и никто ее дать не мог, не было средств, неумелые руководители вели хозяйство к развалу.
Лодой по-прежнему жил в седле. Каждый раз, уезжая из дому, он ловил на себе тревожный взгляд Дари. Однажды Дарь сказала:
– Я боюсь за тебя, Лодой. Слухи ползут: нехорошие люди в степи появляться-стали. Ты бы охрану брал…
– Мешать будет.
– Говори хоть, куда ездишь.
– Сегодня в «Зарю Востока», к Гостю еду.
Лодой любил бывать в «Заре Востока». Это государственное хозяйство, созданное северо-западнее Баин-Тумэни, стремительно шло в гору. Оно больше, чем другие, получало помощи от государства и средствами, и техникой, и возглавлял его умный и заботливый руководитель, тот самый Гость, что перед Народной революцией по ночам приезжал в юрту к Жамбалу, а потом из батраков создал партизанский отряд и увел его в армию Сухэ-Батора. Настоящее его имя было Тогтох. Но это имя мало кто знал. Гость – и все!
До кооперирования аратов Гость работал на ответственном посту в Министерстве животноводства и земледелия. Когда же стали создаваться колхозы и госхозы, его направили организовывать первый госхоз на востоке страны, или, как сказал министр Чойбалсан, напутствуя Гостя в дорогу, закладывать островок новой жизни, в котором бы рождалось будущее Монголии. Гость на восток ехал с удовольствием: места и люди ему были знакомы.
Каждый раз, приезжая в «Зарю Востока», Лодой находил что-то новое. Построили школу. Создали ферму крупного рогатого скота и выделили дойный гурт. Получили из Советского Союза первые два трактора и автомашину. Впервые сенокосилками стали косить траву и заготовлять сено на зиму; раньше никогда этого не делали, да и не знали, что можно так делать. Гость мечтал построить маленький маслозавод, чтобы на месте перерабатывать молоко на сыр и масло, мечтал о новых тракторах и автомобилях.
Мечты Гостя окрыляли и Лодоя. Он разносил их по всей степи.
На этот раз Лодой собрался к Гостю потому, что получил от него тревожное известие: из госхоза побежали люди, напуганные слухами. Впрочем, ядовитые слухи бродят уже давно.
Как-то зимним вечером они сидели в юрте Гостя и пили чай. К юрте подъехал совсем еще молодой парень.
– Выпив пиалу чая, парень полез за пазуху и вытащил листок бумаги.
– Вот, заявление дарге[8]8
Дарга – начальник.
[Закрыть] принес. Из госхоза прошусь.
– Из госхоза? – удивился Лодой.
А Гость нахмурился и грубовато сказал:
– Ты это здорово придумал, табунщик Самбу. Один думал или лама Базардарч помогал?
Парень виновато опустил глаза, прикрыл их длинными девчоночьими ресницами. Лодой обратил внимание на глубокий шрам, пролегающий через всю щеку от брови до нижней челюсти. Спросил:
– Откуда у тебя это?
– С землей поцеловался! – нехотя бросил табунщик и, повернувшись к Гостю, тихо сказал. – Говорят: кто в госхозе останется, того весною «божественные люди» – посланцы самого Будды будут бить раскаленными шомполами, вырывать языки и ослеплять. Как отступников.
– Все это лама и его подпевалы воду мутят, – сказал Гость. – Только нас, брат, не возьмешь на испуг. Пуганые. Тебе же, Самбу, не надо уходить из госхоза. Куда пойдешь? В батраки? Невеселое это дело. В госхозе же мы из тебя большого человека сделаем. Летом пошлем на курсы механизаторов в Улан-Батор. На железного коня пересядешь.
У Самбу разгорелось лицо, засияли глаза. Ничего больше не сказав, он заторопился в степь.
Когда Самбу ушел, Гость поделился своей тревогой.
– А все-таки ламы и нойоны, оставшиеся без имущества, что-то затевают. Слабые люди, религиозные фанатики могут качнуться и побежать…
Лодой пошутил:
– Не видя горы – рано подбирать подол дэли, не видя реки, не надо спешить снимать сапоги.
На это Гость ответил:
– Вам сверху должно быть виднее. Но смотрите – не проглядите. Знаю: завоеванное нами никакие черные силы не отнимут, но напакостить могут изрядно.
Зима прошла спокойно, если не считать отдельных случаев угона скакунов из молодого госхоза. Весна прошла тоже спокойно. Лодой даже как-то подумал о Госте: «Стареть, видимо, стал боевой друг. Слухам верит. Страх появился. А у страха, известно, глаза велики». Нехорошо подумал. А потом клял и винил себя за легкомыслие, за ротозейство, за неумение смотреть! вперед.
Выехать в «Зарю Востока» Лодою не удалось, задержали неотложные дела. Из ЦК позвонили и потребовали срочно создать из членов партии и ревсомольцев боевые отряды, вооружить их, привести в боевую готовность и установить связь с местными воинскими частями – в разных местах страны вспыхнули ламские восстания.
До поздней ночи работал Лодой. Добравшись до юрты, упал в постель. Заснул сразу, как засыпают сильно уставшие молодые люди.
Лодой не слышал, как на взмыленном скакуне к его юрте подскакал всадник, как тяжело этот всадник сполз с седла и нетвердой походкой шагнул в дверь, открытую Дарью.
– Спит? – спросил ночной гость.
– Только лег.
– Будите даргу.
Дарь растолкала Лодоя.
Лодой опустил ноги с кровати, протер глаза и узнал табунщика из «Зари Востока» – того самого парня, что п-росил зимой отпустить его из госхоза.
– Что случилось? – спросил он, хотя тревога уже пронзила его сердце.
– В госхоз пришла банда Дамбы. Гость-гуай[9]9
Гуай – слово, означающее уважительное отношение к тому или иному лицу.
[Закрыть] разорван конями…
– Что?! – закричал Лодой.
Но табунщик не ответил. Ухватившись правой рукой за спинку кровати, он тихо сползал на пол. К нему подбежала Дарь, пытаясь удержать парня, она схватила его за левую руку и вскрикнула:
– Он ранен, в него стреляли!
В народе есть поверье: с человеком, с которым ты не хочешь встречи, обязательно встретишься три раза.
У Лодоя с Цамбой было три встречи. Первая – это когда он, еще совсем мальчишка, боролся с Цамбой и когда узнал страшную весть о гибели отца. Лодой тогда поклялся убить Цамбу. Это велела сделать ему память о матери и брате, память об отце, загубленных Цамбой. Лодой не мог себе представить, как это можно жить с убийцей под одним небом, ходить по одной земле, дышать одним воздухом, И когда, казалось, час возмездия и мести настал – Лодой получил оружие и боевого коня, – Цамба бесследно исчез.
Говорили разное: одни – что убежал в Маньчжурию, другие – что скрывается в пустыне Гоби. Но в это мало кто верил. Цамба не тот человек, чтобы бросить тысячные отары овец и убёжать. Самое верное было предположить, что он подался в Ургу, на службу к новоявленному «повелителю» Монголии – барону Унгерну.
Долг остался неоплаченным, и Лодой переживал это.
Вторая встреча произошла в памятный июльский день 1921 года, когда, сбив заслоны противника, Вторая Сретенская кавалерийская бригада и отряд красной монгольской конницы вступали в столицу республики Ургу. Встреча эта была настолько внезапной и неожиданной – столкнулись лицом к лицу на улице – что Лодой растерялся. Воспользовавшись минутным замешательством юного красного конника, Цамба улизнул. Потом перекрыли весь квартал, обыскали каждый двор, но напрасно. Цамба словно провалился.
И, наконец, состоялась третья и последняя встреча. Через одиннадцать лет. Из глубин Восточной Гоби Цамба привел на Керулен банду из разного сброда: недобитков первых лет революции, кулаков и лам. Здесь, на Керулене, к банде присоединились те, в глазах которых Лодой не раз замечал затаенную жгучую ненависть…
Заклубилась дорожная пыль под копытами скакунов, застонала степь. Бандиты охотились за партийными работниками, за депутатами Великого Народного хурала, за всеми, кто поддерживал и строил новую жизнь. Особенно свирепствовали ламы, эти слуги господни, полномочные представители Будды на земле, проповедники покорности и смирения.
Бандиты захлебывались в крови. Цамба наслаждался пытками. Он привязывал. свою жертву к столбу, топором рассекал грудь. Отшвырнув топор, разворачивал. ребра и вырывал сердце – живое, горячее, оно трепыхалось в кровавых ладонях зверя. А когда затихало, Цамба ударом ножа рассекал его и брызнувшей кровью окроплял свое черное бандитское знамя.
Недолго пришлось гулять банде по степным просторам. Окруженная кавалерийским отрядом цириков и отрядом Лодоя, собранным из партийцев и ревсомольцев аймачного центра, прижатая к монастырским стенам Араджаландахида, банда была прикончена. Вся полностью. Но и здесь, бросив свой сброд, Цамба пытался улизнуть. На сей раз не удалось. Его сняла с седла тугая петля аркана.
Лодой увидел Цамбу мертвым.
Глава одиннадцатая
На советско-германском фронте дела шли худо. На севере немцы подошли к Ленинграду. На западе рвались к Москве. На юге захватили всю Правобережную Украину. Советскими войсками оставлены Днепропетровск, Запорожье, Херсон. Где-то далеко в тылу у врага осталась сражающаяся Одесса. Угроза нависла над Донбассом, над Крымом. Происходит что-то. непонятное, страшное. Советская Армия, истекая кровью; отступает. А враг рвется в глубь Советского Союза. И где, когда будет остановлен – неизвестно.
Лодой постоял у карты, занимающей всю стену кабинета, и побрел домой. Болела голова. Сказывалось, видимо, то, что накануне мало спал, вернувшись из командировки перед рассветом, и то, что день был напряженный. Сказывались и последствия ранения и тяжелой контузии на Халхин-Голе. Раньше, до Халхин-Гола, такой сильной усталости он не знал.
Лодой пытался выглядеть бодрым, но никуда не спрячешь предательскую синюю жилку, которая, вздувшись, билась на левом виске, и никуда не скроешь левое верхнее веко, которое нет-нет да и начинало дергаться.
Поужинали с дочерью наскоро: съели по куску бараньего мяса, по пресной лепешке, выпили по две пиалы густого зеленого чаю. Веко перестало дергаться; зеленый чай вроде бы снял усталость.
– Алтан, ты не передумала со своим новым назначением? Несусветная даль, люди незнакомые, юрта… – спросил Лодой. Спросил не потому, что надо было спросить, а просто чтобы перекинуться словом. А то сидят, как сычи, и помалкивают.
Алтан-Цэцэг подняла удивленные глаза на отца и не то с упреком, не то с обидой сказала:
– Ты, как Ванчарай, папа.
– Сильно отсталый? – усмехнулся Лодой.
– Немножко отсталый, – ответила дочь, не приняв шутливого тона.
Лодой знал, почему Алтан-Цэцэг так сказала. Ему передали разговор начальника сельскохозяйственного управления c дочерью, когда та второй раз пошла получать новое назначение. Ванчарай попытался и, надо полагать, не без умысла все же отговорить Алтан-Цэцэг от поездки «в глушь», и снова предлагал остаться здесь, в управлении.
– Не пойму одного, – убеждал Ванчарай, – партийный руководитель Лодой, отец твой – умный, а делает глупости. Ну, как это так: единственную дочь, которая, может быть, еще и ума-разума не набралась, вдруг отправлять в степь? Говорю это из самых добрых побуждений, из чувства глубокого уважения к Лодою.
– Не отправлять, а отпускать, – возразила Алтан-Цэцэг.
– Что в лоб, что по лбу – одинаково. Но не в этом дело. Степь не любит слабых и неподготовленных. У птицы должны быть крылья, у человека – сила.
– Откуда дарге Ванчараю, – насмешливо спросила Алтан-Цэцэг, – известно, что у меня или у Ванчарая-младшего (на сына намекнула – выпускника ветеринарного отделения), у некоторых других нет ни крыльев, ни силы, а у тех, кто едет, есть?
«Нет, эта дерзкая девчонка не научилась смиренно исполнять самый высокий и, самый древний закон монголов – свято почитать и слушать старших. Ох-хо-хо – времена пошли!»
Ванчарай начал сердиться. Его узкие глаза настолько сузились, что стали похожи на лезвие бритвы. Но Ванчарай умел сдерживать себя, хотя, разговаривая с кем-то другим, он грохнул бы сейчас по столу кулаком и живехонько выставил бы за дверь. А тут не выставишь – дело придется иметь с самим Лодоем, которого он побаивался.
Ванчарай попытался даже улыбнуться, но улыбка получилась кривая.
– Удивляюсь я, глядя на вас, молодых, – успокоившись, продолжал он. – Из культурного центра, из теплой и светлой квартиры вы бежите в дикую степь, в юрту. Что это – зов предков? Не-ет, красавица, насколько я понимаю, это что-то другое. Вам, молодым, глаза и разум застила слава советских комсомольцев: все обновлять, все перестраивать…
– Вы повторяетесь, дарга Ванчарай, – со злой решимостью оборвала Алтан-Цэцэг, и напомнила о разговоре, который состоялся в этом кабинете сразу после окончания техникума.
– Что ж, повторенье – мать ученья, – как-то совсем добродушно ответил Ванчарай. В его глазах-щелочках появились даже смешливые светлячки. – Мы – кочевники, – Ванчарай теперь явно наслаждался своим собственным величием и мудростью. – И у нас, монголов, действительно зов предков силен. Если бы вы, молодые, следовали этому зову…
– А куда этот зов? – наивно спросила Алтан-Цэцэг.
Ванчарай задумался. «Надо дать достойный ответ дерзкой девчонке». Подвоха в вопросе ему не почудилось. Но Ванчарай не успел додумать. Алтан-Цэцэг снова спросила:
– Зов куда – к Чингис-Хану, к Тамерлану, к Батыю? Вот никогда не думала, что дарга Ванчарай – такой отсталый человек. Более отсталый, чем даже моя бабушка.
На этот раз Ванчарай не сдержался. Он еще никогда не слышал такого оскорбления.
– Поезжай! – свирепо закричал он. – Поезжай! Посмотрю, какие солнечные города в степи ты будешь воздвигать!
Опомнился, остановился и, как бы извиняясь, сказал:
– Я и сам против этих юрт, против кочевья, против дикой отсталости. Но… малахаем ветра не поймаешь и за край степи не заглянешь.
Вот какой разговор состоялся у Алтан-Цэцэг с Ванчараем.
– Так ты говоришь, – снова вернулся Лодой к своему вопросу, – я все же на Ванчарая похож? Тоже «более отсталый, чем наша бабушка?»
– Я пошутила, папа, – Алтан-Цэцэг рассмеялась, обвила руками крепкую шею отца и щекой прижалась к его щеке. – Ты у меня хороший, хороший, как… мама.
Лолой вздрогнул и застыл, не дыша. Его словно током прошило.
Алтан-Цэцэг почувствовала, что своей невольной лаской (не привык к ласкам отец) и упоминанием о матери она разбередила отцовскую рану, вывела его из привычного состояния душевного равновесия.
– Прости меня, папа, – тихо и виновато сказала Алтан-Цэцэг и отошла. Ее сердце вдруг наполнилось какой-то глухой и неясной тревогой.
– Ты устал, папа, иди отдохни.
Лодой молча поднялся и, шаркая ногами, побрел в свою комнату.
В постоянных делах, в хлопотах и заботах, в бесконечных командировках у секретаря аймачного партийного комитета Лодоя как-то не нашлось времени подумать о дочери. Лодой не заметил даже, как выросла она. Он-то считал ее подростком, которому нужна поддержка отцовской руки и отцовского плеча. Оказывается, ошибался. Дочь стала взрослой. Прозрение это пришло после выхода Алтан-Цэцэг из больницы, когда он, Лодой, начал с пристальным вниманием приглядываться к дочери. И чем больше приглядывался, тем больше понимал: дочь действительно выросла. Кроме того, он открывал поразительную схожесть дочери с матерью, сходство во всем: в разлете бровей и красивом изгибе длинной шеи, в глубоком и чуть восторженном взгляде, в легких и порывистых движениях (потом они станут мягче, женственней), даже в походке. Лодой открывал сходство и в характере и в ранней самостоятельности. Закончив техникум, даже не посоветовавшись с отцом, дочь самостоятельно приняла решение о работе. Лодою от этого было и обидно, и неловко. Но пришлось мириться.
Когда начальник аймачного сельскохозяйственного управления Ванчарай доложил о распределении выпускников техникума по хозяйствам, доложил, что пятерых из двадцати одного, в том числе и Алтан-Цэцэг, как наиболее подготовленных, необходимость заставляет оставить в аймачном центре, Лодой не только не рассердился, а принял, как само собой разумеющееся, в глубине души даже порадовался такому решению. «Ну, куда ей ехать… Несмышленая девчушка еще…» И другое: в доме должна быть хозяйка. Дом без хозяйки – сирота. Словом, молчаливо согласился с Вайчараем. Он не догадался или не счел нужным спросить саму Алтан-Цэцэг, что она думает о своем назначении.
А думала она оказывается по-своему. И добивалась. Когда Лодой узнал об этом, ему стало стыдно за себя.
Позднее, после выхода из больницы, поговорив с Алтан-Цэцэг, как со взрослым и равным себе человеком, Лодой про себя похвалил дочь и даже порадовался, что ее юность в чем-то повторяет и его, Лодоя, юность. Как он мог забыть о том вечном, неистребимом чувстве, которое зовет молодежь в дальние дороги?
«Руки у них до седла не достают, а они их до неба пытаются дотянуть». Это по-Ванчараю. Хитрец этот Ванчарай. Коль дочь самого секретаря партийного комитета оставлена в аймачном центре, то почему не оставить великовозрастных чад других ответственных работников? Почему не оставить сына? Оставил и сына, пристроив его в заготовительную контору.
Дочь открыла глаза Лодою на «распределительную махинацию» Ванчарая. Пришлось махинатора пригласить на бюро, по-партийному поправить его и заново пересмотреть распределение молодых специалистов.
Пришлось признать и свою вину. Урок на будущее!
«Ты у меня хороший. Хороший, как… мама».
«Нечего сказать, хороший, – Лодой лежал с закрытыми глазами, хотел заснуть, но сон не приходил к нему, – хороший, как… мама». Как ей сейчас не хватает матери… Не вспомнить – невозможно. Но жить одними воспоминаниями – тоже невозможно.
В июле тысяча девятьсот тридцать девятого года батальонного комиссара из шестой монгольской кавалерийской дивизии Лодоя японская пуля вышибла из седла. С перебитыми руками, с прострелен ной грудью он лежал на ничейной полосе.
Русский воин по имени Иван беспощадным пулеметным огнем отсекал путь самураям к Лодою. Другой русский вопи, может быть, тоже Иван, молодой безусый парнишка, пополз и выволок Лодоя с ничейной полосы, выволок из-под самого коса японцев,
В Тамцаке, в полевом госпитале, Лодоя разыскала дочь, пятнадцатилетняя Алтан-Цэцэг. Она принесла страшную весть о гибели матери. Дарь – в тридцать девятом она работала председателем аймачного женского совета – сопровождала караван верблюдов, который шел на фронт с подарками, собранными для советских и монгольских воинов женщинами аймака. Под Тамцаком, уже во фронтовой полосе, на караван налетели японские самолеты и разбомбили его. Дарь, мирный человек, мать, свою смерть приняла, как воин, и, как воин, со всеми почестями была похоронена в неоглядной ковыльной степи.
Алтан-Цэцэг тоже сопровождала караван. Мать, собираясь на Халхин-Гол, взяла с собой дочь потому, что бабушка в это время гостила в Улан-Баторе у подруги, а оставить девочку в городе по боялась: город японцы бомбили. Посчитала, что взять в собой безопасней.
Девочку оставили при госпитале. Она помогала санитаркам ухаживать за ранеными. Общительная я сноровистая, сна выполняла несложные поручения врачей и сестер, Она писала письма к родным и невестам под диктовку бойцов-цириков, которые не могли писать сами. В грустные вечерние часы бойцы нередко просили Алтан-Цэцэг что-нибудь спеть или рассказать, Алтан-Цэцэг не отказывалась. Не сильный, но чистый и звенящий, как горный ручеек, голос ее звал бойцов к жизни, приглушая их боль и тревогу.
Алтан-Цэцэг любила рассказывать услышанные от матеря красивые легенды и сказки про сильных и мужественных баторов, которых за смелость и отвагу приветствуют орлы в синем небе, которых ласкают вольные степные ветры.
Лодой помнит, как поразила его товарищей по несчастью одна легенда ясностью слов и мудростью мысли.
…Злой дракон разгневался на людей и сказал: «Я вас заставлю всех умереть медленной и мучительной смертью. Он дохнул на Солнце – и Солнце заледенело. Дохнул на Землю – и Земля покрылась льдом на долгие годы.
Без пищи и крова ходили по земле люди и плакали, прося о пощаде, а злой дракон только смеялся в ответ. Но нашелся батор, который решился избавить людей от беды. Он вынул из груди горячее сердце, приложил его к холодному Солнцу – и Солнце вдруг засияло! Лучи его были такие жаркие, что испепелили дракона и растопили на земле лед…