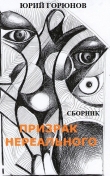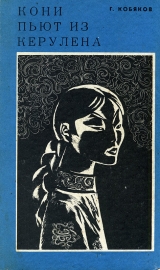
Текст книги "Кони пьют из Керулена"
Автор книги: Григорий Кобяков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
Весело, с пионерским салютом, я ответила:
– Всегда готова!
– Да будет счастливым и благополучным ваш дом.
После ухода парторга мы не спрашивали себя: «Зачем приходил этот гость?» Спасибо, что приходил.
…Максим! Забеги и ты к нам на огонек. Ну, хоть сейчас… Мы встретим тебя у юрты. Мы сегодня добрые и гостеприимные. Верно, Тулга? «Верно», – говорит.
7 сентября.
5
Вместо суток или двух, как думали мы с парторгом Жамбалом, отправляясь в поездку на дальние стоянки животноводов, мы пробыли в степи почти четверо. Загрузив до отказа седельные сумки книгами, газетами, письмами, утром восьмого сентября мы тронулись в путь. В небе теснились облака, похожие на беспокойную отару овец. Дул несильный ветер.
– Погода обещает быть хорошей, – предсказал Жамбал-гуай по неведомым для меня приметам.
Прогноз его оказался точным: четверо суток стояла сухая и теплая погода. Даже сильных ночных заморозков не было. Мое беспокойство из-за того, что не взяла теплую одежду, оказалось напрасным.
Во второй половине дня были на горе Баин-Цаган, ставшей знаменитой в тысяча девятьсот тридцать девятом году. Спешились у памятника советским танкистам.
– Давно хотел здесь побывать, – сказал Жамбал, – но все недосуг.
А я подумала: «Специально привез меня сюда, чтобы напомнить: здесь была война, здесь земля полита кровью советских и монгольских людей, святая земля».
Памятник – это танк, поднятый на постамент, склепанный из танковой брони. Надписи: «Танкистам РККА, яковлевцам – победителям над японцами в Баин-Цаганском сражении. 3–5 июля 1939».
Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде:
Мы начеку, мы за врагом следим.
Чужой земли мы не хотим ни пяди.
Но и своей вершка не отдадим!
У меня в памяти симоновские стихи. Их, наверное, вся Монголия знает – мужественные и простые:
…Вот здесь он, все ломая, как таран,
Кругами полз по собственному следу
И рухнул, обессилевший от ран,
Купив пехоте трудную победу.
…На постамент взобравшись высоко,
Пусть, как свидетель, подтвердил по праву:
Да, нам далась победа нелегко.
Да, враг был храбр.
Тем больше наша слава.
Жамбал снял беретку. Ветер растрепал его белые волосы. Постояли молча. Жамбал надел беретку, вздохнул:
– А там сейчас война. Враг более сильный и жестокий. – И тяжело, по-стариковски, стал садиться на коня.
…Степь. Максим, ты не забыл, какая она, настоящая-то? «Бескрайняя», «просторная», – все это, по-моему, не те слова. Она мне видится, как круг, правильный круг. В какую сторону ни повернись – видишь горизонт. Это совсем недалеко, где небо сливается с землей. И этой видимой чертой, как ходаком, ты опоясан. В ясную погоду круг шире, в пасмурную сужается, в дождливую или снежную – круг становится кольцом, за которым, кажется, и мир кончается. И в этом круге-кольце – ты. И ничего больше. Одному в таком круге жить, поверь, трудно. А степняки живут и работают. Больше того, находят красоту, которую не променяют ни на что другое.
Парторг Жамбал знакомит меня с чабанами, пастухами, табунщиками, верблюдоводами. И для каждого из них находит душевное слово. Получается так, что все, с кем мы встречаемся, а стараемся встречаться именно со всеми, очень хорошие, замечательные люди – герои труда, ударники, передовики. Если даже не ударники, то только пока. Выглядит это примерно так: «Амгалан – чабан. Пока еще не передовик. Но будет непременно. Это же старательный человек». «Дамдинсурэн – о, он добьется больших успехов. Никто лучше его не знает, как надо пасти овец!..»
Я как то спросила:
– Дорогой Жамбал-гуай, ну, а… плохие у нас в объединении есть?
Он бросил на меня хитроватый взгляд и улыбнулся:
– Вам, молодым, всех разложи по сундучкам: в большой сундук – хороших, в средний – удовлетворительных, a в малый – плохих. А люди – не бараньи шкуры, по сортам их не разложишь.
И очень серьезно, и очень твердо добавил:
– Нет, плохих у нас нет!
Подумав еще, добавил:
– Есть, которые ошибаются.
Я поняла: парторг любит людей. Но не ошибается ли он в своих суждениях, прав ли он?
Вот, скажем, Дамдинсурэн, который «добьется больших успехов», а пока не добился их. У него на стоянке мы пробыли часа три. От нестарого еще чабана я узнала такие тонкости, о которых я, зоотехник, знаю лишь в общем и целом. Речь зашла о повышении пастригов шерсти и повышении продуктивности. Дамдинсурэн спокойно и очень коротко изложил мне всю суть проблемы.
– Старые чабаны знают, что водить отары надо так, – неторопливо начал он, – чтобы не овцы проходили через траву, а трава проходила через овец. Поднимай отару пораньше утром и гони ее на восток. Потихоньку сворачивай к югу, а когда станет жарко, гони овец спиной к солнцу, чтобы в их глазах тени были. И старайся держать против ветра – пыль будет относить, и овце не сильно жарко… При такой пастьбе овца всегда будет наедаться досыта.
– Но почему же, – позднее спросила я Жамбала, – Дамдинсурэн, зная такие тонкости, пока не передовик, не ударник?
– Вот и разберись, какие причины мешают. Ты зоотехник, тебе и карты в руки.
Многому мне придется учиться, чтобы что-то полезное нести людям. Вот и Жамбал говорит: «Отвернуться от хорошего легко, научиться хорошему трудно. А ты не бойся, не стесняйся учиться. У людей за плечами опыт. И о нем надо знать».
На ночлег мы старались останавливаться не в одиночных, затерянных в степи юртах, а там, где стояло по нескольку юрт, жило по нескольку семей – в айлах. Вечерами в одной из юрт парторг собирал всех жителей, нередко приезжали люди и из степи. Не с докладами и не с лекциями выступал Жамбал, он просто рассказывал о делах в объединении, в аймаке, в стране, а потом отвечал па вопросы. Вопросов было много, особенно о положении на советско-германском фронте. Тревога вошла в каждую юрту. Она заставила спрашивать, что будет с Москвой и Ленинградом, почему отдана вся Украина, выстоит ли Одесса, не кинется ли снова самурай на Монголию?
Трудные вопросы, на них люди ждали ответа. Можно было отвечать: «Не знаю». Жамбал не полководец, не великий мыслитель, не государственный деятель. Какой с него спрос? Но он не прятался за «не знаю». Он всем своим существом верил в победу, в разгром фашистских захватчиков и хотел, чтобы люди поверили в это.
Не скрывая, что положение на фронте тяжелое, угрожающее, если не сказать, отчаянное, Жамбал говорил:
– И все-таки Красная Армия и советский народ победят. Москва и Ленинград? Стоят и стоять будут! По моему разумению, тут такая стратегия: русские заманивают немцев в глубь страны, чтобы там взять и прихлопнуть. Эту мою «стратегию» подтверждает сама истории. Когда бы и какие бы враги не появлялись в России – там оставляли свои головы. Оставят их и немцы. Это я вам точно говорю. Надо знать русского человека… Что касается самураев, то, думаю, пока не полезут. Им надо сначала зубы вставить, вышибленные здесь, на Халхин-Голе, два года назад советскими и монгольскими войсками,
– Ну, а если «беззубые» полезут?
– Будем рубить головы. Вы же видите: советские и наши войска стоят здесь начеку.
Своими ответами, а главное своей верой в победу наш парторг распрямляет людей, просветляет их души.
В последний наш вечер в степи разговор о войне затянулся допоздна. Не знаю отчего, но мне в этот вечер было невыносимо грустно. Я слушала и не слушала, что говорили люди. Скорее всего не слушала, думая о своем. Дело в том, что утром мы с Жамбалом отыскали могилу моей мамы. Одинокий холмик в степи со скромной пирамидкой был ухожен чьими-то добрыми руками. Это меня до слез растрогало. «Люди помнят…» Мы постояли у могильного холмика, положили на него по букету полевых цветов. И вот сейчас всякие думы лезли в голову. О маме и о себе.
После гибели мамы меня оставили в госпитале. Когда раненым становилось тяжело и тоскливо, они просили петь. И я видела, как от самой незатейливой песенки светлели глаза болидов и как потом они были благодарны. В какую-то минуту вдруг мне показалось, что чабаны и табунщики, девушки-доярки, матери, сидевшие вот здесь в юрте, усталые от трудов своих, чем-то напоминают тех раненых…
– А, может, спеть вам что-нибудь? – вслух подумала я и тут же испугалась. В недоумении поднял на меня глаза парторг.
Стыдясь своего порыва, я готова была извиниться за свое глупое вмешательство в беседу. Но чабан Дамдинсурэн сказал:
– А что, пусть споет… Не хоронить же нам себя заживо, не устраивать поминки…
И тут поддержали другие.
– Ну, спой, что ли, – нехотя согласился Жамбал.
Я долго не могла справиться с волнением и не знала, что же я буду петь. Вдруг, как вспышка молнии в голове: «Катюшу». Да, ту «Катюшу», что мне подарили твои друзья, Максим. И тихо, очень тихо стала петь-рассказывать про русскую девушку, которая ждет и любит друга-бойца.
Хорошо ли, плохо ли пела – не знаю, только увидела: у девушки, что сидела напротив меня, взметнулись ресницы, на щеках вспыхнул румянец, а пальцы стали мять голубой шарф, лежащий на коленях. Молодая женщина – вдова павшего на Халхин-Голе кавалериста поднесла к глазам платок. Я услышала, нет, почувствовала по тишине, как люди затаили дыхание. У меня защипало глаза, а горло стали сдавливать спазмы. В спине появилась такая тяжесть, будто на ней верблюжий горб вырос. Я выбежала из юрты, прислонилась к ее войлочной стенке. В юрте по-прежнему стояла тишина. Потом эта тишина нарушилась осторожным шумом, словно в ветреную погоду заплескался Буир-Нур.
Донесся глуховатый, рассудительный голос чабана Дамдинсурэна:
– Зима подходит, В шинельке не навоюешь. А мы, если пошарить по сундукам, можем собрать и послать на фронт рукавицы, шапки, свитеры, шубы. Да мало ли еще чего? Если мы начнем – поддержат, думаю, другие.
Плеск вдруг стал прибоем. Теперь не разобрать было отдельных голосов. И вдруг чей-то громкий голос:
– Беда в доме друга – наша общая беда!
«Что я наделала?» – взволнованная и чуть испуганная, отошла от юрты. Остановилась у коновязи. Здесь, сбившись в кучку и уткнувшись друг другу в морды, стоя дремали заседланные кони. Ждали своих хозяев.
Хлопнула дверь юрты. Выбежал Жамбал. Окликнул: «Алтан!»
Увидев меня, подошел, положил руки на плечи, по-отцовски привлек к себе:
– Песня-то, оказывается, нужна людям и в такое время. Разбередила ты всех. Спасибо, дочка! А какое хорошее и важное дело мы можем начать.
Жамбал был тоже взволнован.
В небе гасли холодные сентябрьские звезды. Начинался рассвет.
13—14 сентября.
6
В этот вечер мне было до невозможности тоскливо. Отчего это случилось – сама не могу объяснить. Может быть, оттого, что сердце устало от неизвестности. А, может, просто от дождя, мелкого и по-осеннему холодного, который вот уже несколько часов подряд сыплет из прохудившегося неба и нудно барабанит по юрте. У меня вдруг появилось желание подняться и ускакать в мокрую и стылую степь, распахнуть там свою душу дождю и студеному ветру и излить, выплакать свое горе в протяжной и долгой песне, похожей на стон.
Никуда я не ускакала. Только вышла из юрты, как холодная морось обожгла лицо. Бр-р-р! Продрогшая, вернулась. Нашла клубок ниток из верблюжьей шерсти и принялась вязать варежки – фронту, тебе, Максим… И тут сама собой вырвалась песня.
Туманам овраг затянуло,
Как перейти овраг?
Я давно, потеряла друга,
Где отыскать его, как?
Я не видела, как Тулга оторвалась от тетрадей.
– Не рыдай, – глухо и по-учительски жестко сказала она, – не выворачивай наизнанку душу, не изводи себя.
Я замолчала. Тулга, обычно насмешливая и озорная, сейчас как-то вся притихла. Она сидела за столиком нахохленная, как большая озябшая птица. После долгого молчания спросила:
– Где твой друг?
В голосе Тулги я услышала дружеское участие. Ответила откровенно:
– На войне.
– На какой войне?
– С фашистами…
У Тулги широко раскрылись глаза. Но удивления в них не было. Обычного бабьего любопытства тоже не было, хотя она поняла, что я говорю. После некоторого молчания Тулга сказала:
– Мудрые люди говорят: пусть далеки друг от друга горы – туманы и тучи соединяют их. Пусть далеки друг от друга люди – одна душа и одни дела сводят их вместе.
– Если бы так, – вздохнула я.
– А ты верь. Так будет!
И тут я рассказала Тулге о нашей дружбе с Максимом, как рассказала бы своей матери – все без утайки.
Тулга выслушала, не проронив ни слова. Потом спросила:
– Ты русский язык знаешь?
– Немного.
Ну как я могла не знать русского, если родилась в самом знаменитом на земле городе – Ленинграде? Там мои родители учились в Институте народов Востока. Как я могла не знать, если самыми первыми словами моими были монгольские, перемешанные с русскими? Ижий и ма-ма. Ав и па-па. И еще: Ле-нин. Позднее, в школе, тоже учила русский. Дома часто разговаривали по-русски. Бабушка иногда обижалась: «Ну, что вы там опять лопочете?»
А вот при встрече с солдатами, однополчанами и друзьями Максима, вела себя, говоря по-русски, дурочкой: молчала, будто ничего не понимаю. Боялась: мой сильный монгольский акцент, неправильное произношение многих слов будет смешить их.
Выслушав мою исповедь, Тулга звонко рассмеялась:
– Ты и в самом деле ду-роч-ка. Да к тому же еще и скрытная. Снова рассмеялась и с удовольствием повторила:
– Дурочка…
На душе у меня вдруг стало так легко, словно пересохшими от жары губами припала к роднику.
– Ну, а теперь давай споем вместе, – предложила Тулга и, не ожидая согласия, первой запела:
Туманом овраг затянуло,
Как перейти овраг?..
За юртой по-прежнему шумел холодный осенний дождь.
17 сентября.
7
Сегодня с Тулгой были в гостях у пограничников. Хотя и приглашение получили давно (в первые дни после моего приезда), хотя они от нашего поселка находились не очень далеко, все же времени «для визита дружбы» выбрать, никак не могли. Сегодня после полудня обе оказались свободными и вспомнили о приглашении.
Встретили нас радушно, как добрых старых знакомых. Комиссар, молодой симпатичный парень, стройный и подтянутый, пожалуй, даже щеголеватый, провел нас в комнату Сухэ-Батора. На одном из простенков здесь висел написанный маслом портрет совсем юного воина. Обращали на себя внимание длинные и узкие, почти сросшиеся у переносицы, напоминающие птицу в полете, брови и узкие с хитринкой живые глаза.
– Кто это?
– Герой Монгольской Народной Республики Шагдырын Гонгор! – ответил, почти отрапортовал комиссар и не без гордости добавил: – Наша застава давно знаменитая. Гонгор – один из первых Героев МНР.
И рассказал нам о герое, о том, как он в январе тысяча девятьсот тридцать шестого года отличился в стычке с японо-маньчжурскими нарушителями границы.
…В ночь на двадцать седьмое января помкомвзвода Гонгор с двумя цириками – Очиром и Базарсаду – выехали в дозор по границе. На одном из холмов, очистив окопы от снега, залегли. Когда спрятался за тучи серпик месяца, увидели на той стороне вспышки автомобильных фар. Насторожились. Прошло какое-то время, и пограничники услышали похрустывание снега у подошвы холма. Вскоре увидели большую группу вооруженных людей. «Враги!»
Гонгор дает команду знаками: Очиру – стеречь лошадей, Базарсаду – скакать на заставу за подкреплением. Сам остается на месте. Он наблюдает за врагами. Вот они разделились на две группы, одна из которых начинает обход справа. Ее возглавляет человек в белого маскировочном халате. «Офицер», – решает Гонгор и берет его на мушку. Но стрелять не спешит: бить надо только наверняка. Гонгор знает, успех стычки может решить только его выдержка и хладнокровие. Он ждет. Но вот наступил момент и он нажимает крючок. Человек в белом халате падает. Гонгор, как охотник из засады, спокойно выбирает другую цель и снова бьет. Раненый, как подбитая собака, визжит и катится с холма. Остальные залегли и начали торопливо стрелять. «Ага, стреляйте!» – и кладет на бруствер окопа тулуп: «По чучелу стреляйте!» А сам, перейдя на новую позицию, ищет другую группу. Увидел: «Ползут, гады». Выстрел навечно пригвоздил первого к земле. Выстрел – и еще один застыл. Враги не выдерживают, торопливо бегут вниз, к границе.
– По коням!» громко командует Гонгор, и к нему скачет Очир. Вдвоем бросаются на врага, а тут подходит и помощь…
– В тысяча девятьсот тридцать девятом наша застава первой приняла удар японцев. В мае это было, – и комиссар начинает рассказывать, как героически сражались цирики.
– Ну, а сейчас, – спрашиваем, – не придется снова первыми принять удар?
– Японцы ведут себя пока осмотрительно. Но лазутчиков засылают, вынюхивают, что у нас тут и как. Диверсиями не брезгуют. Все время приходится быть настороже.
Потом комиссар показывал хозяйство заставы: жилье цириков, конюшню, столовую. Мы даже залезали на сторожевую вышку и в бинокли разглядывали ту, чужую, сторону. Увидеть, однако, ничего не увидели, если не считать окопов, траншей и колючей проволоки. Чужая сторона показалась нам совсем вымершей. Комиссар сказал:
– Сегодня в Токио Микадо, а в Харбине императору Маньчжоу-Го Пу-и доложат, что в такое-то время две миловидные монгольские девушки интересовались сопредельной стороной. Может быть, назовут и ваши имена.
У меня по спине пробежал холодок. Я не на шутку испугалась. Испугалась и Тулга. Мы поспешно покинули вышку. Чтобы успокоить нас, комиссар сказал, что он пошутил. Но нам все равно, было не по себе. Вот, какие мы неисправимые трусихи. На границе, наверное, должны жить отчаянные люди, такие, как Гонгор.
Пограничники угостили нас сытным ужином, потом выступили с маленьким самодеятельным концертом. Мы тоже приняли участие в этом концерте: вместе с цириками-пограничниками спели «Катюшу». Получилось как нельзя лучше. На какое-то мгновение цирики услышали тоскующие голоса обоих Катюш, и были чрезвычайно растроганы.
Уезжали поздно. До половины пути нас провожал комиссар. Когда, пожелав доброго пути, он повернул назад, когда на дороге затих цокот копыт его лошади, в чернильной темноте наступила такая тишина, что я слышала стук своего сердца. Та, чужая, сторона зловеще молчала: ни огонька, ни шороха, ни звука. Нас охватил страх. Враг, вот он, совсем рядом, затаился и ждет удобного часа…
– Поедем? – шепотом спросила Тулга.
– Поедем, – так же ответила я.
Только дома, в своей юрте, мало-помалу пришли в себя.
Мои дела идут пока хорошо. На заседании правления поддержали предложение о создании на ферме специального молочного гурта. На днях начали строить телятник, правда, примитивный – в два ряда ставят плетень и пустоту забивают навозом. На строительство капитального нет леса. Но для начала и это хорошо. Председатель Самбу, правда, заметил с присущей ему прямотой и грубоватостью:
– Ты вот что: единолично не решай – «Будет построено!» Me полководец… Тут постарше тебя есть. Посоветуйся прежде…
Tулга сказала, что у колонистов – воспитанников Антона Макаренко был такой хороший девиз: «Не пищать!» Как бы трудно ни было – не пищать!
Тулга не пищит. Я, кажется, тоже не пищу. Но доблести нашей тут немного. Нам просто повезло на чудесных людей, которые живут и работают рядом с нами.
Парторг Жамбал, «девушка со смешинкой» Цогзолма, чабан Дамдинсурэн, председатель… Досадно бывает только на себя: слишком мало еще сделано, слишком много надо сделать. Хочется работать лучше, хочется делать больше для людей.
Укладываясь спать, раскочегарили печку – ночи стали холодные. Мне не спалось. В голову лезли всякие мысли. Печка, как сумасшедшая, гудела. Труба раскалилась докрасна. Я глядела в неприкрытое окно-тоно вверху: виделись звезды, которые грелись у трубы, и, отогревшись, уходили, уступая место другим звездам. Им, другим-то, ведь тоже хотелось погреться!
Словом, у меня сегодня лирическое настроение и я…
Я пишу об этом тебе, Максим!
26 сентября.
Глава третья
День начался, как начинался обычно. Девушки встали, прибрали в юрте, позавтракали. Собирая на комоде ученические тетрадки, Тулга спросила, как спрашивала почти каждое утро:
– Ну, куда ты понесешь нас сегодня, кораблик-парусник?
Кораблик-парусник – подарок русской женщины – стоял на комоде.
Оделись, пошли на работу: Тулга – в школу, Алтан-Цэцэг – в контору.
У конторы Алтан-Цэцэг на минуту, задержалась, зачем-то потрогала пальцами висящий здесь обломок рельса, покрытый мохнатым куржаком. Пальцы сразу прижгло. Сегодня от инея было все седое: юрты, трава, изгороди. Ночи стали холодные, если не сказать, морозные.
В конторе Алтан-Цэцэг долго не засиделась: как только солнцем согнало иней с травы, она была уже на коне. Поехала на стоянку к Дамдинсурэну, чтобы поискать те причины, которые «мешают чабану добиться больших успехов».
К полудню совсем потеплело, стало почти жарко, что нередко бывает в этих краях в первой половине октября.
Гнедой, закрепленный за Алтан-Цэцэг, шел неброским наметом. Конь уже привык к своей юной хозяйке, а она полюбила его. Назвала «Степным ветром». У коня горячая, вздрагивающая шея и тонкие ноги с сильными бабками. Хоть и низкорослый он, но крепкогрудый и мог резво скакать по многу часов кряду.
Над степью, высоко в небе, лениво бродили редкие облака, похожие на белых барашков. Под облаками с веселым клекотом кругами летали орлы.
Ничто в такие часы не мешало Алтан-Цэцэг ни думать, ни вспоминать. Думы о Максиме заполняли все ее существо, она жила этими думами.
Первые недели после отъезда Максима. Боже, как она тосковала! Но постепенно острая, исступленная тоска сглаживалась, однако совсем не проходила, и Алтан-Цэцэг была рада, что не проходила. Максим всегда был с нею и в ней: и тогда, когда она писала «письмо-дневник», похожее на отчет о прожитых днях, и тогда, когда поздней ночью, свернувшись клубочком в теплой постели, с боязнью и радостью ожидала очередного толчка под сердце живого, но неведомого пока существа, и тогда, когда моталась в бесконечных поездках по степи.
Гнедой скакал и скакал, вытянув шею, постригивая острыми ушами. Он не замедлял и не убыстрял бега. Постукивали копыта, посвистывал ветер…
Хорошо, легко и свободно думалось о Максиме в эти минуты. Но, как это часто бывало и раньше, заботы дня постепенно вытесняли думы о нем.
«Чабаны жалуются на сушь, ждут не дождутся снега. Тяжелая будет зимовка, если скот не нажируют сейчас».
«Зароды сена надо бы окопать – не дай бог пожар, последние крохи слизнет».
«Не привык монгол еще сено косить, вся надежда на тебеневку – круглогодичную пастьбу скота… Живуч дикий пережиток прошлого. В буддийском каноническом сочинении «Малая вера» сказано: «Избегайте греха, не отнимайте жизни у твари, не рвите траву, что питается соками земными, а то сами лишитесь жизни», или «сорвешь сто травинок – год жизни себе убавишь». Невежественные люди боялись трогать птицу и зверя, косить траву. Кое-кто боится и сейчас».
Не доезжая пади Буйной, где была стоянка Дамдинсурэна, на взгорье остановила разгоряченного коня и залюбовалась степью. По ней словно волны гуляли – на ветру колыхалась красноватая карагана.
Шагом подъехала к юрте. Из юрты вышла немолодая женщина, улыбнулась, узнав Алтан-Цэцэг.
– Сайн-байну, эгче!
– Хорошо ли пасутся овцы, Инчинхорло? – ответила на приветствие жены Дамдинсурэна Алтан-Цэцэг, и ее слова были приняты тоже как приветствие. Спросила о хозяине, где он. Дамдинсурэна дома не оказалось – он уехал в поселок за мукой. Разминулись в степи.
Не огорчилась Алтан-Цэцэг. «Побываю у других чабанов», – решила. И только подобрала повод, Степной ветер тут же скосил на нее огромный черный зрачок, стриганул ушами и с места взял в галоп.
Домой Алтан-Цэцэг возвращалась на закате солнца. Закат был тревожным: в густую зарю врезалась черная длинная туча с краями, окрашенными в багровый цвет. Как только солнце зашло, сразу подул сильный холодный ветер.
На берегу реки отпустила Степного ветра пастись. Когда подошла к своей юрте, на землю уже упала синяя сумеречная мгла. Мимо нее на взмыленном, коне проскакал из степи бухгалтер Гомбо. Этот человек с головой, похожей на круглую посудину, в которой воду носят, у Алтан-Цэцэг вызывал неприязнь. А потому она скорее вошла в юрту.
Тулги дома не было, но ужин она приготовила. Алтан-Цэцэг поела, убрала посуду и начала разбирать постель. В последние дни она стала сильно уставать. Но лечь не успела. В юрту вошла, вернее не вошла, а влетела Тулга.
– Ты дышишь, как запаленная лошадка, – сказала Алтан-Цэцэг и усмехнулась. – За тобой случайно не гнались?
– Гнались!
– Волки или кавалеры?
Алтан-Цэцэг в последнее время стала замечать: как Тулга пойдет на реку за водой, так в это самое время парням почему-то необходимо гнать коней на водопой.
– Алтан!
В голосе Тулги было что-то такое, что заставило Алтан-Цэцэг обернуться и посмотреть на подругу. Тулга стояла у двери радостно-взволнованная, возбужденная, сияющая, словно она только что завоевала звание чемпиона страны по стрельбе из лука или открыла новый закон природы и теперь не знает, как об этом сообщить.
– Алтан, помнишь? – Тулга закрыла глаза и положила ладошки на маленькие и тугие, как перевернутые пиалы, груди. – Помнишь: «Пусть далеки друг от друга горы – туманы и тучи соединяют их…»
У Алтан-Цэцэг запылали уши, а по лицу разлилась матовая бледность.
– Говори! – губы ее едва шевелились.
– Почту привезли! – крикнула Тулга и выдернула из-за пазухи письма-треугольнички. – От Максима!
– Не может быть…
– Танцуй!
Алтан-Цэцэг запрокинула голову – и закружился потолок юрты, палочки стали сливаться и исчезать, как спицы в колесе при быстрой езде. Качнулась, руками придержалась за край столика.
– Ой, Тулга! – вскочила и, стряхнув оцепенение, в каком-то сумасшедшем танце пошла вокруг очага. По стенам юрты заметались тени.
– Три раза танцуй! – крикнула Тулга, но Алтан-Цэцэг выхватила у нее письма, прижала их к лицу и тихо-тихо засмеялась. Ноги отчего-то стали ватными. Алтан-Цэцэг опустилась на кровать.
Чтобы не мешать подруге, Тулга тихонько вышла из юрты, плотно притворив за собой дверь.
Смеясь, размазывая по щекам хлынувшие слезы, Алтан-Цэцэг бережно вскрыла солдатские треугольнички.
Говорят, счастье и несчастье, горе и радость – близнецы, и ходят они нередко в обнимку. Читая письма, Алтан-Цэцэг не слышала, что происходит за стенами юрты, до нее не донесся, не дошел сигнал тревоги, который растекался по всему маленькому поселку, поднимая людей, созывая их к конторке. Водопад, горный об-вал, громовой раскат, взрыв – ничего бы в эти минуты не услышала Алтан-Цэцэг, не то что удар молотка по обломку чугунного рельса.
В юрту ворвалась Тулга, испуганная и растерянная.
– Алтан, ты слышишь?
– Бум! – донесся чугунный тревожный звон.
– Слышишь?
Алтан-Цэцэг вздрогнула.
– Бум!
– Что такое, что случилось?
Они знали, Алтан-Цэцэг и Тулга, как знали все в поселке, для чего у конторы висит ржавый обломок рельса и лежит большой молоток: не для того, чтобы созывать люден на работу, как делалось во многих других местах, и не для того, чтобы оповещать об обеде или окончании работы, – совсем для другой цели. Только в двух особых случаях мог раздаться чугунный звон.
Враги нарушили границу – поселок будет поднят частыми-частыми ударами.
– Бум-бум, бум-бум-бум!
По этому сигналу дружинники, взяв оружие, займут окопы, которые вырыты сразу за поселком, по берегу реки. А кто-то ускачет на охрану фермы– она у самой границы.
Но сейчас граница не нарушена. Удары редкие. Они оповещают о стихийном бедствии. Но что случилось?.
Кто-то проскакал на лошади. Где-то зафыркала, заурчала машина. Люди бежали к конторе. И уже разнеслась над поселком молва: степной пожар, пожар в пади Буйной!
«Там три стога сена и отара Дамдинсурэна стоит…» – мелькнуло в голове Алтан-Цэцэг.
Накинув дэли, подпоясавшись, она сгребла со столика письма Максима, сунула их за пазуху и вслед за Тулгой выскочила из юрты.
Мимо проскакал всадник, кажется, Амгалан. Он кричал:
– Буйная горит! Буйная горит!
Как это случилось – никто не знает. Может, какой-то недобрый человек сунул спичку в сухую траву, может, неосмотрительный чабан выколотил недокуренную трубку и заронил тлеющий табак, а может, лазутчик с чужой стороны пришел – не раз и такое бывало. Только вдруг появился огонь в степи, иссушенной и пересушенной ветрами и солнцем. Сначала он побежал тоненькой и совсем неопасной змейкой, «красивыми золотыми светлячками перепрыгивая с одной травинки на другую, с пучка на пучок. Но потом, когда дошел до густоты, – падь Буйная свое название получила от буйства трав – густота начала взрываться пламенем – сразу вся, с тяжкими вздохами, с ревом. Искры, дым, языки огня – все клубилось. А тут еще ветер. Он рвал эти огненные клубы в клочья и швырял их далеко вперед, на свежие участки. Огонь, как горючая жидкость, расплескивался и растекался по земле, заливая и захватывая все большее пространство.
К стогам сена, к юртам, к загонам овец теперь катился живой огненный вал, страшный и неукротимый. Первой на пути этого вала оказалась стоянка Дамдинсурэна. Чабан знал, чем это грозит. На своем веку ему не раз приходилось видеть, как неукрощенный, не задавленный при своем рождении, безобидный и ласковый огонек становился огромным фантастическим зверем, пожирающим и пастбища, и стога заготовленного сена, и заживо целые отары, если чабаны чуть оплошали или промедлили.
Овцы, попадая в огонь, сначала вспыхивают свечками, но пламя тут же с них спадает. Оно как бы расплавляет, спекает шерсть и образует раскаленный панцирь, из-под которого с шипением выбиваются лишь синие всполохи да смрадный дым от горелого жира и мяса… «Панцири» и сжигают овец. А они, глупые, охваченные ужасом и болью, ищут спасения у сбившихся кучей таких же глупых своих подруг…
Дамдинсурэн увидел «золотую змейку» «кудрявый белый дымок, когда на закате солнца гнал на ночлег отару с вершины Буйной. Он сразу же повернул овец в обратную сторону, пустил их по ветру, а сам поскакал к юрте. Без лишних разговоров – к чему разговоры, без них все ясно! – посадил на своего коня жену Инчинхорло и велел ей как можно скорее и как можно дальше, угонять овец из опасной зоны, из пади, охваченной огнем. Быстро заседлав другого коня и захватив оказавшиеся под рукой метлу и лопату, Дамдинсурэн поскакал к стогам сена. Им прежде всего угрожал огонь, который за это короткое время превратился из безобидной змейки в бушующий вал.
Почти одновременно к месту пожара прискакал сосед Дамдинсурэна – Амгалан.
– Не управиться одним, – сказал Дамдинсурэн, – ветер сильный. Скачи, Амгалан, в поселок, зови людей на помощь, а я попробую отсечь огонь от зародов. Скачи, не медли, а то беда будет.
И Амгалан ускакал.
Отсечь огонь… Только единственным способом и то да небольшом участке можно было это сделать – встречным огнем, встречным палом. Но если пал пустить по некошеной густой траве – с ним не управиться. Огонь неудержимо покатится вперед, а ветер ему поможет. Пал пускать надо по кошенине, по отаве, хотя граница ее совсем недалеко от зародов.