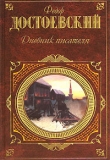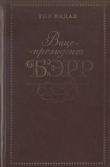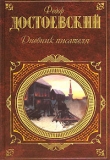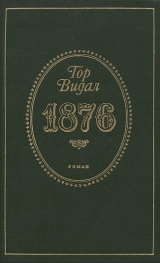
Текст книги "1876"
Автор книги: Гор Видал
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 32 страниц)
Глава первая
1
– Вот он, Нью-Йорк. – Я показал дочери раскинувшийся перед нами порт, словно это был мой город. Корабли, баржи, паромы, четырехмачтовые шхуны, точно детские игрушки, суетились на фоне хаотического скопища зданий, совершенно неузнаваемых: смешение красного кирпича и песчаника, крашеного дерева и унылого гранита, церковных шпилей, которых не было раньше, и причудливых луковиц – цементных, что ли? Они годились бы скорее для украшения Золотого Рога, нежели моего родного города.
– По крайней мере мне кажется, что это Нью-Йорк. А может быть, Бруклин. Говорят, будто нынешний Бруклин с его тысячью церквей на редкость экзотичен.
Чайки за кормой с криками ныряли в воду, когда стюарды с нижней палубы выбрасывали за борт остатки обильного завтрака, поданного нам на рассвете.
– Нет, – сказала Эмма. – Я только что от капитана. Это самый настоящий Нью-Йорк. И каким же старым, дряхлым он выглядит! – Меня радовало возбуждение Эммы. В последнее время у нас было не много поводов для веселья, и вот она снова – любопытная девочка, в темных глазах светится всевидящий и вопрошающий взгляд, всегда означавший: я должна понять, что это такое и как это лучше использовать. Новизна и полезность ей ближе, чем красота. Я – полная противоположность Эмме, мы с дочерью дополняем друг друга.
В серых облаках просвечивали полоски ярко-голубого неба; с северо-запада – налетали стремительные порывы ветра; солнце светило прямо в глаза: значит, мы повернули на восток от Норт-ривер, и перед нами лежал Манхэттен, остров, где я родился, а не Бруклин, находящийся южнее, и не Джерси-сити, оставшийся за спиной.
Я глубоко вдохнул соленый морской воздух, смешанный с дымами города, отапливаемого антрацитом, и с запахом только что выловленной рыбы, грудой серебряных слитков заполнившей проходящую мимо баржу.
– Старым? – До меня только сейчас долетел смысл ее слов.
– Но да. – Эмма говорит по-английски почти без акцента, но иногда дословно переводит с французского, выдавая свое иностранное происхождение. Впрочем, иностранец я – американец, большую часть жизни проживший в Европе, а Эмма до сих пор ни разу не покидала Старый Свет, где она родилась тридцать пять лет тому назад, в Италии, во время бури, вырвавшей с корнем половину деревьев в саду нашей виллы и так перепугавшей акушерку, что она чуть не задушила пуповиной новорожденную. Всякий раз, когда я вижу поваленные ветром деревья, слышу гром и смотрю на бушующее море, я вспоминаю тот декабрьский день, бледное лицо жены, столь контрастирующее с ярко-красным цветом ее крови.
(Мне кажется, что воспоминания в этаком непринужденном лирическом стиле отлично подойдут для «Атлантик мансли».)
– Да, старым. Закопченным. – Эмма поежилась от ветра. – Как Ливерпуль.
– Все порты одинаковы. И все же здесь нет ничего старого. Я ничего не узнаю. Даже муниципалитет – он должен быть там, где виднеется вон та мраморная гробница. Видишь? Вся в колоннах…
– Ты, наверное, просто забыл. Это было так давно.
– Я как Рип Ван Винкль. – Я уже представлял себе начало моего первого очерка для «Нью-Йорк геральд» (если, конечно, мне не удастся заинтересовать мистера Боннера из «Нью-Йорк леджер», который, я слышал, платит тысячу долларов за статью). «Новый Рип Ван Винкль, или Рассказ о том, как Чарлз Скермерхорн Скайлер отплыл в Европу почти полстолетия тому назад…» И жил там (в спячке?). Теперь он вернулся, чтобы отчитаться перед президентом Мартином Ван Бюреном, пославшим его за границу с дипломатической миссией, показать свои путевые заметки другу юности Вашингтону Ирвингу (который, в конце концов, его и выдумал), пообедать с поэтом Фицгрин Халлеком – увы, вернулся, чтобы с удивлением узнать, что все они давным-давно умерли.
Здесь пора остановиться.
Эти страницы – наброски, не более того. Повседневные впечатления от моей новойстарой родины.
Заголовки: «Соединенные Штаты в год столетия». «Возвращение странника». «Старый Нью-Йорк: мемуары никербокера». «Воспоминания об эпохе Джексона и Ван Бюрена…» Попробую заинтересовать ими издателей и лекционных агентов…
В данный момент – сейчас полночь 4 декабря 1875 года – меня несколько смущает проблема: как воплотить в слове этот Новый Свет, с которым я пока знаком лишь на расстоянии. Разумеется, я могу до бесконечности писать о днях минувших, и, к счастью, если верить моему издателю мистеру Э. П. Даттону, такая продукция, предайся я воспоминаниям, будет иметь хороший сбыт. Однако подлинная задача – проникнуть в суть этой страны, какой она стала сегодня, с населением, в два, три или даже четыре раза превышающим то, что было в год моего отъезда– 1837-й. И только сейчас, обливаясь потом в гостиной нашего номера, куда внезапными порывами, напоминающими африканский сирокко, через металлические трубы вторгается сухой, раскаленный воздух, и размышляя над тем, что я успел увидеть сегодня в Нью-Йорке, я начинаю понимать масштаб того, что мне предстоит.
Никто из американцев, с которыми я встречался в Европе на протяжении последних сорока лет, не счел нужным подготовить меня к величию и вульгарности, изобилию и нищете, элегантности и чудовищному скоплению людей в этом городе, который остался в моей памяти небольшим морским портом со столь скромными претензиями, что дом, которым владела мадам Джумел на Гарлемских – то есть уже давно не Гарлемских, а Вашингтонскиххолмах, считался особняком, а теперь целиком поместился бы в танцевальном зале одного из тех дворцов, которые строят себе богачи на улице, называющейся ныне Пятой авеню, а в мое время – проселочной дороге, петлявшей между фермами к северу от Поттерс-филд, позже переименованной в Пэрэйд-граунд, а еще позже – в Вашингтон-сквер, застроенную «старыми» домами наследников нью-йоркской знати времен моей юности.
В те дни горожане жили в южной части острова Манхэттен, между Батареей и Бродвеем, где теперь властвует коммерция или кое-что похуже. Я вспоминаю, что площадь Св. Марка была крайней северной точкой, жить дальше которой никому и в голову не пришло бы. Теперь, рассказывают, некая богатая особа построила себе кремовый дворец во французском стиле на Пятьдесят седьмой (!) улице напротив только что законченного Центрального парка (как, спрашивается, можно «закончить» парк?).
К Эмме подбежал запыхавшийся стюард.
– C’est un monsieur; il est arrivé, pour Madame la Princesse [6]6
Некий господин спрашивает княгиню (фр.).
[Закрыть].
Все в один голос уверяли нас, что из судов, пересекающих Атлантику, самые комфортабельные – французские; «Перейра» не обманула наших ожиданий, несмотря на зимние штормы, сопровождавшие нас половину пути от Гавра. Капитан был сама любезность; он находился под впечатлением высокого титула Эммы, вопреки тому, что титул этот наполеоновский, а вторая французская империя сменилась третьей французской республикой. Тем не менее капитан предоставил нам поистине королевские каюты всего за 150 долларов (обычная цена двух билетов первого класса – 200 долларов).
Наши попутчики были столь угрюмы и ненавязчивы, что я сумел за восемь с половиной дней путешествия закончить статью для «Харпере мансли». «Императрица Евгения в ссылке» слеплена из фактов, сообщенных мне моей обожаемой подругой принцессой Матильдой, разумеется ненавидящей свою кузину – императрицу. В соответствии с современным американским вкусом статья исполнена патетики, по большей части ложной.
Императрица всегда была очень добра к Эмме и ко мне, хотя и позволила себе однажды бестактность в моем присутствии, сказав, что в обществе литераторов ей так же скучно, как в обществе первооткрывателей! Что ж, писатель – тот же первооткрыватель. Мы тоже заняты поисками забытых городов, редкостных животных и никем не написанных фраз.
Посетителем Эммы оказался Джон Дэй Эпгар. Он ждал нас в главном салоне. С несколько потерянным видом он стоял в толпе пассажиров первого класса, озабоченных поисками детей, гувернанток, сумок и чемоданов.
Несколько мужчин возле бара с мраморной стойкой поглощали коктейль, который американцы колоритно нарекли «продирателем глаз».
– Княгиня! – Эпгар низко склонился над ее рукой; для американца у него неплохие манеры. Все-таки недаром Джон, как я его зову, провел год в нашем посольстве в Париже. Теперь у него в Нью-Йорке адвокатская практика.
– Мистер Эпгар, вы верны своему слову. – Эмма обратила на него прямой взгляд своих темных глаз, быть может, не столь пронзительный, что был брошен на город Нью-Йорк, но ведь Джон в отличие от города ей довольно хорошо знаком.
– Карета ждет вас у пятидесятого причала. С носильщиками. Простите, мистер Скайлер. – Джон поклонился мне, мы пожали друг другу руки.
– Как вы попали на борт? – полюбопытствовал я. – Разве мы уже причалили?
– На специальном катере. С целой оравой, которая вас встречает.
– Меня? – я был искренне удивлен. Я телеграфировал Джейми Беннету в редакцию «Геральд», что прибываю четвертого, но я вовсе не рассчитывал, что этот лентяй явится ко мне с визитом на середину Гудзона. Кто же еще узнал о моем призде?
Капитан все нам объяснил.
– Американская пресса поднялась на борт, чтобы проинтервьюировать мистера Шулэ. – Я никак не могу привыкнуть к французскому произношению моего имени. Может быть, поэтому я чувствую себя во Франции совсем другим человеком, чем был в Америке. Спрашивается: изменился ли я? В конце концов, именно слова выражают нашу суть.
– Невероятно! – Эмма невысокого мнения о журналистах, несмотря на то что наши средства к существованию отныне мне предстоит зарабатывать пером, писанием для газет, журналов, для кого и чего угодно. Паника 1873 года уничтожила весь мой капитал. Но что еще хуже, муж Эммы оставил ее в сходной ситуации, он не нашел ничего лучшего, как умереть пять лет назад, пытаясь проглотить кусок Tournedos Rossini [7]7
Говяжья вырезка с гусиной печенкой и трюфелями.
[Закрыть]в ресторане «Лукас Картон».
Был ли это сердечный приступ или кусок говядины, попавший в дыхательное горло, мы никогда не узнаем, потому что нас обоих не было рядом, когда князь д’Агрижентский столь скоропалительно оставил этот мир во время позднего ужина с любовницей. Это был настоящий скандал в течение трех дней накануне войны с Пруссией. Вскоре у парижан появилась другая тема для разговоров. У нас – нет. До сих пор мы не в силах понять, как случилось, что князь умер, задолжавсостояние, которым, казалось нам, он владел.
С несколько сомнительной помпезностью придворного камергера капитан провел нас через салон в небольшую гостиную, обставленную позолоченными креслами à la Louis Quinze [8]8
В стиле Людовика XV (фр.).
[Закрыть], где меня поджидал цвет юной нью-йоркской прессы. Иными словами, молодые неопытные журналисты, чья функция – встречать на борту знаменитостей и в мучениях и ошибках (второго, как правило, больше, чем первого) осваивать искусство интервьюирования, или бойкого лжеописания этой особой людской породы.
Двадцать или тридцать лиц смотрели на меня из скопища длинных и весьма потрепанных пальто; одни распахнутые из-за тепла в гостиной, другие наглухо застегнутые от морозного ветра в это утро. Сегодня нам чуть ли не сто раз сказали, что такой холодной зимы старожилы не помнят. Но разве не так говорят про любую зиму?
Капитан представил меня журналистам – он явно доволен тем, как быстро и, пожалуй, даже драматично окупается сделанная нам скидка. Я воспел пароходную кухню и пышно восславил удобства французской пароходной компании.
Пока на меня сыпались вопросы, некий близорукий художник набрасывал мой портрет. Я успел кинуть взгляд на одно из своих воплощений, когда он переворачивал страницу блокнота: невысокий, тучный, похожий на голубя мужчина с тремя подбородками, уложенными поверх неестественно высокого воротника (у меня нормальный воротник), со вздернутым, разумеется, носом и квадратной челюстью уже немолодого голландца. Боже! К чему иносказания? Старик шестидесяти двух лет.
Худышка из «Нью-Йорк геральд». Вялый юнец из «Нью-Йорк грэфик». Мрачный карлик из «Нью-Йорк тайме». «Сан», «Мэйл», «Уорлд», «Ивнинг пост», «Трибьюн» тоже здесь, но пока не представились. И еще полдюжины молокососов из еженедельников, двухнедельников, ежемесячников, двухмесячников… О, Нью-Йорк, Соединенные Штаты – эта Валгалла журналистики, если только Валгалла – верное слово. В Соединенных Штатах больше процветающих газет и журналов, чем во всей Европе. Вот и получилось, что писатели выходят из мира журналистики, так никогда его полностью не покидая… В мое время они весьма неохотно писали для прессы – только чтобы заработать на скудное пропитание (моя нынешняя участь).
– Мистер Скайлер, каковы ваши впечатления о Соединенных Штатах? – Карлик из «Нью-Йорк тайме» держал свой блокнот перед глазами, как требник, и смотрел в него, а не на меня.
– Я узнаю это, когда сойду на берег. – Довольные смешки из скопища пальто, начавших издавать специфический запах грязной и сырой шерсти.
Эмма стояла у двери, прижав к лицу носовой платок, в любую минуту готовая обратиться в бегство. А вот Джон Эпгар был, похоже, зачарован четвертым сословием во всем его неопрятном великолепии.
– Когда вы в последний раз были в Америке? – «Уорлд» бросила нечто вроде вызова: разве это дело – жить не в богоизбранной стране?
– Я уехал в 1837 году. В тот год все обанкротились. Вот я вернулся, и все снова обанкротились. Не находите ли вы, что тут есть какая-то симметрия?
Это сошло довольно хорошо. Но почемуя уехал?
– Потому что президент Ван Бюрен назначил меня вице-консулом в Антверпене…
Мне казалось, что это произведет впечатление, но я ошибался. Не уверен, какие именно слова их озадачили: «вице-консул» или «президент Ван Бюрен». Но ведь американцы всегда жили настоящим, и нынешнее поколение ничем не отличается от моего, если не считать, что теперь у них больше прошлого для забвения.
Когда я уехал, наша республика (вскоре она отметит свой столетний юбилей) была в жизнерадостном шестидесятилетием возрасте; теперь это мой возраст.
Хотя моя жизнь охватывает почти две трети истории Соединенных Штатов, она представляется мне мгновением. В этой связи любопытны первые впечатления Эммы от Нью-Йорка: каким старым он выглядит, сказала она. А ведь, пожалуй, со времен моей юности тут ни одного дома не уцелело. Отвечая на вопросы репортеров, я узнал в иллюминаторе – скорее, амбразуре – знакомый шпиль церкви св. Троицы. Хотя бы одну достопримечательность старого города пощадили многочисленные пожары!
(Более поздняя приписка: мой «знакомый шпиль», если верить Джону Эпгару, был снесен в 1839 году. Новый, незнакомый, относится к началу сороковых.)
Вопросы сыпались один за другим. Ответы мои были в меру колкими – приходилось учитывать, что человеку, уезжавшему столь надолго, надлежало тактично оправдываться. И если газетные отчеты о моем возвращении будут благожелательными, я с легкостью, надеюсь, найду лекционных агентов, не говоря уже о журнальных заказах – лишь бы только платили!
– Где вы жили все это время, сэр?
– Последние несколько лет – в Париже. Я приехал туда…
– Вы были в Париже во время войны и германского нашествия?
Я старался держаться скромно, любезно, но свободно.
– О да. Знаете, я даже написал об этом книгу. Быть может, вы о ней слышали. «Париж под Коммуной».
Или мои издатели преувеличили успех книги, или же репортеры не читают ни книг, ни рецензий. А ведь «Харпере уикли» охарактеризовал «Париж под Коммуной» как «великолепный, леденящий душу рассказ очевидца об осаде Парижа и рождении Коммуны, отмеченный редким даром наблюдательности, столь свойственным всему, что выходит из-под пера Чарлза Скермерхорна Скайлера». Я запомнил эту тираду дословно, потому что до тех пор мне казалось, что из-под моего пера не выходит ничего, кроме скрипа.
Человек из «Сан» с явным самодовольством спросил:
– А вы сами, сэр, не коммунист?
– О нет, мой мальчик. – В моем голосе появилась вдруг хрипотца; я намеренно подражал манере Вашингтона Ирвинга, когда он хотел очаровать собеседника. – Я простой американец.
– Тогда почему же вы так долго жили за границей? – вопрос газеты «Грэфик».
– Когда я был американским консулом в Италии, я женился на уроженке Швейцарии…
– Это она? – карлик метнул поверх требника взгляд на Эмму, точнее, направил сей предмет на нее, будто чертенок, вручающий грешнику судебную повестку в ад.
– Моя жена умерла. Она скончалась в Париже несколько лет назад. Она…
– Как вас зовут, мисс? – вопрос «Уорлд», обращенный к Эмме.
– Je ne comprends pas, monsieur [9]9
Я не понимаю, месье {фр.).
[Закрыть].– Ее лицо побледнело, a губы вытянулись в прямую раздраженную линию. Французские слова прозвучали, как удар хлыста.
– Моя дочь – княгиня д’Агрижентская. – Это вызвало настоящее замешательство репортеров, пытавшихся точно записать титул. В конце концов был достигнут компромисс. По-английски он звучал «княгиня д’Агриженто». – Она вдова… – принялся я объяснять.
– А чем занимался князь? – полюбопытствовала «Экспресс».
Эмма перешла ка английский и явно собиралась надерзить, но я успел жестом остановить ее. Джон смотрел на нас завороженно: спектакль становился забавным.
– У князя были широкие интересы. Его отец, вы это, конечно, знаете, был маршалом Франции, он служил при Наполеоне I. Титул ему пожаловали в Италии. После Ватерлоо, когда Наполеон потерпел поражение… – Слишком много подробностей сразу. Репортеры нетерпеливо дали понять, что они знают о битве при Ватерлоо.
– У вас есть дети, княгиня?
– Двое, – ответил я быстро. – В Париже. С бабушкой. Вдовствующей княгиней. – Эта титулованная стерва сдирает с нас ежегодно пять тысяч франков, почти тысячу долларов, на их содержание; это весь доход, какой Эмма получает с того, что осталось от состояния мужа. Нужно ли говорить – да, я не могу удержаться, хотя эти записки не имеют к ней никакого отношения, – что такой ужасной особы, как свекровь Эммы, я в жизни своей не встречал. Согласно легенде, она была проституткой, когда на нее обратил внимание лейтенант Дюпон, будущий маршал и князь д’Агрижентский. Однако я не могу поверить, что этой особой можно было увлечься, так как убежден, что и тогда она была столь же отвратительна, как скотобойня в августовский день.
– Собираетесь ли вы писать о том, как изменился Нью-Йорк с того времени, когда вы здесь жили? – Этот вопрос задал милый худощавый человек из «Геральд», который знает меня как «ценного автора».
– Конечно. Я мечтаю поездить по Штатам. На восток и на запад, на юг и на север. Я хочу побывать на филадельфийской выставке, посвященной Столетию, и написать о ней…
– Для «Геральд»? – снова этот милейший молодой человек.
– Разумеется. – Я отвечаю ему любезностью, но не искренностью, потому что собираюсь писать туда, где больше платят.
– Вы не родственник миссис Астор?
Это был на удивление странный вопрос.
– Конечно, нет! – Боюсь, что я ответил на него с излишней горячностью.
Загадка быстро разрешилась: оказывается, девичья фамилия миссис Астор та же, что у моей матери, – Скермерхорн, а я об этом ничего не знал, хотя еще в Париже очарованные и зачарованные странники рассказывали нам о пышности ее приемов, об изумительном великолепии светского общества, которым она верховодит, затмив свою невестку, супругу Джона Джекоба Астора-третьего, которая стоит выше ее хотя бы по праву первородства, поскольку Дж. Дж. Астор-третий старший сын, а следовательно, и глава семьи.
Однажды, полстолетия тому назад, я видел первого Дж. Дж. Астора, когда он едва полз по Бродвею в шубе на горностаевой подкладке, сопровождаемый моим старым другом и своим секретарем поэтом Фицгрин Халлеком. Никого из них уже нет в живых.
Вопросы о моих книгах, немногочисленные. Судя по прессе, я известный в Америке писатель, но эта неопрятная братия не очень уверена в том, чем именноя известен. С другой стороны, они все знают мою журналистику, не только то, что я писал для «Геральд» Джейми Беннета, но и для «Ивнинг пост», где началась моя литературная карьера. Я – неувядаемый авторитет нью-йоркской прессы по европейским делам.
Политика. Когда имеешь дело с американцами, она всегда вылезает наружу.
Что я думаю о недавнем аресте и тюремном заключении «босса» Твида, укравшего у города Нью-Йорка миллионы долларов во время строительства нового роскошного здания городского суда? Я благочестиво осудил коррупцию.
Что я думаю о генерале Гранте, чей второй срок на посту президента заканчивается через год?
Я отвечал осторожно. Коррупция, поразившая администрацию генерала Гранта, больно задела меня лично. Моим капиталом распоряжался банкирский дом Джея Кука, обанкротившийся осенью 1873 года, это вызвало панику, последствия которой до сих пор при нас – в отличие от моего капитала.
Несколько уолл-стритовских бандитов, и среди них Джей Гулд и Джим Фиск – как хорошо я запомнил их имена! – в попытке скупить золото вызвали тысячи банкротств. Был ли в этом замешан сам генерал Грант – спорный вопрос. Известно, конечно, что он принимал щедрые подарки от людей типа Гулда и Фиска. Если Грант и не преступник, то уж болван наверняка. Но республиканская партия его выгораживает, превозносит и страшится его ухода даже теперь, после двух сроков в Белом доме.
– Полагаете ли вы, что генерал Грант выставит свою кандидатуру на третий срок? – спросила «Таймс», газета, особо преданная администрации Гранта.
– Мне трудно сказать, я никогда не встречался с генералом. Но… – Тут я намеренно приступил к созиданию если не богатства, то по крайней мере местечка для себя, где я смогу прожить оставшиеся мне несколько лет без страха перед нуждой. – Но,– повторил я, – вы, наверное, знаете, что я демократ старой закваски, сторонник Джексона и Ван Бюрена… – Это пробудило некоторый интерес. Я ощутил явную холодность со стороны репортеров, представляющих прессу республиканцев (пожалуй, их большинство), и нескрываемую симпатию остальных.
– Вы сторонник выдвижения кандидатуры губернатора Тилдена от демократической партии?
Сторонник! Все мои надежды покоятся на том, что этот хрупкий человечек в будущем году станет президентом.
– Разумеется. Хотя au courant… [10]10
На данный момент (фр.).
[Закрыть]– Конечно, это ошибка – говорить с ними по-французски, но сказанного не воротишь.
Странно. Во Франции я думаю только по-французски. А сейчас, сидя в этом гостиничном номере, – на каком языке я думаю? По-английски? Нет, à mélange [11]11
На смеси [языков] (фр.).
[Закрыть].
– Едва ли мне известно о нью-йоркских делах столько, сколько вам, джентльмены, но я знаю, что, разоблачив шайку Твида, Тилден завоевал симпатии честных людей штата Нью-Йорк и они в прошлом году выбрали его губернатором. Он положил конец обиранию бедных богатыми…
– В ваших словах ощущается коммунистический привкус, сэр. – Это, конечно, «Таймс».
– Так, значит, честность и коммунизм одно и то же? – Этим я заслужил аплодисменты. Удивительно, до чего забеспокоились мокрые пальто при одном только упоминании коммунизма. Очевидно, парижское восстание сильно напугало нью-йоркских бюргеров; конечно, напугало оно и нас, парижан, когда после ухода немцев городом завладели коммунары; однако еще страшнее оказалась месть бюргеров, которые истребили многие тысячи коммунаров. На моих глазах на улице Мон-Руж убили пятилетнего ребенка. Впрочем, мировая революция, начавшаяся в 1848 году, еще не кончилась.
В этот момент я поднял свой штандарт:
– Когда я в позапрошлом году последний раз видел Тилдена в Женеве…
Возбуждение, которое я хотел вызвать, стало вполне ощутимым: мокрые пальто ну просто исходили паром. Невнятное интервью с возвратившимся автором нашумевших, хотя и неведомых газетчикам книг заметно оживилось.
– Вы друг губернатора?
– Едва ли это точное слово. Но мы с ним переписываемся. Нас познакомил мистер Галлатин, который живет в Женеве.
Я терпеливо произнес фамилию по буквам, объяснил, что отец Галлатина был министром финансов при президенте Джефферсоне.
– Я нахожусь под огромным впечатлением от личности губернатора Тилдена, его способности проникать в существо любой проблемы, с которой ему приходится сталкиваться.
Это достаточно близко к истине. Сэмюэл Дж. Тилден и в самом деле необычайно умный, хотя в чем-то ограниченный человек, и, будучи натурой холодной и суховатой, отнюдь не лишен обаяния.
В течение недели мы обедали почти каждый день на террасе, откуда открывается вид на озеро Леман. Иногда к нам присоединялся Галлатин, чей сочный европейский реализм зачастую оказывался чересчур экстравагантным для суровой пуританской натуры С. Дж. Тилдена.
Однажды Тилден вдруг стал нам рассказывать в деталях, как он изобличил Твида и его банду, в составе которой были губернаторы, судьи, мэры, олдермены. Когда Тилден заговорил, его бледное лицо старичка-ребенка раскраснелось, а в серых унылых глазах внезапно отразилась голубизна озера; на какое-то мгновение возбуждение сделало его почти красивым.
Галлатин и я (и еще несколько слушателей) с изумлением внимали его слабому, но завораживающему голосу. Ведь в его словах нас, европейцев (да, я стал одним из них за эти годы), задела нотка специфического американского лицемерия. «Подумать только, – сказал он Галлатину, – во что превратилась наша страна со времен вашего отца! Со времен Джефферсона!» Галлатин изумился: «Но ведь все изменилось к лучшему, мистер Тилден. Страна стала такой большой и богатой… – Это было за несколько недель до биржевой паники. – Страну пересекли железные дороги. Построены колоссальные фабрики. Из бедной старой Европы хлынула дешевая рабочая сила. Америка превратилась в Эльдорадо, а ведь во времена моего отца это была страна фермеров, кстати, не очень умелых». – «Вы меня неправильно поняли, мистер Галлатин. – На болезненно-бледных щеках Тилдена проступили кирпичные пятна. – Я имею в виду коррупцию. Продажных судей. Выборных лиц, делящих между собой народные деньги. Газеты, которые покупаются, – покупаются политическими боссами. Даже «Пост». – Тилден мрачно кивнул в мою сторону, зная, что я часто писал для этой газеты. – Даже «Пост» получила кругленькую сумму от Твида. Вот что я имею в виду, говоря о переменах в нашей стране, – культ золотого тельца, всемогущего доллара, всю эту ужасающую продажность».
Я знал тогда Тилдена всего неделю, и в его словах мне слышалась едва ли не страсть. А вообще-то он был, как говорится, холоден как рыба.
Черные брови Галлатина взметнулись в ненатуральном изумлении: «Знаете, мистер Тилден, я много говорил с отцом о ранних днях республики… и я не хотел бы вам противоречить, но то, что вы описали, всегда было нашим правилом. И уж конечно, в Нью-Йорке мы всегда давали друг другу взятки и, когда подвертывалась возможность, прирваивали общественные деньги».
Был Тилден шокирован? Как опытный адвокат, он умел вовремя приостановить защиту, когда противная сторона предъявляла неожиданные улики. Красные пятна исчезли с его щек. Он добавил немного воды в бокал с превосходным рейнским вином. Я заметил, что у него, точно как у меня, дрожат руки.
«Но согласитесь, мистер Галлатин, все это изменилось, когда президентом был избран основатель нашей партии Томас Джефферсон». – «Ничего никогда не меняется, мистер Тилден. Люди остаются людьми».
Если мне не изменяет память, именно в этот момент Тилдену принесли письмо, в котором сообщалось о выдвижении его кандидатуры в губернаторы штата Нью-Йорк. Быть может, однако, я мысленно передвинул события. Во всяком случае, сообщение пришло в дни швейцарских каникул – первой поездки Тилдена в Европу.
«У меня нет намерения баллотироваться в губернаторы», – решительно повторял Тилден, стоя у подъезда гостиницы среди чемоданов, в окружении своих спутников, носильщиков и кучеров. «Вы обязаны! – сказал я. – Если не для народа, то хотя бы ради нашего друга Джона Биглоу».
Эти слова вызвали на его лице некое подобие улыбки. Джон Биглоу, вероятно, единственный друг Тилдена. В тридцатые годы мы все трое были начинающими нью-йоркскими адвокатами. Оба они на несколько лет младше меня. Тилдена я в те годы не знал, но часто встречал Джона Биглоу в «Кафе франсэз», обычно в обществе моего друга Фицгрин Халлека. Мне вспоминается что-то осуждающее в глазах Биглоу – красивого высокого юноши из северной части штата Нью-Йорк, – когда он смотрел, как мы с Халлеком играли на бильярде. Однажды Биглоу смущенно попросил меня помочь ему: он хотел заняться журналистикой. Я кое-что для него сделал.
Ультрареспубликанская «Таймс» стремилась узнать побольше о моих связях с Тилденом.
– Пока и говорить-то не о чем, – ответил я честно. Но я молю бога, чтобы в ближайшее время нынешние непрочные связи превратились в самые крепкие узы. – По его просьбе я время от времени писал ему о международных делах. – Это вполне соответствует истине. Не могу сказать, чтобы он определенно просил меня об этом, но проявлял к моим докладам неизменный интерес, особенно в последние шесть месяцев, когда всем стало ясно, что он будет не только кандидатом в президенты от демократической партии в 1876 году, но и президентом – конечно, если Грант не станет добиваться переизбрания на третий срок.
Неожиданный глухой удар, подобный толчку землетрясения, прервал мои разглагольствования: «Перейра» причалила. Демисезонные пальто мигом куда-то улетучились. Отвращение Эммы было столь же очевидным, как и благоговение Джона Эпгара.
Я взял Эмму за руку.
– C’est nécessaire, petite.
– Comme tu veux, Papa [12]12
Тебе виднее, папа (фр.).
[Закрыть].
Из эстетических соображений я с Эммой не вполне откровенен. У нее нет подлинного опыта борьбы за существование, которую приходится вести почти всем людям, и я хотел бы оставить ее в счастливом неведении. У моей жены было небольшое состояние и фамильный Schloss [13]13
Замок (нем.).
[Закрыть]в Унтервальдене в Швейцарии. Когда то и другое после ее смерти стало для нас недоступным, Эмма благополучно (как мне казалось) вышла замуж за Анри д’Агрижентского, и в течение десятка с лишним лет они благоденствовали, обрастая долгами в доме князя на Бульвар-де-Курсель.
Я тем временем неплохо зарабатывал своим пером и мог обеспечить некоторый комфорт для полутора человек (половина – стоимость любовницы с квартирой в приличном районе). Затем посыпались удары: падение Парижа, смерть Анри, банкротство Джея Кука и мое разорение.
Теперь мне придется кое-как изворачиваться. Но Эмму, насколько это возможно, следует оградить от печального зрелища старого отца, некогда литературной курочки, несшей золотые яйца, бегающего в поисках заказов по улицам, по которым он раньше триумфально разъезжал в каретах.
Ну, довольно жалости к самому себе. Жизнь штука нелегкая. Печально лишь то, что я немолод. В тридцать лет я бы не испытывал страха. Я завоевал бы Нью-Йорк за неделю, как Тамбурлен – Персеполис!