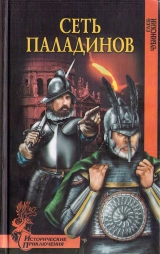
Текст книги "Сеть паладинов"
Автор книги: Глеб Чубинский
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц)
– Почему? Вы знаете, что они уничтожены?
– Мне очень жаль, – медленно проговорил Оттовион. – Я сам фактически заманил его в Венецию. Меня просили передать капитану сто монет от Совета Десяти. В миланских монетах.
И тут Джироламо внезапно понял, как было дело. Джакопо, заманив Капуциди, конечно, отправил письмо в Совет Десяти с его показаниями. Потом получил ответ и рекомендацию дать ему деньги на проезд. Дал. А теперь мучается укорами совести.
Но зачем? Зачем он заманивал Капуциди? Такие комбинации не были редкостью. Совет Десяти преследовал врагов Республики повсюду и никогда не забывал о них. Но здесь явно что-то иное. Капуциди до приезда своего в Венецию был всего лишь изгнанником. А после переговоров с резидентом и приезда в Венецию – превратился во врага. Но вряд ли его заманили и казнили за старые грехи!
– Синьор резидент, – сказал Джироламо. – Я задам вам лишь три вопроса. Хочу услышать на них простые ответы. Если они меня удовлетворят, то, клянусь, наш разговор останется между нами, и я о нём забуду. Забудете и вы, словно разговора и встречи нашей не существовало вовсе. Тогда вас больше никто никогда не будет беспокоить по этому делу. Согласны?
Молодой Оттовион кивнул.
– Так вот. Скажите мне, в тех сведениях, что Капуциди изложил вам в записке, было что-то про его старые грехи?
– Нет, – резидент покачал головой. – Не было.
– Значит, в том, что он излагал вам, содержались некие важные сведения, которые, как он думал, искупят его вину перед Республикой?
– Да.
– Он коснулся некоей государственной тайны? И это могло не понравиться кое-кому в Совете?
– Вы сказали, что будет всего три вопроса. А вы уже задали четыре!
– Объедините последние два вопроса в один.
– Это действительно будет последний вопрос?
Джироламо подтвердил.
– Я не бросаю слов на ветер.
– Тогда мой ответ на ваш вопрос – наверное, утвердительный. Точно я не знаю... Да, он написал, это не... По-видимому, вы правы. Да, так оно и есть! Это ответ на ваш вопрос.
Покидая венецианского резидента, Джироламо уяснил главное: албанец был уничтожен, вероятно, потому, что случайно оказался обладателем и разоблачителем некоей государственной тайны. Не разобравшись в этом, бедняга поспешил её донести до самих же венецианцев, искренне надеясь получить за это прощение. Но венецианцы предпочли его убрать, как нежелательного свидетеля. Что же это была за тайна?
Глава 12
Стамбул. Топкапы-сарай. Дом блаженства. Те же дни
Пестро одетый карлик на маленьких ножках кривлялся и размахивал короткими ручонками. Один из той многочисленной свиты карликов, которых султан, нарядив в разные пёстрые одеяния, развёл во дворце как весёлых обезьянок, что живут в больших палатах рядом с палатами немых – ещё одной забавой султана.
«Что он здесь делает? – подумала Елена. Погруженная в свои мысли, она сидела в одиночестве на изящной резной скамье в углу благоухающего сада. – Зачем он забрался сюда?»
Карлик продолжал размахивать ручками, выразительно посматривая в её сторону. Он стоял в конце дорожки, где та поворачивала на большую кипарисовую аллею, выложенную мрамором. Елена оглянулась – она была совершенно одна здесь, в этой части сада. И тут она поняла, что гримасы карлика обращены к ней.
Ей стало не по себе. Что он хочет?
Елена отвернулась. Эти маленькие бестии совершенно обнаглели. Их было больше сотни. Они, если не сопровождали куда-нибудь султана, в остальное время свободно бегали по всему сералю группками и поодиночке, сверкая своими яркими штанами. Они забирались на кухни, гомоня и ссорясь, они пробирались частенько к пажам и даже в запретную часть дворца, в гарем. Говорят, двоих недавно выловили под покоями самого властелина. В его сокровищнице. Карлики заходили в жилища евнухов, как к себе домой, и чёрные евнухи, мавры, огромные сильные нубийцы, ведшие охрану гарема и способные изрубить на части всякого постороннего, не обращали на них ни малейшего внимания.
Забегали карлики беспрепятственно и к женщинам, в большие залы, где вместе жили безымянные икбаль – наложницы и гезде – совсем молоденькие девушки. Там они тоже вытворяли что хотели, забавляя девушек шутовством, дрались из-за подарков и музыкальных инструментов. Любому другому это стоило бы головы – но не им.
Карлик, не отводя от Елены взгляда маленьких невесёлых глаз, осмелел и подошёл ближе. Руки его продолжали выделывать какие-то знаки. Возможно, непристойные. Елена поднялась и, отвернувшись, пошла прочь. Она слышала за спиной нагоняющие её торопливые шажки. Тогда она резко остановилась и обернулась. В глазах её загорелся гнев. Карлик уже находился в трёх шагах от неё. Этот маленький человек был бородат и немолод. Все лицо в морщинах. В его тёмных глазах читалась усмешка.
– Эй, ты! – сказал он неожиданным басом, весьма красноречиво показывая на низ своего живота, где большим жёлтым кушаком были подвязаны его штаны. – Эрдемли Солтан?
Он осмелился назвать её по имени?! Ну и наглец!
– Убирайся, – глухо и с угрозой проговорила Елена.
Продолжая нагло ухмыляться, карлик бесстыдно полез в штаны и принялся в них копаться. Она отвернулась.
– Держи! – послышалось у неё за спиной. Когда она обернулась, человечек уже убегал, быстро перебирая ногами. Через несколько мгновений он свернул в кусты, на боковую дорожку. То, что он оставил, лежало у скамьи, на которой она недавно сидела. Елена вернулась к скамье. Это был клочок бумаги. Она долго рассматривала его, прежде чем поднять. Карлик бросил ей записку? Не было сомнений, кому предназначалось послание, поскольку он окликнул её по имени. Но что за весточка? От кого? Наверное, шут что-то подстроил, задумав поиздеваться над ней! Он ведь уверен, что любой женщине захочется поднять записку. Затаился где-нибудь в кустах и хихикает.
Оглянувшись и убедившись, что вокруг никого нет, Елена, наконец, быстро нагнулась и подняла клочок бумаги. Развернула. Текст короткого послания был написан по-гречески. Прочитав, вся похолодела: «Ему угрожает опасность. Поезжай за ним».
Перечитала, листок запрыгал в руке. Она судорожно скомкала записку, плотно зажала в кулаке и, ничего не понимая, присела на скамью. Автор послания не поставил свою подпись, не уточнил, кого имеет в виду. Но Елена почему-то не сомневалась, кто написал и о ком.
Её мальчику угрожает опасность! Опасность! Это писал Еросолино, она уверена! Добрый доктор узнал об опасности, угрожающей её сыну, отыскал Елену в Стамбуле и придумал способ предупредить. Значит, он где-то поблизости! Она снова посмотрела по сторонам. Вокруг ни души. Карлик, посланец доктора, пропал, и она уже пожалела об этом.
Елена добрела до внутренних дворов, где у журчащих фонтанов мамки прогуливались с резвящимися султанскими дочерьми, тенью проскользнула в свои покои. Там, почувствовав себя дурно, повалилась на софу. Предчувствия, самые тревожные, роем налетели на неё.
Она снова перечитала записку. Уехать из дворца! Но это невозможно! Она не слышала ни об одной женщине гарема, которая сбежала бы из сераля, охраняемого десятками чёрных евнухов. Наивный добрый доктор! Ведь это же не дворец губернатора в Маниссе, с его деревенскими порядками, где жёны и невольницы имели гораздо больше свободы, чтобы связаться с миром. А отсюда можно перебраться только в Дом плача Есхисарай, куда свозят всех бывших жён и наложниц почивших султанов доживать свой горький век.
Лучше бы он вообще ничего не писал!
Елена не находила себе места, снова забыв о пище. Что с её мальчиком? Она опять кляла себя за ту панику в Маниссе и за то, что добровольно навсегда рассталась с сыном. Она не увидит, как он растёт и становится мужчиной, она больше никогда не увидит его смеющиеся глазёнки, его круглую голову крепыша, она никогда больше не коснётся его, не обнимет, не утешит, не поцелует. Господи! Она сама отказалась от единственного в своей жизни близкого существа!
Елена завернулась в одеяла. Её бил озноб. Она отослала прочь служанку. Хоть бы увидеть Еросолино, переговорить с ним хотя бы минуту! Он знает, конечно, намного больше, чем написал! Зачем он её пугает? Ведь нашёл же он способ передать ей записку! Господи, так что же случилось с её мальчиком? Свернувшись в комочек, Елена закрыла руками уши и глаза...
Она понимала, что появление Еросолино здесь невозможно, как бы близко под стенами дворца он ни находился! В третий двор, где размещался сераль, кроме самого султана и его евнухов вход был строжайше закрыт для любого смертного мужского пола. Мощные стены охраняли султанских жён, а зарешеченные толстыми прутьями калитки стерегли мавры, чёрные, как смола, с острыми ятаганами, которые раскрошат, не колеблясь, всякого, кто намеренно или по неосторожности приблизится к запретным «садам блаженства».
Утром, после бессонной ночи, появилась надежда – вдруг карлик придёт ещё! Она приготовила ответ. Днём она в тот же час уселась на вчерашней скамейке в отдалённой части сада. И действительно, он снова появился в конце дорожки, маленький волосатый человек, которому на этот раз она обрадовалась как другу. Казалось, и он обрадовался, что увидел её. Она не стала дожидаться его приближения, поспешно поднялась и, как бы невзначай выронив на траву свою записку и пять золотых монет, отошла на некоторое расстояние от скамьи. Карлик подошёл, деловито подобрал сначала деньги, затем клочок бумаги. Записку свою Елена тоже написала по-гречески. Всего две коротких фразы: «Уехать невозможно. Что с ним? Умоляю!»
Человечек быстро, не оглядываясь, удалился. Когда Елена вернулась к скамье, то увидела то, что желала и надеялась увидеть. Сердце её забилось. Карлик оставил новый клочок бумаги. В нём Еросолино заранее отвечал на один из её вопросов: «Умоляй Сафие».
В тот же день после полудня Елена отправилась в дворцовую баню рядом с двором валиде-султан. Немая невольница несла перед ней на голове корзину со сменой белья. Посещение бани – целый ритуал омовения и место, где можно было поболтать и пообщаться с подругами. Раздевшись в первой зале, Елена перешла в тепидарий, затем в кальдарий, где в зале стоял такой густой и горячий туман, что почти невозможно было дышать.
После массажа и омовений, распаренная и утомлённая, она перебралась в особую залу отдыха с длинными софами вдоль изразцовых стен. Там она увидела в окружении молодых невольниц Сафие, мать Мехмеда, которая после воцарения его на троне получила титул валиде-султан, то есть матери монарха, и стала полновластной хозяйкой гарема. Не было более влиятельного и могущественного человека во дворце, чем Сафие, которая управляла не только женской его частью, но, подчинив себе волю сына, всё больше вмешивалась в управление государством и уже назначала и свергала визирей.
Валиде-султан, разомлевшая после бани, полулежала, откинувшись среди подушек на широкой софе. Её красивое лицо выражало умиротворение, пышное богатое тело было укутано в лёгкие ткани. В правой руке она держала длинную трубку из жасминного дерева с янтарным мундштуком. Другой конец трубки опирался на низкий резной табурет подле софы. Сафие взглянула на Елену, выпустила кольцо дыма.
Она узнала молодую женщину, лениво, но повелительно проговорила, посматривая из-под сонных полуопущенных век:
– Подойди-ка сюда, Эрдемли.
Елена подошла, склонилась в поклоне. Мать-султанша критически оглядела женщину, снова восхитилась про себя её роскошными иссиня-чёрными волосами, отметила сильно похудевшую фигуру, бледное лицо с тёмными кругами под глазами, смотревшими с нездоровым блеском. Она знала историю Елены.
– Плохо выглядишь, – заметила Сафие. – Очень неважно выглядишь. Ты здорова?
– Да, – тихо проговорила Елена.
Сафие продолжала критически её оглядывать.
– Значит, не смотришь за собой.
Эта красивая албанка жила во дворце Топкапы уже более 30 лет. Когда-то она была хасеки – любимой и единственной женой султана Мурада, отца Мехмеда. Спустя двадцать лет Мурад потерял к ней интерес, значительно расширив свой гарем и превратившись в похотливое чудовище, султана-производителя, стал проводить каждую ночь с двумя-тремя женщинами, родившими ему 56 детей. Султан умер, подорвав своё, как говорили, некрепкое здоровье. Несмотря на это, Сафие все эти долгие годы оставалась биринджи-кадан – авторитетной старшей женой султана, матерью наследника престола.
Вошли две немые невольницы. Одна принялась расчёсывать густые волосы госпожи. Валиде-султан вытянула ноги, и вторая девушка, усевшись на низком табурете, принялась красить ей ногти особой красноватой пудрой из травы, которую называют алькана.
Елена стояла потупившись. Вдруг, сама не сознавая, что делает, она бросилась перед Сафие на колени и пала ниц.
– Отпустите меня, милосердная валиде! – простонала Елена. Её стон больше походил на скулёж. – Отпустите меня в Маниссу! Последний раз... На могилу сына!
Валиде замерла, не сразу осознав смысл просьбы, а когда поняла, резко выпрямилась на софе.
– Ты с ума сошла! – воскликнула она сердито. – Что с тобой?
– Отпустите хотя бы на один день! Я больше здесь не могу! Мне надо увидеть могилу!
– Да ты безумна, женщина!
– Отпустите! – Елена схватила ногу султанши. Из её огромных глаз закапали слёзы. – Я хочу побыть у могилы сына!
Сафие выдернула ногу, девушка-невольница испуганно отпрянула.
Сафие вскочила, раздражение исказило её красивые черты. Гречанка продолжала скулить, умоляя её. Казалось, она примется кататься по полу.
– Нет! Ты безумна! Встань! – Сафие топнула ногой. – Да встань же ты, наконец!
Елена подняла на неё глаза, полные слёз. Валиде глядела с презрением и злобой. Отвернулась. Ей не нравилась эта женщина. Нет, она не питала к ней никаких дурных чувств, она вообще толком не знала её. Ей даже было жаль её, перенёсшую горе утраты.
Но всё-таки ей была не по душе эта угрюмая и худая гречанка, третья жена её сына. Всегда мрачная, замкнутая, неулыбчивая, смотрящая исподлобья. И такая женщина, хоть и по праву, жила в этом прекрасном дворце, среди благоухающих садов, в самой уважаемой части гарема! Среди законных жён – матерей принцев и принцесс! И получала годовой оклад, полагающийся матери принца, в три тысячи дукатов! Но ведь она уже не мать принца! Сообщают, что и ведёт она себя, как помешанная. И если так будет продолжаться и женщина не сумеет справиться со своим горем, то её следует удалить отсюда.
Сафие была не злой по природе, но годы в гареме среди интриг и обид, непрерывная борьба с соперницами и завистницами за благосклонность султана и будущее своих детей закалили её. Она насмотрелась всякого. И участвовала во многом. И в тайных утоплениях ослушниц, и в удушении младенцев, и в наказании непокорных.
Став валиде, она старалась быть справедливой матерью и правительницей для всех женщин гарема. Она резко нагнулась, взяла женщину за подбородок и сильно сжала его, вглядываясь в полные слёз глаза. Острые ногти впились в кожу гречанки, причиняя боль. Но та продолжала смотреть молящим и требовательным взглядом. Это совсем вывело албанку из себя.
– Посмотри на себя, – она оттолкнула Елену. – Посмотри, на что ты стала похожа! Ты сохнешь, как старое дерево! Если так пойдёт дальше, то превратишься в каргу! Повелитель изгонит тебя из дворца! Мужчины сторонятся скорбящих и горюющих женщин.
Взяв себя в руки, Сафие снова села на софу, откинулась, сказала повелительно:
– Если не возьмёшься за себя, я тебе обещаю поездку не в Маниссу, а в Дом плача. Там сейчас много таких, плачут по умершим принцам. Вот поход туда я тебе точно обещаю! А теперь прочь с моих глаз!
Глава 13
Венеция. Декабрь 1595 года
По воле Провидения благочестивый дож Паскуале Чиконья скончался под Рождество, прожив 84 года. Его правление продолжалось десять лет, было мирным и полным созидания. Это он построил новый каменный мост Риальто, он возвёл на границах с Габсбургами во Фриули звездообразную крепость Пальманова.
На следующий после его смерти день Дворец дожей окружила самая надёжная охрана – арсеналотти, мастера и подмастерья Арсенала, как делалось всегда, когда в величественном зале дворца, украшенном картинами Тинторетто и Веронезе, собирался Большой Совет – две тысячи венецианских патрициев, управлявших Республикой. После того как были выдворены все посторонние и двери огромного зала были тщательно заперты, великий Канцлер Оттовион торжественно объявил о кончине дожа, и Совет, почтив память замечательного патриция, всю свою жизнь отдавшего на благо Республики, приступил к неотложным делам, связанным с избранием нового дожа Венеции.
Тем временем тело Чиконьи, одетое в золотую мантию, с короной на голове, с золотыми шпорами на туфлях было выставлено в одной из комнат дворца на столе, покрытом коврами, с двумя большими горящими свечами у изголовья.
У гроба дежурила почётная гвардия из патрициев в красных тогах.
В день похорон площадь Сан Марко окружили двойным оцеплением далматинских солдат. В траурной ритуальной процессии из тысяч и тысяч людей все магистраты заняли места в соответствии с важностью их постов. Родственники, Синьория в полном составе, великий Канцлер, патриарх, папский нунций, прокураторы, послы, шефы Совета Десяти, мудрецы советов, адвокаты, цензоры, сенаторы и множество патрициев. За ними тянулись сотни монахов, слуги в траурных одеяниях, коменданты и щитоносцы с факелами, надзиратели тюрем, секретари, молодые канцеляристы. Все были одеты в чёрное с накинутыми на головы капюшонами и казались посланцами Коцита[82]82
Коцит – царство мертвых в греческой мифологии.
[Закрыть]. Над бесконечной процессией возвышались деревянные статуи святых, множество шестов и фонарей с зажжёнными длинными свечами. Некоторые свечи были такими большими, что казались брёвнами. В неясном рассветном сумраке двигалось море огней.
Кортеж заходил в полном составе во дворец и выходил через боковые ворота на площадь. Вынесли гроб, окружённый арсеналотти с зажжёнными свечами и эскортируемый спереди и сзади патрициями почётной гвардии.
Канцлер ждал Синьорию у подножия Лестницы гигантов. Спустившись, её члены в полном составе покинули кортеж и вернулись во Дворец на заседание.
Едва кортеж вновь появился на Сан Марко, во всех церквях города забили колокола. Перед собором процессия остановилась. В этот момент звон колоколов прекратился, и в полной тишине арсеналотти, нёсшие гроб, девять раз подняли его над головами и прокричали: «Мизерикордия!»[83]83
Милосердия! Помилуй! (ит.).
[Закрыть]
Это приветствие называлось «сальто дель морто» – «прыжок мёртвого».
После этого процессия покинула площадь, направившись в церковь Сан-Джованни и Паоло. На всём пути кортежа окна домов были украшены разноцветными коврами и тканями, создавая впечатление странного праздника среди строгости похорон. Церковь была одета в траур, внутри горело такое количество свечей, что вся она казалась в огне. Когда катафалк с гробом установили в нефе и вокруг выстроилась почётная гвардия, началась служба, а потом выступления с поминальными речами. В эту замечательную церковь простой люд обычно ходил неохотно – среди народа было распространено поверье, будто она должна обрушиться когда-нибудь в торжественный день. После службы процессия двинулась в небольшую церковь, где совершили погребение.
Лунардо прошёл всю церемонию похорон. Печаль и торжественная атмосфера навевали тяжёлые мысли. Оглядывая в толпе лица послов и сенаторов, членов Синьории и Совета Десяти, он пытался сообразить – кто из них тоже знает о приближении войны? Кто плетёт чудовищную самоубийственную интригу? Плетёт, прикрываясь интересами Венеции, в конце концов, против неё, словно змея, кусающая собственный хвост! И что будет с Венецией? С её бурлящей и с виду беспечной жизнью, с её дворцами, кричащим богатством? Какой она выйдет из вооружённого столкновения? Превратится в унылый малолюдный городок с затхлой болотистой водой неочищенных каналов, с обваливающимися домами и набережными с гниющими сваями, на замену которых не найдётся средств, с подтопленными галерами, на которых не будет гребцов?
Он стряхнул с себя мрачное наваждение. Несколько раз Лунардо пересекался глазами с великим Канцлером. Оттовион, чрезвычайно занятый организацией похорон и выполнением торжественной миссии, ничем не выдавал своей связи с Реформатором – только при первой встрече кивнул ему величественно, как старый знакомый, а потом словно избегал встречаться с ним. Лунардо чувствовал себя заговорщиком, которого предали.
После похорон мессер Маркантонио отправился в один из своих домов в сестьере[84]84
Сестьерами называются районы Венеции.
[Закрыть] Дорсодуро на кампо АнжелоРаффаэле, чтобы там заночевать, а наутро вернуться в Падую. Внезапно поздно ночью явился слуга от Канцлера с письмом: Оттовион дома и ждёт Реформатора по весьма срочному делу. Сев в гондолу, Маркантонио отправился к Канцлеру. Баркаролло зажёг фонарь на корме лодки. Вышли на Большой канал. Ни веселья, ни обычных толп на набережных не было. Лавки и локанды[85]85
Кафе, ресторанчики (венец.).
[Закрыть] закрылись рано. Город погрузился в печальный мрак. Время от времени мимо них или навстречу скользили такие же тёмные лодки, тускло освещённые факелами и фонарями.
...Там киммериян печальная область, покрытая вечно
Влажным туманом и мглой облаков; никогда не являет
Оку людей там лица лучезарного Гелиос...
Ночь безотрадная там искони окружает живущих, —
вспомнился Лунардо стих из Одиссеи.
Великий Канцлер выглядел угрюмым и осунувшимся. Вместе со сменой торжественного одеяния на домашнее платье куда-то исчез и его величественный вид, и теперь он стал старым человеком с лицом, серым от усталости.
Они поделились впечатлениями о похоронах, Оттовион рассказал о некоторых накладках, которые случились незаметно для непосвящённых. Он был озабочен предстоящими выборами нового дожа. Конклав не казался лёгким. Главным кандидатом выдвинули Марино Гримани. Богатый патриций, семья которого владела несколькими дворцами в Венеции, а также домами в Карраре, Тревизо и Полезине. Умный, достойный человек, ясно и просто излагающий свои мысли и всю жизнь отдавший служению Республике – был подестой[86]86
Подеста – должность городского правителя (венец.).
[Закрыть] в Падуе и Брешии, Реформатором университета, консильери дожа, мудрецом Совета и, наконец, прокуратором Сан-Марко. Папа Сикст V возвёл его в рыцари и подарил ему «Божье кольцо», а Климент VIII вручил ему золотой крест. За великодушие и щедрость Гримани очень любили в народе.
– Остаются ли в силе наши договорённости после кончины принца? – спросил неожиданно Лунардо.
– Да, конечно. – Оттовион глядел мрачно из-под опухших век. – Остаются.
– Вы собираетесь рассказать о ваших подозрениях новому дожу, когда его выберут?
– Нет, – покачал головой Оттовион. – Пока нет.
Лунардо промолчал, пристально изучая лицо Канцлера.
– Знаете ли, досточтимый Канцлер – наконец сказал он, – я вынужден заметить, что вы были со мной... не вполне откровенны.
Оттовион вспыхнул.
– Что вы хотите этим сказать? – с некоторым раздражением спросил он.
– Мы получили известия от людей, с которыми я давно состою в переписке. Мой помощник общался и с вашим сыном, который был, откровенно говоря, напуган нашими вопросами. В итоге я узнал нечто, чего знать мне, возможно, не очень-то и следовало.
– Что вы имеете в виду? Что вы узнали?
– Возможно, что наше правительство разрабатывает сейчас секретную военную операцию, которую, по понятным причинам, хочет сохранить в тайне.
– Секретную операцию? Где?
– В Далмации. Против османов! Вы же не могли об этом не знать, Канцлер!
На лице Оттовиона появилось искреннее удивление. Он покачал головой.
– Клянусь, мессер прокуратор, – пробормотал он. – Мне ничего неизвестно. Я не знаю ни о какой операции! Я готов поклясться на распятии!
– Ладно... Хм, – Лунардо не отрывал взгляда от лица Канцлера, и некоторое время они пристально изучали друг друга. Канцлер – с возмущением, Лунардо – с недоверием. – Я, верно, ошибся, – извиняющимся тоном проговорил дипломат. – Я всегда полагал, что Канцлер в курсе всего происходящего в государстве... Возможно, если даже не вы, досточтимый Оттовион, но ваш секретарь, Николо Падавин, секретарь Совета Десяти, – должен знать.
– Странно. – Оттовион задумался. – Уверен, что он тоже ничего не знает. По крайней мере... мне трудно представить, что Николо будет от меня что-то скрывать.
Сбитый с толку, он замолчал, не зная, что сказать.
– Теперь я ничего не понимаю, – Реформатор пожал плечами. – Тогда это просто невозможно.
– В том-то и дело! – запальчиво воскликнул Оттовион. – Здесь что-то не то! Я ничего не знаю ни о какой операции! Мой секретарь не знает! Даже покойный дож не знал! Можете ли вы мне пояснить, в чём суть, дорогой мессер Маркантонио?
– Я, собственно... Ничего определённого... Лишь некоторые умозаключения. Монах доминиканец Чиприано ди Лука... Вам это имя что-нибудь говорит?
Канцлер задумался.
– Припоминаю, – наконец сказал он. – Он, кажется, проходит в делах трибунала Совета Десяти? Государственный преступник?
– Совершенно верно, – подтвердил Лунардо и вкратце пересказал Канцлеру суть преступления доминиканца, ставшего защитником ускоков. – А такое имя – Франческо Антонио Бертуччи?
– Нет, – Канцлер покачал головой. – Но если он известен Совету Десяти, то я смогу это выяснить.
– Думаю, что он известен не хуже брата Чиприана: они действуют заодно, – сказал Лунардо. – Очень интересная личность. Родом он из Лесины – нашего острова в Далмации. Как и доминиканец, изгнан из пределов Республики. Говорят, что этот Бертуччи вступил в Мальтийский орден. По характеру авантюрист, наёмник.
– И чем же он насолил Республике?
– Он уже не первый год носится с планами освобождения Албании, Боснии, Сербии от османов. Так вот, в Риме этот Бертуччи ведёт переговоры не с кем иным, как с самим понтификом Климентом VIII о поддержке военной операции против турок в Далмации, на границе с венецианскими землями. При этом основной силой в начале операции будут ускоки. Таково обещание их представителя – брата Чиприана. Они познакомились в Риме. Подробности мне неизвестны. Знаю, что Папа обещал помощь оружием и амуницией. Бертуччи уже отправлялся за поддержкой к полковнику Георгу Ленковичу, командующему пограничными войсками Габсбургов в Хорватии. Знаю также, что к переговорам подключился новый посланник императора Рудольфа барон Норад. Переговоры ведутся в полной тайне, известие о них просочилось только потому, что они о чём-то не могут договориться. Я имею в виду императора и Папу. Норад и папские представители несколько раз очень бурно поговорили.
– Вооружённое выступление против Турции на границе Венецианских территорий. Но ведь это крайне опасно для нас! – воскликнул Оттовион. – Это должно быть известно нашим дипломатам в Риме и Праге!
– Совершенно верно! – кивнул Лунардо. – Сер Паоло Парута, наш посол при папском дворе, давно ведёт не только наблюдение за переговорами и снабжает всеми сведениями Синьорию. Но это не главный секрет, дорогой мой Канцлер! Ускоки, Бертуччи, брат Чиприано – враги Венеции. Секрет в другом! Параллельно с этими переговорами в Риме ведутся другие – о выступлении против турок неких дворян из венецианской Далмации!
– Подданных нашей Республики?! – у Оттовиона перехватило дыхание.
– Именно! Идёт ли речь об одной и той же операции или о какой-то другой – мне неизвестно, – продолжал Лунардо. – Но то, что некие далматинцы, подданные Венеции, обсуждают в Риме план военного выступления против османов, – это точно!
Канцлер осторожно спросил:
– А может получиться так, что венецианское правительство не в курсе этих переговоров?
– Паоло Парута не в курсе? Сомневаюсь. Он опытнейший дипломат и разведчик. Кроме того, ведь у нас есть косвенное подтверждение, данные, полученные от вашего сына, его странное поведение в этой истории с албанским капитаном Капуциди. Не о том же самом хотел сообщить албанец Совету Десяти? Если он случайно проник в какую-то государственную тайну – не потому ли его поспешили казнить, а все его материалы уничтожить?
Оттовион помолчал, затем спросил:
– Ну а сами вы как можете объяснить всё это?
– Похоже, кто-то в Венеции знает об этой операции немало. Но не хочет, чтобы знали другие. Вот в чём проблема. То есть венецианское правительство действительно вовлечено в эту операцию. Возможно, оно тайно решило помириться с ускоками и объявить войну османам!
– Но ведь это означает, что Республика секретно вступает в союз христианских государств против турок! Новая Священная Лига! – в ужасе прошептал Канцлер.
Лунардо не смог сдержать мрачную улыбку.
– Я бы чуть больше удивился, если бы обнаружил, что Республика хочет выступить вместе с турками против испанцев и австрийцев!
– Друг мой! – Оттовион подался вперёд, не в силах скрыть волнение. – Я прошу вас не оставлять этого дела!
– К чему нам это, Канцлер? – проговорил Реформатор уныло. – Я даже не знаю, что ещё могу предпринять. Мы столкнулись с секретными переговорами правительства. Копать дальше – означает влезать в дела Совета Десяти. Вы же понимаете, чем это чревато для нас обоих. Нас заподозрят в выведывании государственных секретов!
Оттовион схватил Лунардо за руку.
– Вы что же, одобряете наш тайный поворот к войне?
– Нет, – твёрдо сказал Реформатор. Но голос его звучал опустошённо. – Однако мы не можем идти против правительства.
– Но вы понимаете, что война – это катастрофа?
– Да, это может быть катастрофой.
– А если это не правительство? – произнёс Оттовион почти шёпотом, не отпуская руку Лунардо.
– То есть как это не правительство?
– Друг мой, поймите, меня тревожит не только эта военная операция в Далмации. Меня тревожит, как она готовится! Вы понимаете, что такого не было никогда? Операция никогда не обсуждалась в Совете Десяти, тем более в Сенате. Большинство членов Совета, я в этом уверен, даже не догадываются о ней. За их спиной что-то замышляется. Делается совсем узкой группой неизвестных лиц! Вы понимаете, что это... заговор?
– В конце концов, может быть, это не так. – Лунардо нервно передёрнул плечами, пытаясь слабо обороняться. – Вы же знаете, во что превратилась Венеция с нашим нейтралитетом. Город просто кишит лазутчиками, уши агентов и шпионов, можно сказать, замурованы в каждую стену. Чтобы сохранить все в тайне хотя бы на какое-нибудь время... круг лиц сузили.
Оттовион горячо замотал головой.
– Да дело не в этом! А в том, кто решил сузить! Что это за круг лиц, который решил? Нет такого магистрата в Республике, который должен заниматься тайными операциями ещё более тайно, чем это предписано законами Республики! Что это за люди, которые составляют этот круг? Кто дал им такие права или они сами их себе присвоили? Неужели вас это ничуть не беспокоит?
– Я уже говорил вам в прошлый раз: у нас есть возможность заговорить о тайной операции и сорвать её, – сказал Лунардо успокоительно. – Наконец, давайте дождёмся выборов нового дожа, и вы расскажете ему.








