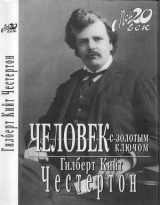
Текст книги "Человек с золотым ключом"
Автор книги: Гилберт Кийт Честертон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
Глава VIII. Фигуры на Флит – Стрит
Глубокий вопрос о том, как я приземлился на Флит – стрит, остается без ответа, во всяком случае – для меня. Критики говорили, что я упал там на все лапы, чтобы тут же встать на голову. На самом деле Флит – стрит, не говоря о голове, не так прочна и надежна. По – видимому, своим успехом (как говорят миллионеры) я обязан тому, что почтительно и кротко выслушивал добрые советы самых лучших, крупных журналистов и делал все наоборот. Они говорили мне, что надо изучить ту или иную газету и писать то, что ей подходит. Я же отчасти случайно, отчасти – по невежеству, отчасти – из‑за диких убеждений молодости писал, насколько помню, только то, что газете не подходило.
Наверное, своим комическим успехом я обязан этому контрасту. Теперь, когда я старый журналист, могу посоветовать молодым одно: напишите статьи для спортивной и для церковной газеты и положите их не в тот конверт. Если статьи сравнительно умны и если их примут, спортсмены будут говорить друг другу: «А мы тоже ничего, вон какие люди для нас пишут!», а клирики: «Почитайте, очень советую. Остроумно, остроумно…» Может быть, теория эта слабовата, но только ею можно объяснить то, что я незаслуженно выжил в журналистских джунглях. Для людей мятежных, вроде старой «Дейли Ньюс», я писал о французских кафе и католических храмах, и они меня одобряли, равно как и читатели. В каждой газете и так слишком много того, что ей подходит. Теперь, когда журналистика, как и все остальное, объединяется в тресты и монополии, маловероятно, чтобы кто‑нибудь повторил мой достаточно редкий, легкомысленный, бесстыжий маневр и стал единственным шутником в методистском журнале или единственным мудрецом в комиксах «Коктейль».
Во всяком случае, нет сомнений что на Флит – стрит меня привел случай, кое‑кто прибавит – несчастный. Там было много случайных людей; в сущности, ее можно назвать улицей Случайности, как человек, с которым, на свое счастье, я вскоре познакомился, назвал ее улицей Приключений. Филип Гиббс подчеркивал несообразность, придававшую этим местам их занятную прелесть; он сам был не на своем месте. Его ястребиное лицо почти нездешней тонкости казалось изысканно несчастным из– за того, что он не может приспособить улицу к себе. Как военный корреспондент он прославился намного позже, но рассказывал также отрешенно о великих битвах былого. Он занимался борьбой между героями Французской революции и питал, на мой взгляд, излишнюю, хотя и возвышенную неприязнь к Камилу Демулену. Как‑то он подверг его суду, а я, пока он говорил, думал о том, как он похож на высоких духом, узколицых, непреклонных идеалистов, которые были среди якобинцев. Профиль его мог изобразить Давид. С этих впечатлений я начинаю именно потому, что Гиббс так выделялся на общем фоне. Сам я был фоном, быть может – частью задника. Другими словами, я участвовал в богемной жизни Флит – стрит, которую позже разрушили не идеализм и отрешенность, а материализм и организованность. Один газетный магнат не так давно говорил, что все эти россказни о кабачках, неопрятных репортерах, круглосуточной работе и случайном отдыхе – просто клевета. «Газетное дело, – поведал он мне с блаженной улыбкой, – точно такое же, как всякое другое», а я застонал, выражая согласие. Самое имя Богемии исчезло с карты Лондона, как и с карты Европы. Никак не пойму, зачем современным дипломатам отменять это старое славное название, уцелевшее в проигранных битвах. По – видимому, в обоих случаях самые лучшие вещи погибли не от поражений, а от победы. Мне было бы неприятно, если бы, споря о сомнительных полосках земли, меня обязали бы называть Англию Западной Саксонией, но именно этим закончился древний эпос Сербии, которую надо именовать Югославией. Помню, как нам сообщили, что Богемии больше нет в тот самый час, когда она появилась. Теперь это Чехословакия. Я спрашивал многих на Флит – стрит, коснулась ли перемена той Богемии, которая связана с нашей романтической молодостью. Надо ли говорить: «Когда же Том оставит свои чехословацкие манеры?» или «Терпеть не могу эти чехословацкие попойки!»? Вопросы чисто умозрительные, поскольку на Флит – стрит почти не осталось того, что назвали бы чехословацким ее злейшие враги. Газетный магнат был прав – журналистика стала самым обычным бизнесом. Ею управляют так же тихо, трезво, разумно, как конторой удачливого ростовщика или умеренно нечестного финансиста. Такие люди только удивятся, если я им напомню, что в старых тавернах и старых кварталах пили и голодали поэты и ученые, и странные существа, которые время от времени пытались сказать правду – скажем, старый, сварливый Кросленд, который ненавидел многое (в том числе меня), но нередко оправдывал свои прощальные стихи, где горько говорит о том, что он
…на тропке в ад бывал,
И многое продать бы мог,
Но продавать не стал.
Говорят, что он умирал от голода на Флит – стрит, когда в кармане у него было старое издание шекспировских сонетов.
Того же рода, но тоньше, просвещенней, а значит – неизвестней, был Джонсон Стивен, с которым мы дружили, чем я очень горжусь. Происходил он из прославленной шотландской семьи, той же самой, что Лесли Стивен и Дж. К. С., и был таким же мудрым, как первый, таким же остроумным, как второй. Отличался он тем, что очень трудно определить; все, кто имел с ним дело, облегчили себе задачу, назвав это безумием. Мне кажется, лучше сказать, что он ничего не мог принять полностью и в последнюю минуту отвергал то, что одобрил тем самым движением, каким отбрыкивается лошадь. Иногда его доводы были достаточно резонны, они всегда что‑то объясняли, но окончательно принять он не мог ничего. Однажды он сказал мне очень умную вещь: «Вообще‑то я бы стал католиком, да вот не верю в Бога. Остальное у них так правильно и настолько выше всего прочего, что тут и сомневаться нечего». Помню, он угрюмо обрадовался, когда я позже сказал ему, что у настоящих католиков хватает разума, чтобы испытывать ту же трудность, а св. Фома Аквинат, в сущности, начинает свои доводы со слов: «Есть ли Бог? Видимо, нет». Однако, прибавил я, мне известно по опыту, что если ты хотя бы включишься в систему, другой ответ на этот вопрос будет все очевидней. Вообще же для патриотичного шотландца он слишком хорошо относился к католикам. Помню, ему сказали, что церковь уж очень испортилась и просто требовала реформации, а он ответил с обманчивой приятностью: «Ну, конечно! Куда дальше портиться, если она сколько лет терпела таких католических священников, как Джон Нокс, Жан Кальвин и Мартин Лютер».
Кому‑нибудь надо бы написать биографию Стивена и собрать то, что осталось от его писаний, по – журналистски брошенных на ветер. Когда‑то я хотел это сделать; вот один из моих неисполненных долгов. Мой брат напечатал у себя в «Нью Уитнес» его очерк о Бернсе, который настолько лучше всех очерков об этом поэте или вообще о чем‑нибудь, что мог бы один прославить человека, если бы человек того хотел. Стивен знаменует для меня пустоту нынешней славы, превратившейся в моду. Конечно, у него были страшные срывы, но в старое время они не умаляли таких людей, как Свифт или Лендор. Если вспоминают только это, хорошо, что я посвятил ему хотя бы несколько фраз. Что до ответа на свой вопрос о Боге, он давно его обрел.
Крайности были слишком крайними, чтобы стать типичными – и изысканный фанатик, который сказал все, что хочет, и умер; и сноб или подлец, который говорит то, что надо, и живет, если это жизнь. Однако честности ради напомню, что на Флит – стрит были люди, которые сохраняли независимость ума, не отрываясь от общей работы. Большей частью им помогало то, что их собственная работа была разнообразной, и то, что монополии еще не так походили друг на друга, чтобы нельзя было выбрать хозяина, даже если это уже сводилось к выбору тирана. Наверное, самой блестящей из таких людей была та, кого по праву называли королевой Флит – стрит. С этой дамой я имею честь состоять в свойстве, поскольку она вышла замуж за моего брата. Ей всегда удавалось оставаться вольным стрелком или Жанной д’Арк их отряда, хотя одному делу свое знамя она отдавала все больше. У нее всегда было много дел, но только одно разгорелось, как костер на маяке. Каждый слышал о «Домах Сесила», где бездомные женщины находят истинное, человечное гостеприимство, которого начисто не было в чистоплюйской филантропии; и почти каждый читал о том, как они возникли, в замечательной книге о ее поразительных приключениях. Однако не каждый поймет ту гневную доброту, которая ненавидит опеку над бедными еще больше, чем нелюбовь к ним, высокомерие соглядатая – больше, чем себялюбие злого хозяина. Дама эта, как и я, хорошо относится к коммунистам и, в отличие от меня, отчасти разделяет их взгляды. Но прежде всего она отстаивает для бедных право на частную жизнь, которого они лишены. Оба мы, в сущности, боремся за частную собственность неимущих.
Для жены моего брата дух Флит – стрит обернулся тем, что в разумных пределах она не только могла, но и хотела делать, что угодно. Работа ее была мозаикой, слишком причудливой для описаний, и сама она с радостной иронией на это смотрела. Ей ничего не стоило перейти от прямого, демагогического, но трагически искреннего призыва обращаться лучше с работницами, у которых есть дети, к почти циничной критике самых заумных нынешних пьес. Дописав для «Уитнеса» сжатый и точный комментарий к делу Маркони, полный фактов и фамилий, она легко бралась за очередную главу бесстыдно чувствительного романа, полного невинных красавиц и отпетых злодеев. Именно о ней рассказывают, что, успешно проведя героя с героиней через многие номера шотландской газеты, она увлеклась побочной линией и получила телеграмму от издателя: «Вы оставили их в пещере под Темзой на целую неделю, а они не женаты».
С этой стороной газетных приключений связан более публичный случай, имеющий некоторую ценность не только для истории закона. Он бросает слабый свет на то странное беззаконие, которое так часто в наши дни закон и рождает. Жена брата писала для воскресной газеты явно, если не нагло романтический роман. Здесь не обойтись без театральности, и один из злодеев был театральным магнатом в духе Кокрейна или Рейнхарда. Он совершал злодеяния, как и положено плохим людям в хорошей книге, но не такие уж мерзкие и даже украшенные мелодраматическим благородством. Боюсь, я забыл его имя, но, как покажет дальнейшее, это неважно. Предположим для удобства, что его звали Артур Мандевиль. Случилось так, что в облаке атомов, окутавшем сферу театра, был некий Артур Мандевиль – не актер, не режиссер и вообще похожий на того злодея не больше, чем на султана. Он занимался многим, в частности – пытался когда‑то сколотить труппу или устроить концерт. И вот, он подал в суд за оскорбление и выиграл дело.
Как ни странно, никто с начала до конца даже не притворялся, что ему верит. Вынося приговор, судья подчеркивал, что автор романа, бесспорно, не слышал о человеке, которого поразил отравленными стрелами. Однако этот самый судья считал, что совпадения имени и фамилии достаточно, чтобы обвинить в клевете. Немалая часть литературного мира серьезно встревожилась. Писательство становилось одной из опасных профессий, если ты не мог назвать пьяного матроса Джеком Робинсоном, полагая, что некий Джек Робинсон где– нибудь да плавает. Это породило интересную дискуссию.
Помню, сам я предложил обозначать героев цифрами, скажем – описывать, как дерзкие фразы привели к поединку, на котором рьяный 3893–й убил искусного 7991–го, или как 752–й страстно шептал то‑то и то‑то прелестной 707–й. Однако мне больше понравилось предложение давать персонажам имена, которых быть не может, и я для примера написал любовную сцену между Бунхузой Блаттерспенгл и Чинзибобом Ломокотт. К счастью для газетных приличий, мысль эта не прошла, в отличие от другой, лучшей мысли, обязанной жизнью жене брата, которая переписала и напечатала роман, предварительно обойдя самых известных писателей и получив от них разрешение использовать их имя. Свою фамилию в знак симпатии она дала тому злодею. Любопытные могут отыскать эту повесть, где действует театральный швейцар по имени Бернард Шоу, кебмен Барри Пейн и кто‑то еще, не помню. Вскоре закон немного изменился в чисто английской манере – чем скучно и придирчиво заменять его новым законом, другой судья сказал, что значит он совсем иное. Это странное дело в какой‑то мере связано с более серьезной проблемой, которая встала перед нами, когда нас занесло на опасное поле британского судопроизводства.
У нас нет закона о клевете, поэтому его так боятся; поэтому он так печально и смешно связан с неким духом, свойственным теперь нашей общественной жизни и социальным установлениям. Дух этот хитроумен и неуловим. Собственно, это – английский вариант террора. Латиняне, если действуют, проявляют тут жесткость; мы применяем мягкость. Попросту говоря, мы умножаем страх перед законом всеми страхами беззакония. Мы боимся правосудия не потому, что оно разит по правилам, а потому, что оно бьет вслепую. Пытаясь разумно от него уберечься, мы видим только случайности. К нам, англичанам, это относится больше, чем ко всему христианскому миру. Сами юристы признают, что таким, во всяком случае, стал закон о клевете. Некоторые ее определения столь строги, что их невозможно применить; другие, параллельные, столь расплывчаты, что не поймешь, к кому они относятся. А получается, что этот закон, если не другие, служит только тому, чтобы подавить любую критику властей.
Все это будет важно, когда мы перейдем к более серьезным и скорбным событиям в жизни «Уитнеса». Здесь я просто хочу показать, как живо упомянутая дама вела свою роль в флит – стритской комедии. Что до газеты, в которой мой брат сперва был заместителем редактора, потом – редактором, с ней случалось множество таких происшествий. Мне кажется, я различаю руку дамы, да и брата в самых дивных и диких письмах, какие я только видел на газетной полосе. Началось, по – видимому, с того, что Уэллс встретился в Америке с Букером Вашингтоном, чернокожим и знаменитым журналистом, который предположил, что он не совсем разбирается и в его трудностях, и в жизни южных штатов. Мысль эту подчеркнуло и усилило письмо из Бексли, резко возражавшее против общения с неграми и смешанных браков, подписанное словами «Белый человек». Уэллс ответил пламенным посланием, где сообщал, среди прочего, что не знает повадок «белых бекслианцев», но полагает, что общение не всегда приводит к браку. Тут в спор о своей судьбе и природе вступил Черный человек. Потом появилось письмо брамина или парса, учившегося в каком‑то колледже; он полагал, что проблема не ограничена черной расой, и предлагал подумать о том, возможны ли смешанные браки между индусами и китайцами. Подписался он «Человек коричневый». Наконец пришло письмо, которое я помню наизусть, благодаря его краткости, простоте и тяге к всеобщему братству. Вот оно:
«Сэр, позвольте выразить сожаление о том, что вам приходится печатать письма, глубоко огорчающие ни в чем не повинных людей, которых железный закон природы наделил окраской, привлекательной лишь для избранных. Без сомнения, мы должны, презрев различия цвета, трудиться рука об руку на благо всех рас.
Искренне Ваш Лиловый человек в крапинку».
На этом письма кончились, что бывало не всегда. Немногим дано, как человеку в крапинку, ввергать других в оцепенение, показав, что больше нечего прибавить. О некоторых спорах я позже расскажу; некоторые же, как мой спор с Шоу, длились с перерывами всю нашу жизнь. Жена моего брата искренне и пылко спорила о том, что в конце концов ее прославило, – о домах для бедных, протестуя против вмешательства в их жизнь, которое обидней равнодушия. В чем – в чем, а в этом мы трое соглашались.
Обвенчалась с моим братом она во время войны, в маленькой католической церковке неподалеку от Флитстрит, потому что он уже стал католиком. Его два раза ранили, он приезжал домой, а на третий раз умер. В другой главе я расскажу подробней о нем, особенно о той смелости, которую он проявил, когда ему угрожали тюрьма и позор. На фронте он написал замечательную историю Америки и застольную песню, обращенную к соратникам, где был припев: «А пить я научился на Флит – стрит». Даже его богемная верность легенде об этой улице не вынудила бы его сказать, что там он научился думать; этому он обязан детской. Невинность и силу разума он пронес через все, включая Флит – стрит и фронт. Я думаю о бедном Стивене и других благородных безумцах, обладавших этими свойствами, когда вспоминаю, что написал один наш друг о фанатике, верном слову – «тому великому слову, которое мы дали Богу, еще не родившись». Ведь брат мой, на редкость добродушный, друживший с кем угодно, с бродягами, даже с пошляками, в самой глубине души хранил высокое, несокрушимое упорство.
Держал он слово лучше всех,
Конечно – лучше нас,
Беспечно презирая смех,
Которым, что ни час,
Его встречали подлецы,
Шуты, калеки и глупцы.
Глава IX. Дело против коррупции
Мой брат, Сесил Эдвард Честертон, родился, когда мне было пять лет, и, немного подождав, начал спорить. Спорил он до конца жизни; я совершенно уверен, что он пылко спорил с солдатами, среди которых умер на славном закате великой войны. Говорят, когда мне сообщили, что у меня есть братик, я сразу подумал, что буду читать ему стихи, и сказал: «Это хорошо, теперь есть кому меня слушать». Если я так сказал, я ошибся. Брат ни в коей мере не хотел просто слушать, и часто приходилось слушать мне. Еще чаще говорили мы оба, а не слушал никто. Мы спорили все время. К ужасу окружающих мы орали через стол, споря о пуританстве, о Парнелле, о голове Карла I, пока родные и близкие не убегали, оставляя нас в пустыне. Не так уж приятно вспоминать, что ты портил людям жизнь, но я скорее рад, что мы почти сразу стали сбрасывать друг на друга весь наш мусор. Особенно же я счастлив, что, споря годами, мы ни разу не поссорились.
Должно быть, ссора плоха тем, что она обрывает спор. Наши споры не прекращались, пока мы к чем не приходили и не обретали убеждения. Я не хочу сказать, что мы признавали свои ошибки, но через долгие споры мы приходили к согласию. Брат начал с мятежного язычества. Он не терпел пуританства и восхвалял богемные услады, связанные с дружбой, но совершенно мирские. Я довольно туманно защищал викторианский идеализм и даже мог замолвить слово в защиту протестантства из подсознательной приязни к вере. Однако, отбрасывая то и это, мы пришли к выводу, что лучше всего какая‑нибудь непротестантская религия; а позже, каждый – сам по себе, оказались в одной и той же Церкви. Я думаю, хорошо, что мы испробовали друг на друге любой логический довод. Привыкший спорить с моим братом мог больше не бояться споров. Это не похвальба, а благодарность.
Редактор газеты «Нью – Стейтсмен», умный и острый человек, совсем другой школы, недавно сказал мне: «Ваш брат был самым лучшим debateur [8]8
Участник дебатов; человек, умеющий спорить (фр.).
[Закрыть], которого я слышал или знаю по слухам», а такие люди, конечно, слышали всех знаменитых политиков и ораторов. Логика и ясность сочетались у брата с поразительной смелостью. На его примере можно увидеть, как неверно толкуют логику. Человека логичного представляют каким‑то сухим бледнолицым педантом, хотя на самом деле ясно и связно мыслят полнокровные, пылкие люди. Таким был Чарльз Фокс, таким был Дантон, таким уж точно был мой брат. Он был наделен семейной простотой и основательностью, о которых я рассказывал, привязанности его были спокойными и прочными, а вот сражался он яростно и нетерпимо. Он не хотел оставить неправду в покое. Его политические воззрения развивались поначалу не так, как мои. Когда я защищал буров и поддерживал либералов (правда, романтичней, чем многие из них), он продвигался к какой‑то практичной и консервативной демократии, все более пропитанной социализмом от Уэбба и Шоу, и стал наконец активным членом фабианского комитета. Но главное, в нем были грозная нетерпимость, ненависть к лицемерию нынешней политики и редкостная склонность говорить правду.
Я уже говорил, что при всей моей вере в либерализм мне было трудновато верить в либералов. Точнее, мне было трудновато верить в политику, поскольку она оказывалась почти призрачной по сравнению с тем, что о ней писали. Можно привести двадцать примеров, но они будут только знаками, ибо я сомневался и в собственных сомнениях. Помню, как я пришел в прославленный либеральный клуб и ходил по набитой людьми огромной комнате, а где‑то у стены лысый джентльмен с бородкой читал какую‑то бумагу. Мы не слушали его, все равно бы не услышали, а многие его и не знали. Мы бродили туда и сюда, сталкиваясь друг с другом. Я встретил друзей – Бентли, Беллока, Хеммонда – и с ними поговорил. Говорили мы так, как всегда; может быть, кто‑то спросил, что происходит в дальнем углу, номы уж точно быстро перешли к более важным вещам или к тому, что казалось нам более важным.
На следующее утро я увидел в моей либеральной газете огромную шапку: «Лорд Спенсер разворачивает знамена».
Буквы помельче, но тоже большие, сообщали, что он протрубил в трубу, призывая всех сторонников свободной торговли. По исследовании оказалось, что еле слышные замечания, вычитанные старичком из манускрипта, были экономическими доводами, и очень хорошими. Контраст между тем, чем был оратор для нас, и тем, чем он был для бесчисленных людей, которые его не слышали, оказался таким непомерным и несоразмерным, что я так и не оправился. С тех пор я знаю, что имеют в виду люди, когда пишут о смелом вызове с трибуны или еще о каком‑нибудь сенсационном случае, который существует в газетах и больше нигде.
Я все больше ощущал призрачность партийной борьбы. У брата и Беллока это шло быстрее, они сами были быстрее и решительней меня. Чтобы разобраться, они объединились и вскоре написали книгу, которая вызвала немалый эффект, хотя в то время он сводился к раздражению и недоверию. Называлась она «Партийная система» и говорила прежде всего о том, что партий нет, а система есть. Заключается система в ротации, а коловращаются ведущие политики обеих групп, или, как сказано в книге, «передние скамьи». Этот призрачный конфликт существует для публики и в какой‑то мере поддерживается невинным большинством, хотя лидер правящей партии куда ближе к лидеру оппозиции, чем оба они – к своим последователям, не говоря об избирателях. Книга – об этом, но сейчас я говорю не о том, верна ли она, а о том, что вышло из сотрудничества ее авторов. Их точка зрения достаточно тронула читателей, чтобы немногие ее сторонники стали издавать еженедельную газету. Редактором был Беллок, помощником его – Сесил, а я поначалу регулярно писал для них статьи.
Ничего подобного «Уитнесу» в Англии еще не было (во всяком случае самые старые люди ничего подобного не помнят) и уж тем более не было с тех пор. Однако своеобразие его нельзя измерить сравнением с нашей печатью. Как ни странно, нельзя быть сразу и своеобразным, и победительным. Мы не можем себе представить, как звучали слова «Земля круглая», когда все думали, что она плоская. Шарообразность ее для нас – скучная плоскость, и только тот, кто ее отрицает, привлечет внимание. Так и с переворотами в политике, в частности – с тем переворотом, который совершил «Уитнес» в английском мире газет. Измерить его может лишь тот, кого, как меня, питали обычные газеты викторианского века. Сейчас мы не спорим об идеализме или оптимизме, или сентиментальности, или лицемерии викторианства. Нам важно одно: оно прочно стояло на социальных убеждениях, которые не были чистой условностью. В частности, оно верило, что английский политик не только неподвластен коррупции, но вообще не интересуется деньгами. Этим гордились; это пресекало самые яростные приступы партийного гнева. Старые тори вроде моего деда, обличавшие козни Гладстона, останавливались на всем скаку перед малейшим предположением, что души наших политиков искушает менее достойный бес, чем бес честолюбия или зависти. «Не дай мне Бог помыслить, что английский премьер – министр…» Нет! Может быть, французы догадались о пользе денег, итальянцам с австрийцами захотелось удвоить свои доходы, болгарские или боливийские политики представляют, что такое фунт, но английский деятель, как мистер Скимпол, смотрит на звезды, не думая о том, стал он богаче или беднее, и очень удивляется, получая жалованье.
К добру ли, к худу ли, но это ушло, умерло; и убил это взрыв под названием «Уитнес», особенно отчеты о деле Маркони и статьи о торговле титулами. Конечно, мир не последовал за братом и Беллоком, и с той поры, как легко показать, не было ничего подобного их резким личным обличениям. Но общий тон совершенно изменился. Теперь никого не удивляют, тем более – никого не поражают насмешки над политиками или их доходами, намеки на торговлю почестями или на секретные фонды партий. Наверное, лучше бы поражали, то есть смущали; смутившись, устыдишься, а там захочешь что‑то изменить. Это – слабая сторона перемены. «Уитнес» стремился к тому, чтобы англичане знали и думали о коррупции. Теперь они знают, но я не уверен, что думают. Более циничному и реалистичному поколению я посоветовал бы не смотреть свысока на заблудших и глупых викторианцев. Да, мои дяди не знали, как управляют Англией, но если бы знали, ужасались бы, а не забавлялись, и даже пробовали бы это остановить. Теперь – не пробуют.
Обычно считают, что нашу современную историю перерезала англо – бурская война. Мне кажется, почти так же важно и дело Маркони. Пока его обсуждали, обычный англичанин утратил свое несокрушимое невежество или, если хотите, свою невинность. В спорах мне пришлось играть второстепенную, но вполне определенную роль, а все, что касается брата, тесно со мною связано, и потому мы здесь немного задержимся, тем более, что дело Маркони представляли неправильно и теперь его, большей частью, неправильно понимают. Наверное, пройдут века, прежде чем его увидят, как нужно, и поймут, что оно было поворотным пунктом в истории Англии, а может – в истории мира.
Сложилось несколько легенд. Одна гласит, что мы обличали каких‑то министров, игравших на бирже. Наверное, мы шутили как‑то над кем‑нибудь вроде Ллойд – Джорджа, который считал себя совестью нонконформистов и призывал возродить старый пуританский дух, исключительно походя при этом на азартного игрока, как шутили бы над поборником трезвости, который упивается шампанским, но не за шампанское, а за проповедь трезвости. Точно так же мы могли бранить пуританина – министра, играющего на бирже, но не за то, что он играет, а за то, что он негодует, когда играют другие. Надо ли говорить, что брата не шокировали игры или пари, хотя он посоветовал бы играть на бегах. Словом, все это выдумка, а выдумали ее политики, чтобы скрыть правду. Мы обвиняли министров в том, что они получили взятку через государственного агента, договор с которым государство официально рассмотрело и приняло. Судя по всему, тут было «секретное поручение». Можно спорить о том, повлияла ли взятка на контракт, но речь шла о взятке и контракте. Главное же в том, что контракт заключил брат одного министра. Исключительная монополия, которую государство предоставило компании Маркони, на самом деле была дана ее директору, Годфри Айзексу, а Руфус Айзекс входил тогда в кабинет как министр юстиции. Это одно оправдывает расследование, а политики прежде всего хотели расследование предотвратить.
Пока один из редакторов «Уитнеса» не вынудил их приоткрыть хоть что‑то, они утверждали, что открывать нечего. Ллойд – Джордж говорил о «беспочвенных слухах, переходящих с одних нечистых уст на другие». Некий Сэмюэл, работавший в министерстве, утверждал, что никто из его коллег не имеет финансовых связей с компанией, имея в виду, по – видимому, компанию Маркони. Сэр Руфус сказал, в сущности, то же, почти такими же словами, и сдержанно описал далекие, если не холодные отношения с братом, прибавив, что как‑то на семейном празднестве слышал что‑то о его контракте. Тем временем мой брат, который уже стал редактором газеты и переименовал ее в «Нью – Уитнес», продолжал заведомо яростную, даже оскорбительную атаку на обоих Айзексов, подчеркивая, что Годфри основывал раньше эфемерные компании. В конце концов, он обвинил моего брата в клевете, к большому его восторгу. Заметим, что в тот самый день, когда мой брат сообщил, что будет защищать свои утверждения, политики начали хоть как‑то приоткрывать правду. Шаг их на первый взгляд может показаться странным, поскольку они обвинили в клевете французскую газету «Ле Матэн».
Казалось бы, можно обвинить английские газеты. «Нью– Уитнес» громыхал неделю за неделей. Газета «Морнинг Пост» почти не отставала; «Нэшенел Ревью» тоже не стеснялось в выражениях. Меня настолько умилила такая непоследовательность, что я опубликовал в «Уитнесе» стишки:
Ах, я безгласен, словно труп,
Меня так просто ранить!
Но если кто со мною груб,
Ответит иностранец.
Когда газета «Морнинг Джайл»
Меня разогорчила,
Немедленно ответ держал
Эльзасский воротила.
А если говорили всем,
Что я убил кого‑то,
То неизменно вслед за тем
Ловили киприота.
Да, для английских воротил
Всегда найдут замену,
Ведь в мире нет страшнее сил,
Чем ярость джентльмена.
Теперь этот метод общеизвестен.
Нападают на дурака, исказившего факты, а не на серьезного человека, представившего их правильно. Претензии к «Ле Матэн» дали министрам возможность предложить, пока не поздно, свою версию. К удивлению и огорчению многих, они признали, опровергая свои же успокоительные замечания в парламенте, что получали немалую долю прибылей от американской ветви компании. Почти все лояльные либералы, верившие им, были потрясены, но в обычной партийной прессе это как‑то замазали. Конечно, пресса консерваторов замазала бы точно так же свой скандал, и скандалов у них было не меньше. Сейчас я хочу вспомнить и почтить покойного Мэссингема, редактора «Нейшн», поскольку только он, верный кредо радикалов, говорил и действовал как мужчина. Он не меньше других был предан «партии мира и реформ», но преданность эта выразилась в том, что он понял, в какой опасности его партия. Разбирательства с «Ле Матэн» потрясли его и ужаснули; и он написал в своей газете: «Политическая коррупция – ахиллесова пята либерализма».
Позже пытались оправдать все эти несоответствия и противоречия, объясняя, что акции были куплены в американском отделении, а в парламенте речь шла только «об этой компании». Признаюсь, я больше сочувствовал бы выдумке, если бы не объяснения. Нетрудно понять и простить, особенно – когда прошли годы, признание, что ты врал, как школьник, из верности классу или клубу; я даже мог бы подумать, что эта условная верность – не бесчестье, а искаженная честь. Но когда политики говорят, что не врали, поскольку никто не сказал «вся компания», я, как ни прискорбно, заподозрю, что они ничего не знают о правде. Проверить это легко. Если бы они прямо сказали: «У министров есть только американские акции», все были бы потрясены, а этого они избегали и избежали. Иначе говоря, они хотели обмануть – и обманули. То, что воспользовались неясностью слов «эта компания», – не лучше, а хуже. Как бы то ни было, их мысли о нравственности настолько сбивчивы, что нам и не нужно верить в то, как объясняются они и оправдываются. Может быть, истинная причина лучше фальшивых оправданий, и ложь их пристойнее, чем они решились признать.





