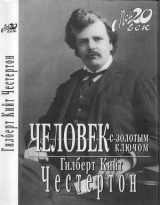
Текст книги "Человек с золотым ключом"
Автор книги: Гилберт Кийт Честертон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
Глава XIII. Литературные знаменитости
Я достаточно стар, чтобы помнить так называемые «грошовые книжки», благодаря которым рабочие люди узнавали хороших писателей, ибо по невежеству не могли читать плохих журналистов. В отрочестве, если не в детстве, я посетил зал, называвшийся, как ни странно, Прогрессивным, словно он вместе со зданием, как омнибус, мчался по пути прогресса. Был там председатель – беспомощный, маленький, в очках и школьный учитель по фамилии Эш; была и программа, сулившая встречу с весьма почтенными людьми. Мистер Эш гулко и грозно прочитал «Атаку легкой кавалерии», а публика с удовольствием предвкушала выступление солиста – скрипача. Но председатель поспешно сообщил, что синьор Робинзони, к сожалению, выступить не сможет, зато м – р Эш любезно согласился прочитать «Королеву мая». Следующим номером шел романс, кажется – «Шепот волн», который должна была спеть мисс Смит (у рояля – мисс Браун). Но мисс Смит не спела его, мисс Браун не села к роялю, ибо, как поведал председатель, приехать они не могли; однако мистер Эш любезно согласился прочитать «Лорда Верли». И тут случилось чудо. Ему удивился бы всякий, кто знает, как вежлив и вынослив английский бедняк, а в те давние времена бедняк был к тому же и попроще. Из средних рядов, как левиафан из моря, неспешно поднялся большой добродушный маляр и сказал: «Ну что ж, с меня хватит. До свиданья, мистер Эш, до свиданья, леди и джентльмены». И, поведя рукой, словно бы всех благословляя, он выплыл из Прогрессивного зала, глядя на нас с приветливостью и явным облегчением.
Не знаю уж почему, зритель этот остался в моей памяти первым титаном, взбунтовавшимся против викторианцев. Я и сейчас предпочитаю его здравомыслие и благодушие мелочным, а то и брезгливым придиркам более поздних и образованных критиков. Но и он, и они предупредили о том, что – и по добрым, и по дурным причинам – викторианцы уже кажутся скучными или хотя бы подходящими только для скучных людей. Когда я вспоминаю писателей, которые старше меня, это всегда викторианцы, пускай и поздние. Конечно, нынешняя мода очень непоследовательна. Так, жизнь викторианских писателей интересует всех больше, чем их книги. Сколько понаписали о любви Браунингов, сколько сплетен ходит о ней, но я далеко не уверен, что Роберта Браунинга перечитывают, Элизабет Баррет – читают. О жизни сестер Бронте знают больше, чем об их книгах. Поистине, странный результат эстетских толков о том, что в человеке искусства важно только искусство! А удивительнее всего, что люди вроде Пальмерстона, то есть те, чья политика мертва, популярней, скажем, Карлейля, чья политика очень бы пригодилась в дни диктатуры и реакции. Словом, несмотря на огромную тень маляра, я бесстыдно вынырну из тени королевы Виктории, словно очень поздний – но все же викторианец.
Первого великого викторианца я встретил очень рано, хотя видел недолго. Это был Томас Харди. Сам я, неизвестный молодой писатель, ждал тогда беседы с издателем. И меня особенно поразило, что Харди вел себя так, словно и он неизвестный писатель, даже начинающий писатель, ожидающий такой же встречи. На самом деле он был знаменит. Он уже написал лучшие романы, вершина которых – «Тэсс», и выразил свой пессимизм в прославленных словах о властелине бессмертных. На его тонком лице лежали морщины скорбей, и это старило его, но почему‑то он все же показался мне очень молодым. Если я скажу: «Таким же молодым, как я», это будет значить: «Таким же простодушным и таким же умничающим, как я». Он даже не избегал беседы о своем пресловутом пессимизме; он защищал его наивно, как школьник. Словом, он так же носился с ним, как я – со своим оптимизмом. Говорил он примерно вот что: «Я знаю, меня называют пессимистом, но это ведь неправда, я ведь столько всего люблю! Просто мне кажется, что лучше бы нам остаться и без горестей, и без радостей, как бы погрузиться в сон». Я по слабости своей всегда со всеми спорил, а мнения его сводились к тому самому всеотрицанию, против которого я тогда восстал; и, поверите ли, минут пять, прямо в приемной издателя, я спорил с Томасом Харди. Я убеждал его, что небытие неощутимо и потому нет вопроса о том, лучше ли оно чего бы то ни было. Честно говоря, если бы я был просто молодым невеждой, я счел бы его доводы легковесными, даже глупыми. Но я их такими не счел.
Самое поразительное, что Харди был очень скромен. Друзья мои, знавшие его лучше, подтверждали это впечатление. Джек Сквайр рассказывал мне, что в дни высшей своей славы, когда Харди стал поистине Великим Стариком, он посылал стихи в «Меркюри» и предлагал переделать их, если они не подойдут. Он бросал вызов богам, сражался с молнией и все прочее, но древние греки сказали бы, что гром небесный не поразит его, ибо в нем не было, попросту говоря, наглости. Небеса ненавидят не кощунство, а гордыню. Харди богохульствовал, но не гордился этим, а грешно, повторю, не богохульствовать, но кичиться своим богохульством. Меня упрекают, что в книге о викторианской литературе я нападаю на Харди; по – видимому, слова о деревенском атеисте, которого раздражает деревенский дурачок, кажутся нападкой. Но это не нападка, это защита. Харди тем и хорош, что сохранил искренность и простоту деревенского атеиста; он верил в безбожие, а не кичился им. Он был жертвой того падения нашей сельской культуры, которое даровало людям дурную философию и лишило их веры. Но он не лгал, когда говорил мне, что может радоваться многому, в том числе – лучшей философии или вере. Помню, одна ирландская леди написала в моем журнальчике, что даже представить страшно, как равнодушный властелин бессмертных Фоме показывал следы гвоздей.
Надеюсь, не будет кощунством, если я скажу: вот это точно! Если бы новый Фома, Томас Харди, это увидел, он сделал бы то, чего никогда бы не сделали ни Прометей, ни Люцифер, – он пожалел бы Бога.
Опущу долгую череду лет, отделявшую встречу с Харди от встречи с другим великим викторианцем. Я уже был довольно известным журналистом, и потому нас с женой пригласили к Джорджу Мередиту. Да, прошло много лет, но и сквозь годы я ощутил, до чего эти гиганты различны. Харди был колодцем, затянутым ряской скепсиса; я ее видел, но под нею, пусть на дне, была вода истины, хотя бы – истинности. Мередит был водометом. Развлекая нас беседой, он сверкал точно так же, как фонтаны в его саду. Он был стар, с белой бородкой, с белыми пушистыми волосами, вроде одуванчика, но и они как будто сверкали. Он был глухим, но ни в коей мере не глухонемым. Не был он и смиренным; однако я не назову его гордым. Ему удалось сохранить то, что почти так же противоположно гордыне, как смирение: он был тщеславен. Он был очень стар – и блистательно суетен, неописуемо, молодо суетен, до такой степени, что предпочитал очаровывать женщин, а не мужчин (почти все время он обращался только к моей жене). Мы мало с ним говорили, отчасти – потому что он был глухим, отчасти – потому что немым он не был. Он не умолкал и пил пиво, и с бравой веселостью заверял нас, что научился любить его не меньше, чем шампанское.
Мередит был полон жизни, нет – он был полон жизней. Он все время выдумывал истории о всяких людях. В отличие от многих старых романистов он любил все новое. Жил он не в написанных им книгах, а в еще ненаписанных. Несколько таких книг он рассказал нам, и они поражали новизной, особенно – та, в которой он касался трагедии Парнелла. Меня не убедила его версия – он считал, что Парнелл легко вернул бы себе доброе имя, если бы хотел, но по природе он был нелюдимым и скрытным. Не думаю, чтобы этот ирландский сквайр был более скрытным, чем множество английских сквайров, которые вели точно такую же любовную интригу и потеряли бы дар слова, если бы их разоблачили. Разница лишь в том, что разоблачили не их, а его. Но какие разоблачения воспрепятствуют тому, чтобы великая нация обрела наконец свободу?
Так вот, в Мередите меня поразила именно эта черта – он охотно, с ходу выдумывал какое‑нибудь новое объяснение. Такого большого писателя не назовешь поверхностным, но, в сущности, эта быстрота сродни поверхностности. Пародисты нередко представляют Шерлока Холмса шарлатаном; и нам еще предстоит прочитать водевиль о том, как он делал глубокомысленные выводы, зная слишком мало. Говорят о всеядной страсти к информации, тогда как на самом деле страсть эта не ест, а глотает. Мередит, например, проглотил нынешнюю теорию, придающую огромное значение расе и делящую единый народ на тевтонов и кельтов.
Имя Джеймса Барри тоже восходит к моей молодости, хотя, конечно, он был моложе Мередита и Харди. Позже мы стали друзьями, и я узнал, что он меньше всех моих друзей печется о себе. Для меня он тесно связан с занимательнейшими воспоминаниями о других людях. Особенно важен он, когда надо свидетельствовать о величии Мередита в мире, который так странно про него забыл; но много поведал он мне и о тех, кого я не знал, – о Стивенсоне, о Хенли, об Уайльде. Про Шоу и Уэллса я говорил в другой главе, в другой связи, однако общение со всеми людьми такого рода побуждало меня думать о том, сколь преходящи споры между большими писателями. Как всякий, кто пишет мемуары, я обнаружил, что труднее всего передать, какими бесконечно значимыми казались когда‑то те или иные люди. Теперь люди эти – классики, но не кумиры; о них не толкуют, не спорят. Помню, Барри очень забавно рассказывал мне об одном бурном споре, во время которого Хенли метнул через комнату свой костыль и угодил кому‑то в живот. Вызвано это было вот чем: рассуждая об Ибсене и Толстом, кто‑то сказал, что один из них достаточно велик, чтобы носить другого на часовой цепочке. Смешнее и мрачнее всего то, что Барри начисто забыл, Ибсен ли мог носить Толстого или Толстой Ибсена. По – видимому, ни тот, ни другой из этих гигантов не кажется теперь таким великим, как тогда.
С тех пор я часто виделся с Джеймсом Барри и мог бы немало о нем сказать, но приветливая скромность окружает его тишиной. Что до викторианцев постарше, меня обычно допускали к ним один раз, а такие встречи ненадежны. Наверное, я что‑то навыдумывал о Мередите и уж точно – о Суинберне. К тому времени, когда я с ним встретился, он был чем‑то вроде божества, с которым общаются через жрецов. Сперва я долго беседовал с Уоттсом – Дантоном, потом недолго – со Суинберном. Поэт был оживлен и даже кокетлив в какой‑то стародевичьей манере, а вообще же держался прелестно, считая своим долгом сохранять вежливую веселость. Зато Уоттс – Дантон был исключительно серьезен. Считают, что Суинберн – его религия, но я уже тогда удивлялся, что смысл ее и цель – охранить от религии Суинберна. Он полагал, что значительные личности не вправе заражаться христианством, и особенно сетовал на промахи Браунинга: «Он, бедный, был так ограничен…» Что до Суинберна, он считал «Герту» вершиной его творчества: «Тогда он поистине взлетел на гребень волны». Я Суинберна помнил, стихи – любил, взглядам его, скорей, ужасался и не считал, что эта метафора подходит поэту, который искренне сетовал, что не может одолеть катящийся вал. Навряд ли он одолел его в диком и путаном пантеизме «Герты», где пытался вывести мятежную этику, побеждающую зло добром, из вселенского монизма, который, видимо, значил, что все на свете одинаково, злое и доброе.
Конечно, я выбрал лишь несколько имен, самых прославленных, и даже не скажу, что они больше всех достойны славы. К примеру, если каждый из нас заведет коллекцию излюбленных пессимистов, я выберу Хаусмена, а не Харди. Нет, меня не пленил пессимизм – я всегда считал его не только вредным, но и пустым; просто Хаусмен больше связан, чем Харди, с великой английской литературой, да и пишет он на очень простом языке. Я восхищаюсь романами Харди, но никогда не мог переварить его стихов, а Хаусмен – поэт кажется мне одним из двух – трех классиков нашего времени. Я не соглашался с социалистами – конечно, меня возмущало то, что возмущало их, но не удовлетворяло то, что их удовлетворяло. Был у них какой‑то присяжный оптимизм, словно кондуктор выкрикивал: «Следующая станция – Утопия!»; и что‑то во мне, далеко не только языческое, горячо радовалось словам:
Нам, гордецам, невзгоды суждены
от века. Так зачем судьбу гневить?
Как известно, Хаусмен преподавал, он был одним из лучших знатоков античной словесности. Я очень люблю историю, в которой он предстает и лектором, и поэтом. Может быть, она выдумана; тогда у выдумавшего ее – прекрасное чувство стиля. Рассказывают, что, произнося тост на званом обеде в Кембридже, в колледже Пресвятой Троицы, Хаусмен сказал: «Этот славный колледж великого университета видел странные вещи. Он видел Вордсворта пьяным и Парсона трезвым. И вот перед вами я – лучший поэт, чем Парсон, лучший ученый, чем Вордсворт, ни трезв, ни пьян».
Харди и Хаусмен, как и Хенли с Суинберном, да и почти все крупные писатели старше меня казались мне туманным, языческим, пессимистическим фоном. Что на этом фоне, я не знал или знал очень смутно; но удивлялся, почему при таком сходстве они все время делятся на группы, и гадал, чего эти группы хотят. Меня поражало, что культура расчерчена на секции, которые даже нельзя назвать сектами. У Кольвина был свой двор, и очень изысканный; у Хенли – свой, погрубее, где бесчинствовали придворные; Суинберн был пророком и султаном Патни, Уоттс– Дантон – его визирем. А я не мог понять, к чему все это. Пророк не вел за собою верных, поскольку веры там не было; что же до сомнений, им предавались все. Я не понимал, почему Уоттсу – Дантону так важно, что Кольвин любит ка– кого‑то нового поэта, а Хенли не любит другого.
Знал я и двух – трех поэтов, одаренных редкостным воображением. Таких людей нелегко описать, очертить, ибо черта – это линия, в которой что‑то одно соприкасается с чем‑то другим. Скажем, я говорил немного о воззрениях Йейтса, но лишь потому, что Йейтс соприкасается хоть с чем‑то, кроме собственных мыслей, и с ним можно поспорить о теософии, мифологии, ирландской политике. Но того, кто живет только воображением, нужно искать в созданных им образах, а не на портретах, созданных другими. Я могу рассказать немало занятного об Уолтере де ла Мэре, но все это будет как бы и не о нем. Я могу сообщить, что у него смуглое лицо и римский нос, так что в профиль он похож на бронзового орла; что он живет в Тэплоу, недалеко от Тэплоу – корта, где я его часто встречал; что он собирает крохотные предметы, вроде бирюлек. Моя жена тоже собирает такие игрушки (некоторые считают, что она изменила себе, когда выбирала мужа), и они с де ла Мэром меняются, словно на каком– то рынке для эльфов. Я мог бы поведать, что в диких глубинах Олд Кент – роуд, если не ошибаюсь, я набрел на школу, где все девочки хранили предание о сказочном дядюшке, который когда‑то у них выступал. Но даже это, говоря строго, его не описывает, не подводит нас к сути дела. Мне еще не удавалось сказать то, что к сути подво – дило бы. Самым близким было бы вот что: если бы я вернулся в детство и кто‑то произнес при мне два слова, «Павлиний пирог», я не остался бы прежним. Вряд ли я подумал бы, что это книга. Мистическое чутье подсказало бы мне, что на свете есть что‑то очень красивое и съедобное. Никакие споры с Йейтсом – ни философские, ни нравственные – не уменьшат теперь, когда детство прошло, желания отведать серебряных яблок луны и золотых яблок солнца. Образы людей с воображением бесспорны, и я никогда не хотел о них спорить. Идеи людей, склонных к логике и догме (особенно самых догматических – скептиков), спорны, и я всегда хочу о них спорить. Но я никогда не спорю о вкусах. Я не спорю, когда нет общих вкусов и общих основ; потому я и остался в стороне от многих движений. Недостаток свой я сознаю. Я знаю и чувствую, что в уме моем зияет (да, именно зияет) бездна, когда меня просят как‑нибудь «помочь драме». «Цезарь и Клеопатра», мне кажется, – хорошая драма, хотя, если к делу привлечь этику, в ней многовато и пацифизма, и империализма; «А вы не масон?» – тоже хорошая драма, и одобрение мое никак не связано с тем, что католики не очень доверяют масонам. Но «помогать драме» для меня так же нелепо, как помогать пишущей машинке или печатному станку. С моей немудреной точки зрения, это в немалой мере зависит от того, что из драмы выходит.
Среди писателей, которых я знал, была женщина, и я пишу о ней напоследок, потому что должен бы с нее начать. Она была душой многих кружков; она очень дружила с Мередитом; ею восхищались эстеты и даже декаденты. Но Элис Мейнел, хотя и любила красоту, эстетом не была и ничуть не склонялась к упадку. Она была стойкой и живой, как тонкое деревце, круглый год покрытое и цветами, и плодами. Жила она мыслью. Ей всегда удавалось найти предмет для размышления, даже в темной комнате, где тень птицы на жалюзи была больше самой птицы, потому что, как она говорила, это весть от солнца. Она была прежде всего мастером, ремесленником, творцом, а потому – не эстетом. Но было в ней и другое – то, что отличало ее от современников. Она стояла твердо, тогда как стоики просто цепенели от отчаяния; она жила бессмертной красотой, когда язычники могли только сочетать красоту со смертью. Я видел ее реже, чем хотел бы видеть; она казалась легкой, как тень, и быстрой, как птица; и все‑таки теперь я знаю, что она не была ни призрачной, ни быстролетной. Она была вестью от солнца.
Глава XIV. Портрет друга
Отставив тщеславие или ложную скромность (которую здравые люди используют только в шутку), скажу, что в свое время испортил несколько хороших идей. Тому есть причина, о которой лучше говорить в автобиографии, чем в критической статье. Я думаю, «Наполеона Ноттинг – хильского» очень стоило писать, но не уверен, что мне это удалось. Арлекинада вроде «Кабака» обещает много, но вряд ли я сдержал обещание; мне даже хотелось бы сказать, что его может выполнить другой. У «Шара и креста» хороший сюжет – двум людям никак не дают сразиться ради веры или неверия, или, как выразился бы приличный человек, «каких‑то религиозных различий». Я действительно считаю, что современный мир не столько отвечает плохо на самые насущные вопросы, сколько вообще не дает на них ответить; но сомневаюсь, что сумел это выразить. Как истории, рассказы, книги эти, по – моему, не лишены своеобразия и свежести, а вот как романы они не только хуже, чем у романиста, но и хуже, чем были бы у меня, если бы я постарался романистом стать. Дело в том, что я всегда был и, видимо, буду журналистом.
Причина этому – не глупые или смешные мои свойства, а самое серьезное и даже торжественное во мне. Склонность к веселью привела бы меня в пивную, а не в редакцию, а если привела бы в редакцию, чтобы напечатать там сказки или нелепые стихи, не побудила бы снова и снова писать статьи и очерки. Словом, я не мог бы стать романистом, поскольку склонен смотреть, как сражаются обнаженные, а не принаряженные идеи. А вот журналистом я стать могу, поскольку все время спорю. Не знаю, тщеславие это или ложная скромность по современной шкале ценностей, но так уж оно есть. Чтобы проверить, лень с невежеством или стремление прямо воззвать к народу помешали мне стать писателем, лучше всего, наверное, присмотреться к писателю, которого я ближе всего знал, ибо у него были те же причины стать журналистом, но он писал только настоящие книги.
Когда с Беллоком были знакомы только Бентли и Олдершоу, входившие вместе с ним в радикальную группу оксфордцев, сам он входил и в другую группу, именовавшую себя республиканским клубом. Насколько я понял, там бывало не больше четырех членов, а на самом деле – меньше, поскольку кого‑то вечно исключали за консерватизм или за социализм. Этот самый клуб он прославил в посвящении к своей первой книге, две строчки из которого обрели популярность: «Достойны завоеванья лишь смех и любовь друзей». Однако там есть более подробные описания идеалов этого требовательного сообщества:
Мы / Рабле / почитали
И освящали дни
(Когда, не зная печали,
Оставались одни)
Лучшими песнями века,
Сдержанностью, трудом,
Участью человека,
Устрицами и вином.
Из других углов республиканского Евангелия, то есть трех постоянных собратьев Беллока по клубу, один, если не ошибаюсь, достойно служил в Бирме, за что старые друзья с горькой, терпеливой улыбкой называли его сатрапом, словно его соблазняло восточное варварство, именуемое империализмом. Я уверен, что сатрапом он был веселым и добрым, хотя, единственного из группы, никогда его не встречал. Два других оксфордских друга Беллока сыграли в моей жизни большую (и разную) роль. Джон Свиннертон Филлимор, сын адмирала, чье имя звучало в Кенсингтоне моего детства, стал позже профессором в Глазго и одним из лучших классиков; теперь, увы, его нет. Другой, Франсис Ивон Экклз, специалист по Франции, редко бывает здесь, его тянет к французскому дому.
Как и Беллок, он был полуфранцузом, но с именами, словно с ярлыками, произошла какая‑то путаница: Экклз, с английской фамилией, был совершеннейшим французом, а Беллок, с французской – англичанином, и настолько, что с течением лет стал единственным в Англии подобием Джона Булля. Да, этому немало способствовал квадратный наполеоновский подбородок, а потом – вполне испанские бакенбарды, но, в общем, он выглядел точно так, как должен выглядеть английский фермер, и напоминал Коббета больше, чем сам Коббет. Сходство не обмануло, ибо в меловые холмы и тучные поля Южной Англии он пустил более глубокие корни, чем в мраморный пол абстрактной республики. Помню, я пил пиво недалеко от Хоршема и упомянул моего друга, а кабатчик, явно не слышавший о такой ерунде, как книги, спросил: «Хозяйствует, да?» Это очень польстило бы Беллоку.
Экклза я знал по Флит – стрит с первых дней «Спикера», защищавшего буров, но всегда думал, что место ему – во французском уличном кафе. Его голова, шляпа, изогнутые брови, морщины бесстрастного любопытства на лбу, мефистофельская бородка, спокойная ясность были куда более французские, чем у его друга с французской фамилией. Не знаю, говорит ли внешность о характере, но о профессии она говорит далеко не всегда. Джон Филлимор, сын адмирала, потомок многих моряков, был похож на моряка больше, чем на ученого. Такое плотно сбитое тело и широкое темное лицо нетрудно представить на палубе, а вот другой участник этой карнавальной комедии, его двоюродный брат, тоже адмирал, на ученого похож. Вообще же Джону Филлимору пришлось стать необычным профессором. В национальном и религиозном хаосе Глазго, среди горных шотландцев, старых фанатичных кальвинистов и молодых фанатичных коммунистов, нельзя читать лекции без качеств, необходимых на палубе. Почти все истории про Филлимора напоминают рассказ о матросском мятеже. Кто‑то хорошо сказал, что его призыв «Джентльмены!» действовал, как слово «Квириты!» в устах Цезаря. Непокорная, но неглупая толпа сразу понимала всю ироническую прелесть его фраз: «Джентльмены, джентльмены! Я еще не кончил метать бисер».
Однако для этой главы важнее всего, что Беллок начал с идеалов республиканского клуба. Тем, кто говорит об идеалах, но не думает об идеях, покажется странным, что они с Экклзом стали убежденными монархистами. Но между добрым единовластием и доброй демократией не такая уж большая разница – они сочетают равенство с властью, личной или безличной. Не терпят они олигархии даже в приличной форме аристократии, не говоря о нынешней, неприличной, то есть плутократии. Поначалу Беллок поверил в безличную власть республики и увлекся XVIII веком, особенно – военной его стороной. Он написал две прекрасные монографии о двух самых знаменитых якобинцах, и сам был в те времена искренним революционером. Говорю я об этом в связи с его редчайшим свойством. Он тесно связан с Англией. Как я уже писал, близко его зная, знаешь и то, что он англичанин, а не француз. Однако это не все. Когда он хранит традиции, они – английские; когда он восстает, он восстает по – французски. Можно сказать, упрощая, что он – английский поэт, но французский воин. Я думал, что знаю мятежников, задолго до того, как с ним познакомился. Я разговаривал с ними в грязных тавернах, неаккуратных студиях и совсем уж неприятных прибежищах вегетарианцев. Я знал, что мятежники бывают разные – одни носят бледно – зеленые галстуки и читают лекции, другие, уже в красном галстуке, держат речи с подмостков. С последними я пел «Красное знамя», а с первыми, потише – «Англия, проснись!» и (правда, не зная толком, с чем сравнивать) печально думал, что нет еще поистине мятежной песни, ибо мои соотечественники не сумели создать мало – мальски приличный гимн гнева.
Наши воинственные песни были плохи хотя бы тем, что им не хватано воинственности. Они даже не намекали на то, что кто‑то может с кем‑то бороться. Они ожидали рассвета, не думая, что на рассвете их могут убить. «Кончилась долгая ночь и занялась заря!» Да, все они были «Песнями перед рассветом», словно солнце, светящее на правых и неправых, не светит к тому же на победителей и побежденных. Наш мятежный поэт писал так, будто уж он победит непременно. Другими словами, я понял, что социалисты смотрят на борьбу точно так же, как империалисты, и нелюбовь моя к ним укрепилась. Я слышал много возражений против классовой борьбы, но для меня лучшим из них было то, что и защитники рабочих, и сторонники империй не сомневались в своей победе. Я не фашист; но поход на Рим немало удивил их, по крайней мере – придержав неизбежный триумф пролетариата, как задержали буры триумф Великой Британии. Мне противны неизбежные победы, да я в них и не верю, и не думаю, что даже самые пристойные решения общественных проблем, скажем – такие, как у Морриса, «придут непременно, как приходит утром заря».
И тут Беллок написал своего «Мятежника», но никто не заметил, что в нем самое удивительное. Это страстные и горькие стихи; люди в красных галстуках покраснеют, а люди в зеленых – позеленеют, услышав такие угрозы богатым: «Выбей их картины из рам», «Ноги их коням перебей, деревья в парке сруби», а под конец – «Все это я сделаю сам, чтобы сынишку моего не загубили, как меня». Это – не песнь перед рассветом, а бой перед рассветом. А главное, это передает самую суть боя. Я не читал другой мятежной поэмы, в которой есть план атаки. Соратники зари, по всей видимости, идут колонной и поют. Они и не думают развернуться в цепь. А Беллок пишет: «Мы нападем на левый фланг». Какие фланги? К чему такие сложности? Но этого мало: «Эй, гони, скачи, рази!», «Теперь отсюда нападай!», «Пришпорь коня, ворвись во двор!», «Мы перережем им мосты!» – и тому подобное.
Да, это единственная песнь классовой борьбы, в которой показана борьба. В этих яростных, мстительных, разрушительных стихах есть и ясный, точный, словно карта, план боя, и достоверное описание того, как брать крепость, если ее придется брать. До ярости этих демократических и драматических выкриков коммунисту не дойти и за сто лет [10]10
Как грустно это читать! Вот к каким ошибкам приводят даже такие мальчишеские восторги.
[Закрыть]. Но главное, здесь есть самая суть боя; а бой, как всякое дело человека, обдуман заранее и сомнителен в конце. Соратники зари меня раздражали, потому что их революцию никто не обдумал, зато в победе никто не сомневался. Ну, просто поборники империй и англо – бурская война!
Вот что я имею в виду, говоря, что Беллок – английский поэт и французский воин. Сам по себе, то есть в жизни, он – обитатель Сассекса; но его обогатило (или, скажут иные, заразило) заморское влияние тех, кто знает мятеж и битву. Если бы ему предложили возглавить революцию, он бы вел ее логично, как французская толпа ведет мятеж. Я же только хочу подтвердить примером истину о замечательном человеке.
Что бы он ни делал, современники его не понимали. Не поняли и его важнейшего труда о рабском государстве. Англичане (к которым, собственно, принадлежу и я) любят романтику и тешатся романтической сказкой о романтичных французах, а уж тем более безумным мифом о романтичном Беллоке, не замечая, что иногда он бывает истинным ученым. Его исследование строго, как военная карта. В нем нет никакой романтики, никаких шуток, даже никакой занятности, кроме дивных слов «этот дурак», возникающих в строгой череде других, бесстрастных понятий. Но и тут его можно заподозрить в шутливости не больше, чем Евклида, доказывающего что‑нибудь через reductio ad absurdum. Всякий, кто знает, сколько места отводит разуму нынешняя наука, легко представит, что случилось. Не прочитав Беллока, все стали бранить то, что он мог бы написать. Его обвиняли в том, что он грозит нам кошмаром рабского государства, хотя на самом деле он говорил не о кошмаре, а о яви, к которой мы привыкли, как к свету дня. Бернард Шоу полагал, что Беллок просто повторяет мысль Герберта Спенсера о неразрывности государства и рабства. Когда мы заметили, что он, по – видимому, не читал Беллока, Шоу со свойственной ему веселостью ответил, что не читал Спенсера.
Многие думали, что это – сатира на социалистические утопии, что‑то между Лапутой и «Дивным новым миром». Кое‑кто до сих пор считает, что это общий термин для всех видов государственного давления, и даже употребляет слова в этом смысле. Ведь в наше время в нашей стране заглавие становится модным, хотя книгу не читают. Когда‑то даже носильщики, даже разносчики газет повторяли: «Рабское государство». Как и критики, как и ученые – они понятия не имели, что это значит.
Книга же о том, что социалистическое движение не ведет к социализму отчасти – из‑за компромиссов и трусости, отчасти – потому, что у людей есть смутное почтение к собственности даже в отвратительных одеждах современных монополий. Тем самым, вместо ожидавшегося результата, мы получим неожиданный – рабство. Компромисс примет такую форму: «Мы должны кормить бедных; мы не будем грабить богатых; что ж, пусть бедных кормят богатые, работает бедный или нет, получая взамен бессрочную службу. За полное содержание – полное повиновение». Все это или начало этого видно во многих новшествах – от актов о страховании, делящих граждан на хозяев и слуг, до разных попыток предотвратить стачки и локауты принудительным разбирательством. Всякий закон, возвращающий к работе тех, кто работать не хочет, это закон о беглых рабах.
Я привожу пример того, как научное положение изложено научным способом, чтобы показать, насколько непонятой осталась вся важность книги Беллока. Причина этого – в еще одном иностранном, отчасти французском его свойстве: он отделяет науку от искусства, полезное от причудливого. Когда француз разбивает сад, дорожки там очень извилисты, потому что это узор. Когда он прокладывает дорогу, она ровна, как шомпол, потому что дорога служит пользе, и чем они ровнее, тем полезней. Прелестные строки Беллока «Когда я был не старше Купидона» похожи на узорный французский сад, книга о рабском государстве – на французскую военную дорогу. Никто не бывает таким занятным, как он, никто – таким занудным.








