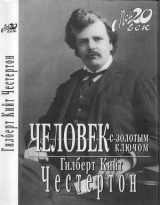
Текст книги "Человек с золотым ключом"
Автор книги: Гилберт Кийт Честертон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц)
Англокатолики, чью мятежную крайность олицетворял Конрад Ноэл, а традиционную – Перси Дирмер (во всяком случае тогда), были замечательными людьми, которым я навечно благодарен, как мой брат и евангельский слепец. Возглавлял их, если кто‑то возглавлял эту ветвь англиканства, Генри Скотт Холланд, который казался самым молодым среди нас, хотя и мы были молоды. Невозможно забыть его лягушачье лицо, огромный рост и бычий голос; так и казалось, что лягушке из басни удалось превратиться в быка. В отвлеченном, умственном смысле возглавлял их скорее доктор Гор, но всякий, кто знал его достоинства, поймет, что он оставался в тени. Иногда все они собирались на подмостках, особенно на подмостках Христианского Общественного Союза, к которому и я потом примкнул. Надеюсь, старые друзья, с которыми я позже разошелся во мнениях, но никак не поссорился, простят меня, если я припомню какие‑то из чудачеств, оживлявших нашу дружбу. Однажды человек пять – шесть обратились к удивленному Ноттингему, призывая его выполнить христианский долг по отношению к пролетариям. Я хорошо помню лица его граждан во время моей речи; мало того, свои впечатления я выразил в стихах, выражающих, в свою очередь, чувства ноттингемского торговца. Сообщаю эти стихи, потому что мне приятно поговорить о старых добрых днях.
Приезжие свя – щен – ни – ки
Сперва на нас сердились,
Известно, мы тут, дураки,
Уж в чем‑то провинились.
А после стали песни петь,
Чтоб мы повеселились.
Они расселись за столом
И речи говорили,
О том – о сем, о том – о сем,
Потом предупредили,
Что там один опять споет,
А сами подхватили.
Потом такой епископ
Гор От сердца от всего
Сказал, что любит с давних пор
Собрата своего,
И если тот что украдет,
То это ничего.
Он безработицу ругал
И очень огорчался,
То на одной ноге стоял,
То на другой качался,
А уж насчет каких‑то льгот
Ужасно сокрушался.
Один мужчина, Честертон,
Налил себе воды
И рассказал, что ложный тон
Доводит до беды,
А тот, кто скачет и поет,
Не ведает нужды.
Потом каноник Холланд встал,
И все они орали.
Хоть их никто не понимал,
Мы вовремя кивали.
Зато уж очень хорошо
Стаканы дребезжали.
Каноник этот нам сказал,
Что нищета постыдна,
Но я чего‑то подустал
И стало мне обидно.
Ну, в общем, я скорей удрал,
Пока меня не видно.
Собственно говоря, я горжусь этими строками, потому что они очень точно излагают события или хотя бы их восприятие. Извлек я все это из мусорной корзины и потому, что оно напоминает мне о словах Скотта Холланда, которые, как выяснилось, с тех пор связаны с очень важной проблемой. Одно четверостишие я пропустил, его бы неправильно поняли, как не поняли самого Холланда. У него был честный и четкий ум; то, что он говорил, всегда было плодом непопулярного спорта – мышления. Однако он любил веселье, и часто казалось, что его лягушачьи губы сомкнулись, чтобы сдержать смех. Тогда, в Ноттингеме, он привел, наверное, самый лучший довод в защиту государственного принуждения; напомню, что он и весь Христианский Союз склонялись к социализму, а Конрад Ноэл был убежденным и дерзостным христианским социалистом. Итак, Холланд сказал, что на государство надо смотреть не только в свете наказаний, но и в свете положительных дел. Политик – больше, чем полицейский; он создает, а не только карает. И тут он сообщил почтенным ноттингемцам, помахивая рукой: «Наказание – редкая штука. Мы с вами нечасто ощущаем прикосновение грозной руки и нечасто слышим: «Пройдемте». Далеко не каждый день нас сажают в тюрьму. Большей частью наши отношения с властями остаются мирными и дружескими. Да что там, я думаю, в этом зале человек пять, не больше, побывали за решеткой». Все вылупились на него. Эти лица я часто вспоминал, поскольку сам бился над той же проблемой.
С тех пор и по сей день никак не могу понять, почему веский довод теряет свой вес, если приведешь смешные примеры. То, что говорил Холланд, было совершенно разумно – да, государство существует, чтобы давать нам школы и уличные фонари, а не только тюрьмы и виселицы. Однако я подозреваю, что слушатели, достаточно умные, чтобы не счесть его безумным, решили, что он просто резвится. То же самое случилось и в моей менее полезной жизни. Если скажешь, что две овцы и две овцы – это четыре овцы, аудитория согласится с овечьей покорностью. Но если подставишь тут обезьян или кенгуру или зеленых грифонов, люди не поверят, что два плюс два равняется четырем. Им покажется, что вы придумали правило, как придумали свой пример. Поразмыслив, они бы поняли, что вы правы, но мыслить не будут, полагая, что довод с причудливыми примерами заведомо неверен. Быть может, это объясняет, почему почти все преуспевшие люди так скучны или почему столько скучных людей преуспело.
Вспомнил я тот день и потому, что в свете последующих событий хотел бы подчеркнуть, как приятно мне его вспомнить. Когда приверженцы разных партий называли англокатоликов сухими, когда они говорили о бесчеловечной отрешенности Чарлза Гора или беспросветном унынии Чарлза Мастермена, я мог припомнить совсем другое, и рассказываю сейчас, как бодрил мастерменовский пессимизм, какой человечной была отрешенность епископа. Добрые друзья, веселые соратники… О anima naturaliter Christiana [7]7
Душа по природе [своей] христианка (лат.).
[Закрыть], что же ты шла так смело и не нашла соприродной дороги?
Однако я забежал далеко вперед. Когда Ноэл появился на нашем горизонте, брат был просто безбожником, а я пробавлялся очень расплывчатой религиозностью, и в этой главе хочу поведать о том, как прибивало меня к правоверию, пока я не оказался в самой сердцевине клерикального сообщества. Ввели меня туда чрезвычайно странные клирики. Конрад Ноэл воплощал мечту Сидни Смита, и хотя он был единственным в своем роде, диких священников было несколько. Преподобный A. JT. Лилли, теперь – каноник в Херфорде, был тогда викарием в Паддингтон Грин, и широта его выражалась в том, каких он подобрал помощников. Если считать с ним, я видел только пять или шесть действительно широких приверженцев Широкой церкви. Своих помощников он непочтительно называл зверинцем. Один был огромный, седой, с усами, бровями и прической Марка Твена. Другой, сириец, кажется, сбежал из монастыря, расположенного в пустыне. Третьим был Конрад Ноэл. Иногда я думал, что очень занятно принадлежать к такому приходу.
Однако сейчас я говорю о том, как мой разум приблизился даже к столь эксцентричной обочине правоверия, и прошу читателя примириться, быть может – стеная, с краткими отсылками к тому, что кто‑то назовет теорией, а я называю мыслью. Вырос я среди унитариев и универсалистов, которые прекрасно знали, что многие вокруг них становятся агностиками и даже атеистами. В так называемом освобождении от догм были две тенденции, резко противоречащие друг другу, но, что очень характерно, именовавшиеся одинаково. И ту и другую считали либеральной теологией или верой мыслящих людей; однако часть этих людей спорила потому, что Бог на небе и все хорошо на свете, этом или том; другая же склонялась к мнению, что Бога нет, а на свете все очень плохо. Первая тенденция вела в сказочный край Макдональда, другая – к мрачным горам Томаса Харди. Одна утверждала, что, если Бог есть, Он беспредельно совершенен, другая – что в том же самом случае Он исключительно несовершенен. Когда я переходил от отрочества к молодости, пессимистические сомнения в немалой мере затмили оптимистическую радость.
Прежде всего меня удивило то, что тенденции эти так хорошо уживаются. Прекраснодушные теисты и здравомыслящие атеисты объединились, но против кого? На то, чтобы найти ответ, я потратил примерно две трети жизни. Тогда, когда я это заметил, мне казалось, что ответа нет; а многим, что еще удивительней, казалось, что нет вопроса. Я сам сиживал у ног сердечного, поэтичного, красноречивого Стопфорда Брука и принимал ту бодрую веру, которую он проповедовал. Она была примерно такой же, как знакомый мне с детства радостный мистицизм Джорджа Макдональда. Оба они твердо верили в то, что Бог – наш Отец, а это бесспорно в богословском смысле, если прибавить, что воля наша свободна. Универсализм был чем‑то вроде оптимистического кальвинизма. Как бы то ни было, я в него верил еще до первых сомнений, хотя и удивлялся, что оптимисты так ладят с пессимистами. Моему простому уму казалось, что они несовместимы– могут ли поладить тот, кто считает Бога Отцом, и тот, кто в Бога не верит или Отцом Его не считает? Я писал примерно об этом позже, когда либеральные критики сближали мировоззрения Мередита и Харди. Мне казалось очевидным, что Мередит учит доверять природе, а Харди учит ей не доверять; и моему простому уму это представлялось странным. Тогда я еще не понял, что их соединяет высший синтез, состоящий в том, чтобы носить причудливые бороды и шляпы и встречаться в изысканных клубах, где пьют кофе или (если это почти притон) даже какао. Связь эту я понял далеко не сразу. Скептические догматики узнают друг друга не по догмам, а по бороде или костюму, как узнают животные по меху или по запаху.
Кажется, у меня догматический ум. Во всяком случае, когда я еще не верил ни в какие догмы, я считал, что люди группируются по убеждениям. Я предполагал, что теософы сидят в одном зале, потому что верят в теософию. Я думал, что теисты верят в теизм. Мне чудилось, что атеисты в него, напротив, не верят, а этические сообщества состоят из тех, кто верит только в этику. Оказалось, что это не так. Теперь я считаю, что эти полумирские церковки состоят большей частью из бродячих скептиков, которые одну неделю ищут ответа на сомнения у теистов, а другую – у теософов. Соединяет их условность, которую они безусловно именуют «нецерковностью». Приведу два примера, разделенных многими годами. В ту раннюю пору, когда я сам и не думал присоединиться к какой‑нибудь четкой системе веры, меня носило по залам, где читали, скажем, для вежливости, лекции; и подозрения мои подтвердило то, что в самых разных сообществах я видел одних и тех же людей: особенно молодого человека с темными тревожными глазами и очень старого еврея с длинной седой бородой и застывшей египетской улыбкой.
Как‑то я сам выступал в одном этическом обществе, где увидел портрет Пристли, прославленного унитария, жившего за век до этого. Я похвалил гравюру, а мой собеседник ответил, что она там висит, потому что раньше, совсем недавно, здесь собирались унитарии. Это меня удивило; я знал, что унитарии твердо, как мусульмане, верят, что Бог – един, а этическое общество ни во что толком не верит.
– Как интересно! – сказал я. – Что же, все сразу отказались от теизма?
– Н – нет, – отвечал он. – Не думаю. Просто нашим лидерам очень хотелось заполучить старика Стэнтона Койта, а он читает только в этических обществах.
Может, он меня обманул, сказать не могу, но речь идет не о конкретных лекторах и лидерах, а о туманных воззрениях аудитории. Сам доктор Койт был убежден, что этику нельзя портить теологией. Но типичный представитель сообщества довольно странно смотрел на то, что случилось или ему примерещилось. Бога поменяли на Койта – ну, что тут мелочиться!
Через много лет один мой друг спросил, как поживает это общество, и узнал, что оно несколько уменьшилось. Доктор Койт утратил былую прыть, и часть его последователей «стала слушать Мод Ройден». Насколько мне известно, мисс Ройден, при всех ее противоречиях, достаточно правоверна, чтобы ходить в англиканскую церковь. Тем самым эта школа мысли (скажем так) прошла поразительный путь: сперва тут верили в Творца, но не в Троицу; потом, ради д – ра Койта, поступились Творцом; потом, ради мисс Ройден, приняли и Троицу, и Творца. Скорей же всего, они не столько верили, сколько любили ходить на интересные лекции, смутно предпочитая тех лекторов, которые славятся смелостью взглядов. Позже я видел много таких перемещений. Патриарх и темноглазый мыслитель мелькали в самых разных сообществах, и пришлось сделать вывод, что никаких отдельных школ мысли не было и нет. Мне довелось узреть туман отрицаний, сомнений, любопытства, и я понял, что это значит. Нет церкви атеистов, нет теософского братства, нет этических обществ, нет новых религий. Есть только Израиль, рассыпанный по холмам, как овцы, и какие‑то из них бодро бегут туда, где им привиделся пастырь.
Среди всех этих рассеянных мыслей я понемногу начал собирать кусочки древней веры, руководствуясь скорее дырками, где кусочка недоставало. Чем больше узнавал я о том, каков человек на самом деле, тем больше подозревал, что этим людям очень плохо без этих кусочков, поскольку те держали и держат высокие истины, без которых не обойтись в частной и общественной жизни. Мне казалось, что теперь они держат не так крепко, как держали бы, если бы их соединяло что‑то вроде морали или философии. Пылкие поклонники альтруизма считали нужным еще благоговейнее верить в дарвинизм и даже в неприятные выводы о законе джунглей. Поборники равенства трепетали перед гигантской тенью сверхчеловека, любезного Ницше и Шоу. Сердце у них было на месте, а голова – нет, поскольку они уткнулись или нырнули в темную топь материализма и скепсиса, в бесплодные и раболепные книги без проблеска свободы и надежды.
Я начал глубже узнавать христианское учение, которое так обличают, но совсем не изучают, и вскоре заметил, что оно соответствует моим наблюдениям. Даже его парадоксы совпадали с парадоксами жизни. Намного позже отец Уогетт, еще один замечательный участник англо – католических собраний, сказал мне на Масличной горе, глядя на Гефсиманию: «Ну, ясно же, что доктрина о грехопадении – единственный радостный взгляд на эту жизнь». Да, ясно; но сейчас я впервые подумал, что мирок скептических сект, в котором я когда‑то вращался, счел бы это более странным, чем самые дикие остроты Уайльда или Шоу. Не буду развивать мысль Уогетта, я часто приводил ее, а сейчас припомнил, чтобы показать, что старые учения подходили к жизни, а новые, негативные не подходили ни к чему, даже друг к другу. Примерно в это время я выпустил очерки о современных писателях – Киплинге, Шоу, Уэллсе; и, чувствуя, что каждый из них в чем‑то отходил от правоверия, назвал книжку «Еретики». На нее откликнулся Стрит, прекрасный эссеист, который между делом заметил, что не будет беспокоиться о своей вере, пока я не изложу свою. Со всей торжественностью молодости я принял этот вызов и не очень подробно объяснил, почему учение, изложенное в Апостольском символе, больше подходит к жизни, чем все остальные. Назвал я книгу «Ортодоксия», но и тогда это мне не нравилось. Видимо, я уже предчувствовал, что найду при жизни другое слово. С самим же названием, насколько мне известно, самое занятное произошло на русской границе. Какой‑то царский цензор уничтожил книгу, не читая. Он решил, что она – о православии, а отсюда вывел, что она православие ругает.
Какой‑то смысл у названия был – оно вызывало на спор. Странное современное общество тем и странно, что это для него вызов. Мне открывалось, что в мире несообразных и несовместимых ересей непростительно только одно. Защита правоверия шокирует английского критика сильнее, чем нападки на православие шокируют русского цензора. В ту пору я и постиг две интересные истины, разделяющие надвое мою жизнь. В литературных и газетных кругах почти все считали, что моя вера – просто поза или чудачество. Самые циничные думали, что это трюк; самые мягкосердечные думали, что это шутка. Нескоро дошла до них ужасная правда, нескоро догадались они, что я и впрямь так думаю. По – видимому, именно так делится жизнь апологета. Меня хвалили за то, что называлось блистательными парадоксами, пока не открыли, что я говорю серьезно. Тогда хвалить стали меньше; и я их не виню.
Впервые я это понял на званом обеде в связи с одним спором, который имеет здесь значение. Кажется, обед давала редакция «Клариона», серьезной и популярной социалистической газеты, во главе которой стоял Роберт Блечфорд. Пользуюсь случаем, чтобы приветствовать его через годы, надеясь, что он не сочтет меня недругом, если я припомню былые битвы. Мы спорили с ним, и наши бурные споры много значили для довольно молодого журналиста, обретающего относительную известность. Рядом со мной сидел утонченный и ученый джентльмен из Кембриджа, который, насколько я понял, составлял немалую часть суровых поборников лейборизма. Он был омрачен раздумьем и вдруг сказал мне с резкой учтивостью: «Мистер Честертон, я пойму, если вы не ответите, но скажите, пожалуйста, прав ли я. Вы ведь не верите в то, что защищаете от Блечфорда?» Я отвечал с неколебимой серьезностью, что именно верю. Его холодное, тонкое лицо осталось, каким было, но я понимал, что он совершенно изменился. «А, верите… – сказал он. – Простите. Спасибо. Больше мне спрашивать не о чем». После чего возвратился к своей еде (по– видимому, вегетарианской), несомненно, чувствуя, что сидит рядом со сказочным чудищем.
Чтобы лучше понять эту часть моей жизни, стоит узнать, что же я защищал. Спорили мы не о богословии, скажем так – не о Троице, предопределении или благодати. Я слишком мало знал, чтобы об этом спорить, и защищал, как мне казалось, обыкновенную нравственность. Собственно, я полагал, что ставлю вопрос о том, возможна ли она. Речь шла об ответственности, которую Блечфорд отрицал в явной и даже яростной проповеди детерминизма, основанной, видимо, на том, что он прочитал какую‑то книжечку Геккеля. У проблемы этой было много смешных и странных сторон, но сейчас я говорю о ней в другой связи. Дело не в том, что я поверил в сверхъестественное, а в том, что безбожники не верили в естественное. К христианской этике меня толкали атеисты, разрушая любую здравую возможность этики без Бога. Быть может, я сам был секуляристом, признавая ответственность лишь в этом мире; но детерминист возвестил мне, что я ни за что ответственности не несу. Поскольку мне больше нравится, чтобы меня считали вменяемым, а не безумцем на свободе, я стал искать какого‑то прибежища, кроме сумасшедшего дома.
Словом, мне удалось избежать ошибки, в которую впали лучшие люди, чем я. До сих пор считается, что агностик прекрасно управится в этом мире, не залезая в «тот». Ему достаточно здраво мыслить о людях, не занимаясь ангелами и архангелами. Это не так. Сомнения скептика ударяют в самое сердце земной жизни, смущают этот, здешний мир, и прежде всего – здравомыслие. Лучший пример – то, что в дни моей молодости детерминист стал демагогом, возвещавшим огромной толпе, что никому ничего нельзя вменить, поскольку виновны среда и наследственность. По логике, тогда не надо говорить «спасибо», если вам передали горчицу. Какая благодарность, если ваш сосед не мог ее не передать? Можно сказать, конечно, что теории не влияют на обычную жизнь. Одни фаталисты преспокойно обвиняют и наказывают. Другие (не без юмора подчеркивающие свою гуманность) не обвиняют, а только наказывают. Хорошо, но если детерминизм ничего не меняет, зачем Блечфорду кричать с кафедры о том, как он важен для жизни? Объяснение ищем в самом Блечфорде. Старый солдат с итальянскими глазами и моржовыми усами был слишком нормален для такой ненормальной ереси и чувствовал то, что солдаты чувствуют, а социалисты – нет. Он любил Англию, исповедовал вполне консервативные взгляды и уж никак не отстаивал полную свободу торговли. Детерминизм подобрался к нему через очень естественное чувство – неразбавленное сострадание. Книгу детерминистских статей он назвал «Защита обездоленных». Ему, как и многим людям со здоровыми, но нечеткими чувствами, грешник представлялся в виде пьяницы или вороватого бродяги, словом – изгоя, воюющего с обществом. Да, в несправедливой системе, от которой мы страдаем, таких людей, наверное, часто обвиняют зря. Одни из них вообще невиновны, другие, может быть, невменяемы, третьих не надо наказывать. Видя, как их тащат в тюрьму, Блечфорд пожалел слабых и отверженных, что, в самом худшем случае, можно назвать немного скособоченным милосердием. Он так хотел прощать, что отрицал нужду в прощении.
А я, очнувшись от былых мечтаний, громко рассмеялся, поскольку вскоре после спора мне пришлось помогать друзьям и соратникам, обвинявшим не бродяг и пьяниц, а правителей страны и самых богатых людей в империи. Я пытался надеть ошейник ответственности не на бродячего, а на породистого пса; и услышал вскоре, что Блечфорд, кипя яростью, требует покарать без милости могущественных тиранов, которые обижают слабых. Он обвинял прусских вельмож, напавших на Бельгию. Так сгорает в истинном пламени бумажная софистика.





