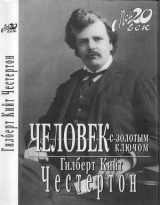
Текст книги "Человек с золотым ключом"
Автор книги: Гилберт Кийт Честертон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
Загадка плюща
Однажды, когда я уезжал в Европу, ко мне зашел приятель.
– Ты укладываешь вещи? – спросил он. – Куда же ты едешь?
Затягивая зубами ремень, я ответил:
– В Баттерси.
– Соль твоей шутки, – сказал он, – ускользает от меня.
– Я еду в Баттерси, – повторил я, – через Париж, Бельфор, Гейдельберг и Франкфурт. Никакой шутки тут нет. Я еду бродить по миру, пока не найду Баттерси. Где‑то в морях заката, в дальнем уголке земли есть маленький остров с зелеными холмами и белыми утесами. Путники рассказывали, что он зовется Англией (шотландцы считают, что он зовется Британией), и я слышал, что в сердце его лежит дивное место – Баттерси.
– Полагаю, незачем говорить тебе, – с жалостью сказал приятель, – что сейчас ты находишься в Баттерси.
– Незачем, – согласился я. – Да это и неверно. Я не вижу отсюда ни Лондона, ни Англии. Я не вижу этой двери. Я не вижу этого кресла, ибо туман повседневности застилает мой взор. Чтобы увидеть их, я должен уехать, для того мы и путешествуем. Неужели ты думаешь, что я еду во Францию, чтобы увидеть Францию? Неужели ты думаешь, что я еду в Германию, чтобы увидеть Германию? Я люблю их, но не ищу. Сейчас я ищу Баттерси. В чужой стране обретаешь свою, как чужую. Предупреждаю, этот чемодан туго набит, и если я услышу слово «парадокс…». Не я создал мир, не я сделал его странным. И не моя вина, что иначе мне не обрести Англии.
Когда через месяц я возвращался домой, Англия открылась мне в своей прекрасной новизне и прекрасной древности. Чтобы увидеть ее, хорошо высадиться в Дувре (многие обычные вещи – самые верные), ибо тогда нам являются первыми пышные сады Кента. Попутчица, с которой я вел разговор, тоже ощущала их дивную свежесть, но по иной причине. Она не бывала в Англии и выражала восторг с той простотой, которая присуща американцам, самому идеалистическому народу в мире. Опасно только то, что их идеалы легко становятся идолами. Но это, как сказал один их писатель, совсем другая история.
– Я не бывала в Англии, – сказала она, – но она так красива, что мне кажется, что я когда‑то была здесь.
– Вы и были, – ответил я. – Триста лет назад.
– Сколько у вас плюща! – вскричала дама. – Просто стен не видно. Он есть и у нас, но не такой густой.
– Рад слышать, – обрадовался я, – поскольку составляю список всего, что в Англии лучше, чем в других странах. Месяц в Европе и хоть капля разума покажут, что многое лучше за границей. Буквально все, что славит в Англии Киплинг, там гораздо лучше. Однако есть хорошее и здесь – копченая селедка, например, елизаветинская драма, и кебы, и крикет… А главное – добрый, святой обычай наедаться с утра. Представить не могу, чтобы Шекспир начинал день с булочки и кофе! Конечно, он ел на завтрак копченую селедку и бекон. Вот она, разгадка! Бекон и впрямь создал Шекспира.
– Пока я вижу только плющ, – сказала дама. – Он такой уютный…
Чтобы ее не отвлекать, я впервые за эти недели развернул нашу газету и прочитал речь Бальфура, в которой он убеждал сохранить палату лордов, ибо она выше партий и выражает мнение народа. Бальфур искренне любит Англию, старается думать о народных нуждах, и, наконец, он очень учен. Однако, несмотря на все это, я мысленно прибавил к чисто английским явлениям, скажем – селедке и крикету, несравненное английское вранье. Франция обличает или защищает вещи за то, что они есть. Она нападает на католическую Церковь за ее католичество, на республику – за ее республиканство. А вот умнейший из английских политиков объясняет, что палата лордов – не палата лордов; что глупые, случайные пэры прекрасно понимают простой люд; что узнать о нуждах самых бедных можно лишь у самых богатых. В чисто научном смысле слова Бальфур прекрасно знает, что все лорды, получившие титул не по случаю, получили его за взятку. Он знает, и весь парламент знает имена пэров, купивших титулы. Но обольщение уюта, но приятное чувство, согревающее душу, когда убедишь в неправде и себя, и других, сильнее холодных знаний. Они гаснут, и он искренне призывает восхититься благородным, милосердным сенатом, начисто забыв, что этот сенат состоит из тупиц, которых он едва терпит, и проходимцев, которых он сам и сделал знатью.
– Какой уютный этот плющ, – не унималась дама. – Смотрите, он всюду! Должно быть, в нем главная прелесть Англии.
– Да, прелесть в нем есть, – признал я. – Диккенс, самый английский из англичан, его восславил. Плющ уютен, он густ и приветлив, он почти чудовищно нежен. Дай только Бог, чтобы он не задушил дерево!
Пятьсот пятьдесят пять
Жизнь полна совпадений, слишком мелких, чтобы упоминать их, а иногда – и замечать. Именно они сообщают устрашающую убедительность ложным теориям и дурным поверьям. С их помощью можно доказать что угодно. Скажи я по идиотскому наитию, что истину изрекали только рыжие люди, и примеры сбегутся ко мне; но я от них отказываюсь. Помню, как мой собеседник убеждал меня, что Бэкон создал пьесы Шекспира, и я предложил ему – наугад, вслепую – интересную теорию о том, что все стихи Йейтса написал лорд Розбери. Мгновенно явился первый довод: такое название, как «Сокровенная роза», – ключ ко всей загадке. Через минуту доводы размножились, и сейчас бы я сидел в сумасшедшем доме, если бы пошел по их следу.
Совпадения встречаются нам на каждом шагу. Некий Уильямс убивает Уильямсона; поистине, это какое‑то сыноубийство! Некий журналист переехал из Оверстрэнда в Оверроудс. Мало того: он получил письмо от некоего Берна, который просил его приехать на прежнее место и проголосовать за некоего Бернса. Когда он ехал, его настигло еще одно совпадение, скорее духовное, даже мистическое или, если хотите, магическое.
По самым разным причинам журналист пребывал в невеселом, смущенном состоянии. Пока поезд бежал сквозь мокрые леса, под мрачным небом, в смятенный ум страдальца врывались праздные вопросы, которые всегда находят смятенный ум. Дураки создают из них всеобъемлющие системы; люди умные гонят их и давят, как злое искушение. Только вера может со всей полнотой поддерживать природную смелость и здравый смысл. Она восстанавливает здоровье духа, едва не сломленного настроением.
Самое худшее в этих вопросах то, что на них всегда есть ответ, и вполне связный. Представим себе, что ваши дети пошли купаться и вас охватил дикий страх. Вы пытаетесь думать: «Дети тонут у одного на много тысяч». Но голос из глубины (другими словами – из ада) отвечает: «Ты можешь быть этим одним». Так и здесь; бес – хранитель моего журналиста нашептывал ему: «Если ты не станешь голосовать, ты сможешь сделать сотни добрых дел, порадовать друга, поиграть с ребенком, утихомирить издателя. Да и что толку от твоего голоса? Одним больше, одним меньше, в том ли суть!» Журналист знал здравый ответ: «Если все так решат, никто не проголосует». Но голос из ада не унялся. «Не от тебя зависит, – сказал он, – что сделают другие. Никто не узнает о твоем поступке, никому до него нет дела». Однако журналист вышел из вагона, проехал по темнеющим улицам и отдал свой ничтожный голос.
Тот, за кого он голосовал, прошел большинством в 555 голосов. Журналист прочитал об этом наутро, за завтраком. Теперь он был повеселее, и ему очень понравилась самая форма победы. Было что‑то символическое в одинаковых цифрах, словно это девиз или шифр. В великой книге Откровения есть похожий знак – 666, звериное число. 555 – число человеческое, знаменующее достоинство и свободу. Такое симметричное построение переходит из мира сухих истин в мир искусства Это узор, орнамент. Им можно украсить обои или вышить платье. Когда журналист думал об этом, разум его пронзила мысль. «Господи милостивый! – вскричал он. – Ведь красоту эту создал я! Если бы не я, число человеческое исчезло бы, не родившись. Это моя рука вырезала иероглиф, поражающий своим совершенством. Судьба могла начертать угловатую, уродливую цифру, но я помог ей, и на свет появился легкий извив цифры осмысленной». Провозгласив все это, журналист опустился на стул и доел свой завтрак.
Любитель Диккенса
Он был тих, одет в темное, усами напоминал вояку, смущеньем и сонливостью – не напоминал. С мрачным интересом смотрел он из‑под широких полей панамы на сутолоку, нет – на толкотню лодок, которых становилось все больше по мере того, как наше суденышко вползало в ярмутскую гавань. Все знают, что лодка или корабль подходит к Ярмуту не честно и прямо, как достойный гость, а сзади, как предатель. Река тесна для такого движения, и суда побольше кажутся просто огромными. Когда мы проходили мимо норвежской баржи с лесом и она закрыла небо, словно собор, человек в панаме показал на старинную фигурку, украшавшую нос баржи, и сказал, как будто бы продолжая беседу:
– Почему их больше не делают? Чем они плохи?
Я легкомысленно предположил, что жены капитанов ревнуют, но в сердце своем знал, насколько он прав. Наша цивилизация почему‑то терпеть не может здоровых и поэтичных символов.
– Они ненавидят все человечное и красивое, – продолжал он, вторя моим мыслям. – Наверное, отбивают фигурки топором, да еще и радуются.
– Как мистер Квилп, – сказал я, – когда он бил кочергой деревянного адмирала.
Лицо его ожило, он выпрямился и посмотрел на меня.
– Вы едете в Ярмут за этим? – спросил он.
Я не понял.
– За Диккенсом, – объяснил он и постучал ногой по палубе.
– Нет, – ответил я. – Хочу развлечься. Собственно, это одно и то же…
– Я езжу сюда, – тихо признался он, – чтобы найти дом Пеготти. Его нет.
И когда он это сказал, я все про него понял.
Есть два Ярмута. Конечно, для тех, кто там живет, их гораздо больше – мне вот никак не удается составить перечень всех Баттерси. Но для туриста, для путника, Ярмута два – бедный (достойный) и богатый (вульгарный). Мой новый товарищ обрыскал первый, словно деятельное привидение. Второй он едва замечал.
– Испортили все, – говорил он. – Туристы, знаете ли… – И голос его звучал не презрительно, а печально. Ему мешал курорт, затмевающий солнце, заглушающий море. Но там, куда не долетал грохот, были улочки, узкие, словно тайный вход в обитель покоя, и садики, такие тихие, что в них окунаешься, как в пруд. По этим местам мы и бродили, толкуя о Диккенсе, вернее – пересказывая друг другу на память целые страницы. Мы попали в былую Англию. Мимо нас проходили рыбаки, похожие на мистера Пеготти; мы заглянули в лавку древностей и купили крышки для трубок, изображавшие героев Диккенса. Когда мы зашли в храм, вечер заливал улицы неярким всепроникающим золотом.
В храме темнело, но сквозь мглу я увидел витраж, сверкающий геральдическими красками пламенного христианского искусства. Помолчав, я сказал:
– Видите вон того ангела? Кажется, это ангел у гроба.
Заметив, как я разволновался, товарищ мой поднял брови.
– Вполне возможно, – ответил он. – А что тут странного?
Я снова помолчал и спросил:
– Помните, что сказал ангел?
– Не совсем, – признался он. – Эй, куда вы так спешите?
Пока я тащил его с тихой площади, мимо рыбацкой богадельни, к пляжу, он все допытывался, куда я спешу.
– Я спешу, – пояснил я наконец, – бросать монетки в автомат. Я спешу слушать негров. Я спешу пить пиво прямо из бутылки. Куплю я и открыток. Найму лодку. Чего там, послушаю концертино, а если б меня лучше учили, и сам сыграл бы! Я покатаюсь на осле, конечно, с его разрешения. Я стану ослом, ибо так велел мне ангел.
– Не вызвать ли ваших родных? – спросил любитель Диккенса.
– Дорогой мой, – отвечал я, – есть писатели, и очень хорошие, чей дар столь тонок, что мы вправе связывать их с определенным местом, с непрочной атмосферой. Мы вправе гоняться за тенью Уолпола по Строберри Хилл и даже за тенью Теккерея по Старому Кенсингтону. Но с Диккенсом искателю древностей делать нечего, поскольку Диккенс – не древность. Он смотрит не назад, а вперед. Да, он мог бы взглянуть на эту толпу с насмешкой или с яростью, но он был бы рад на нее взглянуть. Он мог бы разбранить нашу демократию, но лишь потому, что был демократом и требовал от нее большего. Все его книги – не «Лавка древностей», а «Большие надежды». Куда бы люди ни пошли, он хочет, чтобы мы были с ними, и приняли их, и переварили, словно святые людоеды. Отнесемся же к этим туристам так, как он бы отнесся, выведаем их беду, их нелепую радость! Ангел у гроба сказал: «Что ищите живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес».
Тут мы внезапно вышли на широкую полосу пляжа, и увидели наш смешной, безнадежный народ. Закат во всей своей славе заливал его червонным золотом, словно огромный костер, который зажег Диккенс. В странном вечернем свете каждый стал и чудовищным и прекрасным, как будто собирался рассказать невероятную быль. Девочка, которую дразнила другая девочка, побольше, говорила, отбиваясь:
– А у моей сестры четыре обручальных кольца.
Я стоял, и слушал, и ждал, а спутник мой исчез.
Сыр
Мой пятитомный труд «Сыр в современной словесности» так нов и сложен, что я вряд ли допишу его при жизни; что ж, поделюсь мыслями в статье. Почему другие не пишут о сыре, я не понимаю. Поэты молчат. Кажется, что‑то есть у Вергилия, а может – и нету. Кроме него, я знаю лишь безвестного барда, сочинившего детский стишок: «Когда б весь мир был хлеб и сыр». Если бы мечта его сбылась, я быстро управился бы с округой, леса и долы таяли бы передо мной. Кроме этих двух стихотворцев, я не помню никого. А ведь сыр просто создан для поэзии. Слово – короткое, благозвучное, оно рифмуется с «пир» и «сир». Что же до самой субстанции, она прекрасна и проста. Делают ее из молока, древнейшего напитка, который не так уж легко испортить. Наверное, райские реки текли молоком, водой, вином и пивом. Лимонад и какао появились после грехопадения.
Но это еще не самое лучшее в сыре. Как‑то, переезжая с места на место, я читал лекции, и путь мой был столь причудлив, что за четыре дня я побывал в четырех кабачках четырех графств. Каждый кабачок предлагал мне хлеб и сыр – что еще нужно человеку? Сыр был очень хороший, но в каждом кабачке – другой: йоркширский – в Йоркшире, чеширский – в Чешире и так далее. Именно этим и отличается цивилизация поэтическая от цивилизации механической, которая держит нас в неволе. Плохие обычаи жестки и вездесущи, как нынешний милитаризм, хорошие – гибки и разнообразны, как врожденное рыцарство. И плохая цивилизация, и хорошая, словно шатер, защищают нас от внешних бед. Но хорошая подобна живому дереву, плохая – зонтику, рукотворному, стандартному, жалкому. По мудрости небес люди едят сыр, но не одинаковый. Он есть всюду, и в каждой местности – свой. Если мы сравним его с намного худшей субстанцией – мылом, мы увидим, что мыло стремится повсюду стать мылом Смита или мылом Брауна. Индеец купит мыло Смита, Далай – лама – мыло Брауна, вот и вся разница; ничего индейского, ничего тибетского в нем нет. Наверное, Далай – лама не любит сыра (куда ему!), но если там у него есть сыр, сыр этот местный, тесно связанный с его миром и миросозерцанием. Спички, консервы, таблетки рассылают по всей земле, но не производят повсюду. Вот почему они мертвенно одинаковы и лишены нежной игры различий, свойственной всему тому, что рождается в каждой деревне, – молоку от коровы, фруктам из сада. Виски с содовой можно выпить везде, но вы не ощутите духа местности, который даст вам сидр Девоншира или вино Рейна. Вы не приблизитесь ни к одному из бесчисленных настроений природы, как приближаетесь, когда совершаете таинство, едите сыр.
Посетив, словно паломник, четыре придорожных кабачка, я добрался до северного города и ринулся почему‑то в большой, блестящий ресторан, где было много разной еды, кроме хлеба и сыра. Были там и они; во всяком случае, я так думал, но мне быстро напомнили, что я уже не в Англии, а в Вавилоне. Лакей принес мне сыр, но тоненькими ломтиками, а вместо хлеба, о ужас, он дал мне сухие хлебцы. Это мне, вкусившему хлеба и сыра в четырех кабаках! Это мне, познавшему святыню древнего сочетания! Я обратился к лакею возвышенно и мягко. «Вам ли, – спросил я, – разлучать то, что сочетал человек? Неужели вы не чувствуете, что плотный, мягкий сыр подходит только к плотному, мягкому хлебу? Неужели вы не видите, что сыр на хлебце – все равно, что сыр на сланце? Неужели молитесь о хлебце насущном?» Он дал мне понять, что сыр с сухой галетой едят в обществе. И я решил обличить не его, но общество; что и делаю.
Сияние серого света
Вероятно, многие сочтут, что нынешнее лето не слишком подходит для прославления английского климата. Но я буду славить английский климат, пока не умру, даже если умру именно от него. Нет на свете погоды лучше английской. В сущности, нигде, кроме Англии, вообще нет погоды. Во Франции – много солнца и немного дождя; в Италии – жаркий ветер и ветер холодный; в Шотландии или Ирландии – дождь погуще и дождь пожиже; в Америке – адская жара и адский холод; в тропиках – солнечные удары и для разнообразия удары молний. Все сильно, все резко, все вызывает восторг или отчаяние. И только в нашей романтической стране есть поистине романтическая вещь – погода, изменчивая и прелестная, как женщина. Славные английские пейзажисты (презираемые в наш век, как и все английское) знали, в чем тут дело. Погода была для них не фоном, не атмосферой, а сюжетом. Они писали погоду. Погода позировала Констеблю. Погода позировала Тернеру, и зверская, надо сказать, была у нее поза. Пуссэн и Лоррэн писали предметы – древние города или аркадских пастушек – в прозрачной среде климата. Но у англичан погода – героиня, у Тернера – героиня мелодрамы, упрямая, страстная, сильная, поистине великолепная. Климат Англии – могучий и грозный герой в одеждах дождя и снега, грозы и солнца – заполняет и первый, и второй, и третий план картины. Я признаю, что во Франции многое лучше, чем у нас, не только живопись. Но я гроша не дам за французскую погоду и погодопись – да у французов и слова нет для погоды. Они спрашивают о ней также, как мы спрашиваем о времени.
Чем изменчивей климат, тем устойчивей дом. В пустыне погода однообразная, и ничего нет удивительного, что арабы кочуют в надежде, что хоть где‑нибудь она другая. Но дом англичанина не только крепость, это волшебный замок. В лучах и облаках рассвета или заката он то глиняный, то золотой, то слоновой кости. Из моего сада виден лес на горизонте, и в полном смысле слова он меняется триста шестьдесят пять раз в году. Иногда он близко, как изгородь, иногда – необычайно далеко, словно невесомые и огненные вечерние облака. Кстати, тот же принцип можно применить к нелегкой проблеме брака. Изменчивость – одна из добродетелей женщины. Она помогает нам избежать грубых соблазнов многоженства. Если у вас хорошая жена, вы в духовном смысле обеспечены гаремом.
Люди, не разбирающиеся в погоде, называют серый день бесцветным. Это не так. Серое – это цвет, иногда очень насыщенный и красивый. Очень обидно слышать про «серые, одинаковые дни». С таким же правом можно сказать «зеленые одинаковые деревья». Конечно, серое небо – шатер между нами и солнцем; честно говоря, такой же шатер и дерево. Но серьге шатры различаются и цветом, и плотностью не меньше, чем зеленые. Один день серый, как сталь, другой – как голубиное крыло; один напоминает о морозе, другой – о теплом дыме из кухонной трубы. Что может быть дальше друг от друга, чем неуверенность серого и решительность алого? Однако серое и алое могут смешаться – на утреннем небе, например, или в теплом дымчатом камне, из которого в западных графствах строят маленькие города. В тех краях даже самые серые дома – розоватые, словно в их очагах так много тепла и радости, что они светятся изнутри, как облако. Странствуя там, я забрел на извилистую дорогу и увидел дорожный указатель с надписью «Облака». Я не пошел по ней: я испугался, что либо городок не достоин названия, либо я не достоин городка. Как бы то ни было, в маленьких селеньях из теплосерого камня есть очарование, которого никогда не добиться изысканным красным тонам аристократических предместий. Рукам теплее у пепла Глестонбери, чем у искусственного пламени Кройдона.
Враги серого (эти коварные, наглые, испорченные люди) очень любят еще один довод. Они говорят, что в серую погоду все блекнет и только в сиянии солнца оживают краски неба и земли. Действительно, только на солнце предстают во всей прелести предметы третьестепенных, сомнительных цветов: торф, гороховый суп, эскиз импрессиониста, бархатная куртка, шоколад, какао, маслины, сланец, лицо вегетарианца, пемза, грязь, тина, копоть, старые ботинки. Но если у вас здоровый негритянский вкус, если вы засадили садик геранью и маками, расписали дом синькой и киноварью; если вы, допустим, носите алый фрак и золотую шляпу, вы не только будете видны в серейший из серых дней – вы заметите, что именно в такой день ваши любимые краски особенно хороши. Вы поймете, что они еще ярче в пасмурный день, потому что на сером фоне светятся собственным светом. На сером небе все цветы – фейерверк: они причудливы, как рисунок огнем в призрачном садике ведьмы. Ярко – синий фон убивает синие цветы. А в серый день незабудка – осколок неба, анютины глазки – открытые глаза дня, подсолнечник – наместник солнца.
Тем и прекрасен цвет, который называют бесцветным. Он сложен и переменчив, как обыденная жизнь, и так же много в нем обещания и надежды. Всегда кажется, что серый цвет вот – вот перейдет в другой – разгорится синим, просветлеет белым, вспыхнет зеленью или золотом. Неопределенно, неуверенно он что‑то сулит нам. И когда наши холмы озаряет серебро серых трав, а наши виски – серебро седин, мы должны помнить, что выглянет солнце.








