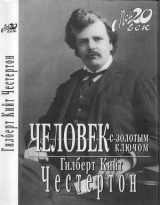
Текст книги "Человек с золотым ключом"
Автор книги: Гилберт Кийт Честертон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц)
Именно эта связь с журналистами, занимавшимися политикой, завлекла меня дальше и в политику, и в газетное дело. Потом либералы, защищавшие буров, купили «Дейли Ньюс», которая до тех пор, как все либеральные газеты, принадлежала сторонникам империи. Группа, в которой главным богачом был Джордж Кэдбери, а главным газетчиком – покойный Р. С. Леман, назначила редактором моего друга Арчибальда Маршалла, который, в свою очередь, имел неосторожность заказать мне еженедельные статьи. Много лет я писал по статье к каждой субботе, и про меня говорили, что я получил субботнюю кафедру. Как бы я ни проповедовал, прихожан мне дали намного больше, чем когда бы то ни было. Кафедру эту я занимал, пока от нее не отказался; об этом я еще расскажу.
Я понемногу знакомился с главными политиками, хотя о политике они почти не говорили; наверное, так всегда и бывает. Среди прочих я брал интервью у лорда Морли и был поражен неописуемым свойством, которое есть почти у всех общественных деятелей, связанных с литературой. Он был любезен и прост, и несомненно искренен, но очень уклончив, осторожен, словно прекрасно знал, что сторонники, того и гляди, заведут его дальше, чем нужно. О Хэммонде, Херсте и других защитниках прав он говорил с отеческим восхищением, но как бы предупреждал, что они слишком пылки, а я в этом не нуждался, я сам просто пылал. Словом, он был добрым и мудрым человеком, но совсем не таким, каким он казался безымянным и бесчисленным поклонникам; не фанатиком, не демократом, не врагом компромисса, словом – не Честным Джоном. Он был активным членом парламента, хотя из самых лучших. То же самое можно сказать о других членах парламента, с которыми я познакомился; счастлив сообщить, что попадались мне далеко не худшие. Меня восхищала сердечная живость старого Асквита, покойного графа Оксфордского; говорили мы о пустяках, но до легкомыслия надо подняться. Однажды, увидев его в придворном наряде, я не удержался и спросил, вынимается ли меч из ножен. «О, да! – отвечал он, мрачно тряся головой. – Не вводите меня в искушение». И все‑таки у него тоже была странная расплывчатость в этике и политике, которую я подметил в людях, облеченных особой ответственностью. Он охотно ответил на глупый вопрос о мече, но если бы я задал разумный вопрос о налогах на сверхприбыль, он бы фехтовал много осторожнее. Собственно, он бы смутно ощутил, что ему бросают вызов, как бы кричат с места. Мне трудно описать этот тонкий оттенок, его не затемняя. Морли был очень общественным деятелем, но все они чем выше, тем расплывчатей. Четкие убеждения и намерения – у молодых и неизвестных. Как‑то я выразил это, надеюсь – сравнительно верно, заметив, что у политиков нет политических мнений.
Случилось так, что один из политиков, казавшийся в дни моей молодости вечно молодым, не сходился со мной во мнениях. Джордж Уиндэм, что замечательно, не утратил ни политических мнений, ни каких‑либо других. Он был прекрасным другом, потому что остался собой, сохранил юность, даже детство. Если бы он не был министром, он был бы писателем или художником, причем таким, который печется о душе и лелеет тайные, смутные мысли о том, как ее спасти. В отличие от Чарльза Огастеса Фортескью, он не стремился «судить о жизни широко». У него были и предубеждения, и честные догмы, за которые он был готов бороться как частное лицо. Когда Асквит касался религии (что бывало очень редко), его явно удовлетворял тот неясный идеализм, та разбавленная «суть христианства», которые вполне искренни, но мало влияют на социальный выбор. Джордж Уиндэм был англокатоликом и исповедовал свою веру, кем бы ни становился. Было в нем что‑то четкое, словно край меча, который я, как ни печально, предпочитаю мешку с песком.
У Уиндэма было много странных и необычных мнений. Одно из его чудачеств заключалось в том, что, предложив тему беседы, он начинал всех спрашивать, словно во что‑то играл или принимал экзамен. Помню, он серьезно возгласил: «Япония», и начал опрос с меня. Я сказал, что Японии не доверяю, потому что она берет у нас не лучшее, а худшее – не средние века и не права человека, а заводы и материализм. Когда я закончил фразой: «Это все равно, что смотреться в зеркало и видеть обезьяну», он поднял руку, словно церемониймейстер, и обратился к майору Сили (теперь он генерал), который осуждал в Японии что‑то, связанное с империей и нашей национальной безопасностью. Потом Уинстон Черчилль сказал, что, пока японцы были красивы и учтивы, их считали дикарями, когда же они обрели уродство и вульгарность, их все зауважали. Чарльз Мастермен со свойственной ему блистательной мрачностью сообщил, что япошки – это гунны, которые сметут нас с лица земли, поскольку они сильнее, хитрее и противней. Еще человека два сказали что‑то отрицательное, а затем лукавый Уиндэм предложил одну из своих многочисленных теорий: мохнатого айну – родича европейцев – завоевали страшные монголы. «По – моему, – серьезно промолвил он, – мы должны его спасти». Тут кто‑то удивился: «Смотрите‑ка! Мы тут все как один по той или иной причине не любим японцев. Почему же против них нельзя и слова сказать в печати? Почему их постоянно хвалят? Что это, условность или мода?» Черчилль улыбнулся загадочной улыбкой политика, и тонкий покров, о котором я говорил, окутал нас. Ответа мы так и не получили.
Чарльз Мастермен, кстати сказать, был замечательным человеком. Кроме того, он был занятным и настолько тонким, что многие из моих друзей его недооценивали. Да, чем выше он поднимался, тем больше окутывал его упомянутый покров, но в политику его привела благородная печаль о бедных, а тем, что в нем осуждали, грешили гораздо менее достойные люди. Все, что стоило в нем осудить, вызвано двумя причинами: он был государственным мужем и пессимистом. Мрачное пуританское воспитание оставило в нем недоверие к высшим силам. Как‑то он сказал мне: «Я из тех, кто украдкой ест яблоки». Управлять он умел и любил, но пессимизм подсказывал ему, что толку от этого не бывает, тем более – в наше время. Поэтому те, кто хотел перемен, считали, что он им мешает, отстаивая казенные интересы, хотя меньше всего на свете он что‑нибудь отстаивал или оправдывал. Людей он видел насквозь и говорил это так прямо, что поражал, а не обижал. Олдершоу сказал мне однажды: «Его откровенность прекрасна». Но из‑за уныния его устраивало то, что возмущало других; пессимизм совершал худшее дело оптимизма. Сам по себе, с виду, Мастермен был долговязым, неуклюжим и почти таким же расхристанным, как я.
Напомню, что с политиками я встречался между делом, а делом моим были статьи для «Дейли Ньюс». Газету полностью контролировал Кэдбери, а редактировал начитанный и приятный Гардинер; и я почти не замечал, что газетное дело превращается в большой бизнес. Помню, я удивился, когда небольшая дверь сменилась стеклянной, вращающейся; для меня (а больше, я думаю – ни для кого) это было новшеством. Смутно припомнив ворота для скота, я спросил Кэдбери, боится ли он, как бы коровы не разбежались, и он, человек простодушный, посмеялся над немудреной шуткой. Однако случай этот связан для меня с менее идиллическим юмором. У нас работал крупный журналист нонконформистского толка, который относился к себе так серьезно, что среди обычных людей сразу обижался. Стыдно сказать, но я пустил слух, что пребыванием в газете он обязан новому механизму. Его непрестанно увольняют, но так незаслуженно, что справедливая дверь вталкивает его обратно. Чем больше распаляется Кэдбери, спуская его с лестницы, тем несомненней, что стойкий журналист, улыбаясь, окажется за своим столом. Из чего следует, прибавлял я, уже тогда имея склонность к нравоучениям, что механический прогресс ставит новые проблемы. За притчу не ручаюсь, а мораль – верна: автомобиль давит народ, аэроплан разрушает дома, станок лишает людей работы.
Понемногу я вглядывался в мир политики, особенно – в «наше крыло» либеральной партии, поскольку гостеприимный Кэдбери часто приглашал к себе своих друзей и сотрудников. Это было очень интересно хотя бы потому, что показывало, из каких разнородных элементов эта партия состоит. Именно там я познакомился с человеком, который внушал мне уважение, не говоря о том, что повсюду вносил оживление. Уилла Крукса, при всей его солидности, было трудно назвать «мистер Крукс». Я знал немало лейбористов, и чаще всего они мне нравились не меньше, чем либералы. Среди них были всевозможные типы, от высокомерных профессоров до чудаковатых аристократов. Но из всех главарей «рабочей партии» только Крукс хоть как‑то напоминал рабочего человека. Шутил он, как шофер или носильщик, а такой юмор гораздо действенней и жизненней учености и красноречия в их нынешней форме. Интеллектуалов, увлекшихся социализмом, он ругал не за то, что они предоставляют слишком много власти такой абстракции, как государство, а за то, что «у них дыра в затылке». Благодаря его жене, достойной, как римская матрона, я увидел, как странно сталкиваются в «нашей партии» разные люди и культуры. Невесомая дама с бледно – голубым взором и в бледно – зеленых одеждах, жена известного миролюбием газетчика, исповедовала свои идеалы с умилительной робостью, но, если они были передовыми, относилась к ним очень серьезно. Как‑то Ноэл Бакстон, с которым я недавно познакомился, запальчиво и занятно описывал спешку и суматоху, которые заполонили его жизнь, когда он боролся за место в парламенте. По ходу дела он произнес: «Я едва успел доесть котлету…», и бледно – зеленая сивилла услышала внутренний голос.
– Нужна ли нам котлета? – мучительно, словно в трансе, проговорила она. – Лучше ли от нее человеку? Достаточно ли…
– Вот именно! – сердечно поддержала ее миссис Крукс. – Конечно, котлеты мало. Хороший бифштекс или там бараний бок – вот что им нужно! О чем, о чем, а уж об этом я забочусь!
Воздушная дама вздохнула, быть может, не решаясь спорить с оппонентом, который орудует бараньей костью, а реплики их остались в моей памяти притчей о двух разновидностях простой жизни.
Почти сразу после этого я повел сивиллу к столу. Когда мы проходили через оранжерею, я просто так. чтобы не молчать, неосмотрительно заметил:
– Наверное, вам, вегетарианцам, стыдно на это смотреть? Вы едите листья и плоды, а вот тот цветок ест насекомых. Что ж, заслуженная кара, отмщение за беззащитных…
Она серьезно посмотрела на меня и ответила:
– Я не одобряю отмщения.
Надо ли говорить, что я совершенно смешался и стал лепетать что‑то вроде: «Ах, вон что! А как же тогда в Библии?..» Однако этот образ мысли пронизал мою жизнь и мою эпоху голубовато – зеленой нитью.
Занимался я политикой и по – другому, хотя навряд ли с особой пользой. Политика вообще приносила мало пользы, во всяком случае, если ею занимался я. Мастермен со вкусом клялся, что, когда мы с ним агитировали и он начал с одного конца улицы, а я – с другого, пройдя свой путь, он застал меня в первом доме, где я спорил с хозяином о философии власти. Наверное, рассказ окрашен его обычной печалью, но, ничего не скажешь, я честно считал, что «агитировать» значит «обращать», хотя на самом деле это значит «подсчитывать». Агитаторы лезут к людям не ради партийной политики, которая им неведома, а для того, чтобы определить по речам, жестам, манерам и даже побоям домовладельца, склонен ли он голосовать за «нашего кандидата», да и голосовать вообще. Как‑то мы с Олдершоу агитировали в одной деревне за одного либерала. Странно вспомнить, что больше мы ничего о нем не знали. Если не ошибаюсь, он был вполне достойным и порядочным; но этот случай, равно как и другие, породил во мне темное подозрение. Тогда я его толком не понял, да и сейчас не знаю, как передать холодную подсказку подсознания. Когда, после многих кампаний, она вылезла на поверхность, ее худо – бедно выразил вопрос: «Почему кандидат почти непременно говорит хуже всех?» На многих выборах кандидатов представляли красноречивейшие люди; лучших ораторов, чем Саймон и Беллок, просто не бывает. Но тот, кого они посылали говорить за них в парламенте, почти никогда не мог связать двух слов. Солидный, элегантный манекен с моноклем и нафабренными усиками повторял на каждом митинге одну и ту же скучную фразу. С точки зрения психологии, интересно, что молодые люди смутно ощущают неправду и призрачность, хотя разум их и воля пылко верят в «дело». Оглядываясь назад, после истории с Маркони, о которой мы еще поговорим, я знаю, что подсказывали мне чувства; и еще я знаю, чего тогда не понимал. Современной политикой правят деньги, и манекен с моноклем лучше Саймона или Беллока тем, что он богаче. Тогда я об этом не догадывался, и, особенно в первую мою кампанию, распалялся, как только мог. Однако кандидат в парламент прошел.
Вообще же я приносил мало пользы выборам, а вот они мне пользу приносили. Я повидал больше деревень, чем обычно видит лондонец, и повстречал много занятных сельских типов. Помню объемистую старуху в Сомерсете, которая грозно, почти враждебно сообщила, что она – за либералов, а мужа пока видеть нельзя, он еще тори. Оказалось, что первые два мужа тоже так начинали, но перевоспитывались. Указав пальцем через плечо, на невидимого консерватора, она обещала «допечь его к выборам». Мне не дали заглянуть в колдовской котел, где изготавливают либералов из чего угодно, а потом, по– видимому, уничтожают. Дама эта была не единственной из сельских чудаков и чудищ; да и встречал я в деревне далеко не только их.
Ведь эта мелкая суета едва трогала славные холмы и долины, которые навидались истинных битв вплоть до битвы между язычеством и христианством, породившей нашу историю. Наверное, такие простые истины уже пробивались в мое сознание; позже я попытался облечь их в очень неудачную, но хоть простую и понятную форму. Помню, как зашевелилось вдохновение, когда за деревушкой, изуродованной предвыборными плакатами, я увидел на склоне холма, словно светлое облако на небе, огромный и загадочный иероглиф белой лошади.
О случайном и дилетантском участии в политике я пишу только для одного: чтобы объяснить, что свой политический идеализм мы связывали с Англией, а не с империей. И «наши», и чужие нас за это ругали или просто не могли понять. Нам казалось очевидным, что патриотизм и империализм противоположны друг другу. Почти никому из добрых патриотов и простодушных империалистов это очевидным не казалось. Они удивлялись точно так же, как противники патриотизма и империализма. В конце концов мы издали книжку, где объясняли свои странные мнения. Называлась она «Страна Англия», а издал ее Олдершоу, которому помогали Мастермен, я и другие. Дал нам денег и один ирландский националист, мой приятель Хью Лоу; примерно тогда я начал с ними общаться и очень полюбил их. Об этом мы еще поговорим, а пока скажу, что, на мой взгляд, патриот Англии должен первым делом сочувствовать пламенному патриотизму Ирландии. Рад признать, что я выражал это и во времена ее трагедии, и во времена ее триумфа.
Как ни странно, самое четкое воспоминание о загадке патриотизма и о непонятности понятного связано не с Англией, не с Ирландией, а с Германией. Немного позже описанных выше событий я легкомысленно согласился рассказать об английской словесности собранию немецких учителей и отправился во Франкфурт. Мы обсуждали «Мармиона» и другие прекрасные поэмы, мы пели английские песни, пили немецкое пиво, словом, жили очень приятно. Однако в милых, приветливых немцах сквозило и что‑то неприятное; они выражали это очень вежливо, но я снова думал о том, как трудно объяснить людям про страну и про империю. Говоря о литературе, я отдавал предпочтение английской, что многим покажется узостью, а поклонником империи не был. Они явно терялись и объясняли мне с той серьезностью, с какой только немцы повторяют заведомо избитую истину, что империализм и патриотизм – одно и то же. Обнаружив, что империализм, даже британский, мне противен, они странно на меня посмотрели, вероятно, выведя отсюда, что я равнодушен, если не враждебен, к собственной стране. Может быть, им показалось, что псевдонимом «Г. К. Честертон» пользуется Х. С. Чемберлен. Во всяком случае, они стали откровенней, хотя все‑таки недоговаривали, и постепенно я понял: эти удивительные люди решили, что я одобряю или принимаю дикую теорию, гласящую, что тевтонская раса должна захватывать место за счет других стран, в том числе – моей. Положение было трудное, они ничего прямо не сказали, спорить я не мог, но ощущал напряжение, даже угрозу. Подумав немного, я предложил: «Что ж, господа, прочитаю вам снова стихи, о которых мы говорили», и медленно повторил ответ Мармиона шотландскому королю, предположившему, что они еще встретятся южнее, на английской земле:
Гордится мой смиренный дом,
Что сам король в него вошел,
Но в Кенте лучники живут,
В Йоркшире мужи хороши,
В Нортумбрии крепки мечи.
И много рыцарей везде,
И много пик, и много стрел
На случай, если сам король
Решится реку перейти.
Я посмотрел на них, они – на меня, и мы, кажется, поняли друг друга, а над уютным залом, где пили пиво, встал призрак грядущего.
Глава V. Причудливое предместье
Когда молодым журналистом я писал для «Дейли Ньюс», в одной моей статье была фраза: «Клепхем, как всякий город, стоит на вулкане». Открыв наутро газету, я увидел, что на вулкане стоит Кенсингтон. Конечно, это не так уж важно, но я удивился и сказал об этом редактору, думая, что перед нами прихоть эксцентричного наборщика. Однако он взглянул на меня с такой досадой, что я признал бы свою вину, если бы она была, и мрачно спросил: «Почему именно Клепхем?», а потом, словно сбросив маску, прибавил: «Я там живу». Поскольку я жил в Кенсингтоне, он переадресовал издевку этому королевскому кварталу.
– Да я же хвалю Клепхем! – жалобно вскричал я. – Я хочу сказать, что он славен и прост и стоит на священном пламени!
– Вам кажется, – осведомился он, – что вы очень остроумны?
– Мне кажется, что я прав, – ответил я, не в последний раз выражая это скромное мнение и впервые постигая неприглядную истину.
Если в баскском селении или в баварском местечке вы скажете, что оно исполнено романтики, кто‑то решит, что вы поэт, а значит, скорей всего – безумец, но никто не усомнится в вашей серьезности. Обитатель Клепхема в ней усомнился. Патриот Клепхема представить не мог, что слова о его предместье – не презрительная насмешка. От него был скрыт мистический Клепхем, вулканический Клепхем, грозовой и пламенный Клепхем. Чуть не плача, я убеждал его, что, если он гордится Клепхемом, я разделяю эти чувства. Но в том‑то и тайна, в том и страшная правда, что он им не гордился. Он его стыдился.
Всю жизнь я думал о нем. Он являлся мне, как тень, из– за углов и поворотов, словно шантажист или убийца. Ради него я создал балаганных героев Ноттинг – хилла и прочее в этом роде. Все, что я думал и делал, породила проблема, которая казалась мне очень странной. На этих страницах будет много проблем, иначе правды не скажешь. С каким– то решением читатель согласится, какое‑то отвергнет, но я прошу все время помнить, что это – самое первое по времени и едва ли не по значению. Что же сделать, думал я, чтобы люди поняли, какое чудо жить, просто жить в той привычной среде, которую они осознанно считают полумертвой, а неосознанно – совсем неживой? Естественно хвастаться своим городом, но люди смирились с тем, что хвастаться им нет причины; и за горизонт потянулись уродливые улицы с плохими домами, плохой одеждой, плохими манерами, а главное – с плохим отражением в душе их жителей. Из этих городов или, скажем, кварталов складывается Лондон, однако для большинства он вообще существует лишь в сознании журналиста; на самом же деле его как бы нет, и уж во всяком случае он им не нравится. Современный образ жизни, признанный прозаичным, влияет на них день и ночь, формируя душу. Я говорю это, чтобы стало яснее, почему я примкнул к одним кружкам и течениям, отошел от других.
Моя пресловутая тяга к средним векам значит, что для меня очень важна историческая роль Клепхема. Моя пресловутая неприязнь к империям значит, что мне не нравится, когда из Англии делают что‑то вроде Клепхемского узла. Клепхем моей души состоит из тихих, мирных домов, а не из мелькающих вагонов, и я не хочу, чтобы Англия стала камерой хранения или эвакуационным пунктом под вывеской «Экспорт – импорт». Я всегда любил простые вещи, которые никто не ввезет к нам, а мы слишком ценим, чтобы вывозить. И мне пришло в голову, что места вроде Клепхема не станут священными, пока между нами не будет другого, особого единства. Верно или неверно, я решил в конце концов, что Клепхем станет священной неволей Клепхемской секты. Не думайте, я искренне почитаю сообщество человеколюбцев, посвятивших жизнь далеким неграм. Они много сделали для Африки, но не для Клепхема.
Чтобы понять эпос о Клепхеме и Кенсингтоне, эту повесть о двух городах, нужно напомнить, что, когда Клепхем был Клепхемом, Лондон был Клепхемом, мало того, Клепхемом был Кенсингтон. Конечно, попадались, особенно – в Кенсингтоне, прелестные уголки XVIII или начала XIX века, как попадаются и теперь, однако еще не было даже отблеска новых течений. Кое – где в домах, на обоях уже появился Моррис, вообще же дома и обои были невыносимо скучными. Лондон стал немыслимо большим, в нем тонули остатки былой красоты и зачатки нового эстетства. Огромный город состоял из плоскогрудых домов, слепых окон, железных фонарей и оглушительно красных почтовых ящиков.
Если мне удалось описать скромные достоинства моего круга и моей семьи, вы поняли сами, что мы были так же неприглядны, как фонари и рельсы, среди которых мы жили. Нашей одежды и мебели не коснулось художество, хотя живопись мы любили и знали. Когда моя мать говорила, что мы не были почтенными, она скорее всего имела в виду, что мы не носили богатой, дорогой одежды. По сравнению с эстетством, захлестнувшим с той поры Лондон, мы одевались кое‑как, особенно в моей семье. Отец, брат и я вообще об этом не думали. Мы небрежно носили приличные костюмы, эстеты бережно носили костюмы неприличные. Я ходил в обычном пальто, и лишь по моей вине оно стало достаточно необычным. Эстет торжественно носил свою эстетскую шляпу, я беспечно носил цилиндр – мятый, кособокий, но не для того, чтобы пугать буржуа, я сам в этом смысле был совершенно буржуазным. Иногда мой цилиндр или его призрак достают из музейного мусора, чтобы я мог пойти на прием к королю. Может быть, это не тот, прежний; тот больше годился бы в огороде, чем в королевском саду. Но говорю я об одном: моды и условности не настолько трогали нас, чтобы их нарушать. Мой отец был истинным любителем, радостно и умело создававшим сотни вещей, но дилетантом он не был. Эта книга повествует о его недостойном потомке, который даже учился живописи, но, гордо скажу, художником не стал, а эстетом стать и не пытался.
Пусть читателя, если он найдется, не введет в заблуждение фальстафовская фигура в разбойничьем плаще, которую он видел на карикатурах. Это – произведение искусства, созданное позже не карикатуристом, а художницей, которой я едва касаюсь в моем викторианском повествовании. Вот что может сделать даровитая женщина из неблагодарного материала. Когда я был подростком или холостяком, одевался я, как все, только хуже. Мое безумие таилось внутри, не выражаясь в одежде. Однако я все больше проникался смутным, даже призрачным протестом против призрачности тогдашнего города и тогдашней цивилизации, против цилиндрических шляп и прямоугольных домов, словом, всего того, что породило «Наполеона Ноттингхильского» и несовершенный патриотизм предместий. Наверное, я просто чувствовал, что узники этих странных строений – тоже люди, а человеческой душе не соответствует плохой чертеж или железная дорога, похожая на часть машины. Помню, как мы с Мастерменом, только – только познакомившись, смотрели, как усталые толпы текут по проходам подземки к железному и призрачному Кольцу, и читали стихи Киплинга о боевом корабле, выведенном из строя.
Однако я постоянно и смутно думал, что в англичанах и вообще в людях есть что‑то священное, и это отличало меня от пессимистов той поры. Я никогда не сомневался, что люди в домах – почти чудо, словно волшебные куклы в уродливых коробках. Дома были для меня рождественскими подарками, которые заворачивают в бурую бумагу, похожую на бурый кирпич, столь излюбленный подрядчиками.
Словом, я не спорил с тем, что улицы и шляпы некрасивы, а лондонское мироздание простирается до края света. Поэтому я так удивился, увидев издали первый и причудливый признак чего‑то иного, яркую заплатку на серой одежде города. Тогда я много гулял. Обычно я шел пешком от училища, которое располагалось в Сент – Джон – вуде, и вам будет легче представить, как изменился Лондон, если я скажу, что ходил из Кенсингтона до собора св. Павла почти весь путь – по мостовой. Однажды я бесцельно направился на запад, через Хаммерсмит, быть может – к садам Кью, и по какой‑то причине или без причин свернул в боковую улочку. Вскоре я оказался на пыльной полянке, по которой бежали рельсы, а над ними торчал один из тех непомерно высоких мостов, которые шагают через дороги, словно человек на ходулях. Чтобы увенчать бессмысленную прихоть, я влез на заброшенный мост. Был вечер; наверное, тогда я и увидел над серым ландшафтом, словно алое закатное облачко, артистическое предместье, именуемое Бедфорд – парком.
Как я уже говорил, нелегко объяснить, что такие привычные вещи казались причудливыми. Нарочитая затейливость уже не трогает нас, но в те времена она поистине поражала. Бедфорд-парк, согласно замыслу, казался заповедником для богемы, если не для изгоев, убежищем для гонимых поэтов, укрывшихся в краснокирпичных катакомбах, чтобы погибнуть на краснокирпичных баррикадах, когда мещанский мир попробует завоевать их. Победу, однако, одержал не мир, а Бедфорд-парк. Коттеджи, муниципальные дома и лавочки кустарных изделий уже переняли ту неприхотливую живописность, которая считалась тогда вычурной прихотью богемы; а вскоре, насколько я понимаю, ее подхватят тюрьмы и сумасшедшие дома. Но в те давние дни клерк из Клепхема, получив такой причудливый домик, решил бы, что жить в нем может только сумасшедший. Эстетский эксперимент поставлен не так уж давно. В нем была какая– то общинная отделенность – свои магазины, своя почта, свой храм, свой кабачок. Опекал его старый Каминс– Карр, которого считали не только патриархом маленькой республики, но и отцом-основателем. Собственно, он был не таким уж старым, а уж республика – совсем молодой, гораздо моложе республики Мэллока, хотя царила там примерно та же философическая суета, на которую патриарх благосклонно поглядывал сверху. Как говорили тогда, он был старше скал, средь которых гулял, или крыш, под которыми жил; и к нему могли бы применить (быть может, не совсем точно) другие прославленные строки:
Где мы увидим вновь чудеса такие,
Розово-алый город, древний, как Камине?
Мы ощущали, пусть неосознанно, что в этом предместье есть что-то призрачное, театральное, что это отчасти сон, отчасти – шутка, но никак не шарлатанство. Там, среди прочих, обитали умные люди, а люди значительные ухитрялись жить скорей тихо, чем со значением. Профессор Йорк Пауэлл, известный историк, являл свету львиную бороду и обманчиво грозные брови, а доктор Тодхантер, известный кельтолог, представлял ирландцев в тамошних спорах о культуре. Наконец, это призрачное место нельзя было назвать поддельным хотя бы потому, что там жил лучший поэт из тех, кто пишет сейчас по-английски. Странно сопоставлять мир, который видит стихотворец, с миром, в котором он живет. Нас поражает, что золотые львы Блейка царственно рычали в закоулке у Стрэнда, а Кэмбервэлл вмещал Сорделло, величавого, словно лев, и загадочного, как сфинкс. И мне занятно думать, что среди игрушечных деревьев и мишурных крыш поселились старинные боги, забытые жрецы, священные чудища и все другие знаки новой геральдики.
Уильям Батлер Йейтс часто кажется одиноким, как орел, но у него было гнездо. Где ирландец, там и семья, и она немало значит. Если читатель хочет это проверить, пусть подумает о том, почему прославленного, а нередко – мрачного поэта называют Уилли Йейтс? Насколько мне известно, никто не говорит, даже за спиной, Джеки Менсфилд или Редди Киплинг. Йейсу такое панибратство подходит не больше, чем автору «Гулливера», – попробуй сказать Джонни Свифт. Его вкусы, склад, темперамент – и на людях, и в ближнем общении – прямо противоположны фамильярности.
Дурак меня другом не назовет,
И я буду пить зачарованный мед
Только с таким, как Донн.
Пишу это отрешенно, просто описываю, не сужу; миру нужны разные люди. Меня называют другом многие дураки и (эта мысль полезней для души) считают дураком многие друзья. Но в Йейтсе такая привередливость не только честна, она благородна. Ее порождает высокий гнев, вызванный победами низости – тот гнев, который побудил его счесть страшную надпись в соборе св. Патрика «лучшей эпитафией на свете». И все-таки немало людей, в том числе – дураков, называют несчастного Йейтса Уилли. Причина этой странности – в том отпечатке, который всегда оставляет ирландская семья. Гордыня и одиночество гения не сотрут из памяти сочетания Уилли, Лили, Лолли и Джек, которое сверкало и сияло в неповторимой комедии ирландских шуток, сплетен, насмешек, семейных ссор и семейной гордости. Тогда, можно сказать, я знал семью в целом и позже неизменно восхищался сестрами поэта, у которых была мастерская, где учили украшать комнаты, достойная великих строк о расшитых одеждах неба. Йейтс, наверное, говорит лучше всех, кого я знаю, если не считать его отца, который, как ни прискорбно, больше не может беседовать в нашем земном кабачке и, надеюсь, беседует в раю. Кроме множества других достоинств, у него было одно очень редкое – полная естественность речи. Слова его не лились, как не льются камни; он мгновенно складывал их, словно строил собор, так же быстро, как складывают карточный домик. Длинная размеренная фраза, окаймленная придаточными предложениями, рождалась мгновенно, и произносил он ее с такой легкостью, с такой простотой, с какими говорят: «А погода ничего» или «Чего только в этих газетах не пишут!» Помню, как этот изящнейший старец говорит между прочим: «У Джозефа Чемберлена лицо, да и нрав хитрой бабы, которая разоряет мужа ради своих прихотей, а у лорда Солсбери – нрав и внешность этого самого мужа». Умение быстро построить сложную фразу свидетельствует о ныне утерянной ясности ума, которую мы находим в самых спонтанных выкриках Джонсона. Позже стали считать, что законченность неестественна, тогда как на самом деле человек просто знает, что он думает, и хочет это выразить. Понять не могу, какой мир нелепицы породил мнение, что искренность неразрывно связана с косноязычием! Теперь полагают, что мы говорим правду, когда не можем облечь ее в слова; что мы особенно честны и блистательны, если посередине фразы не знаем, чем ее закончить. Отсюда и диалоги нынешних комедий, и трогательная вера в то, что говорить можно без конца, благо ни одна фраза толком не кончается.





