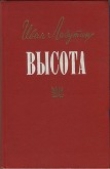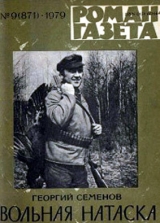
Текст книги "Вольная натаска"
Автор книги: Георгий Семенов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
3
Именно по этой дороге и ходил Коля Бугорков в деревню Лужки в гости к деду. Дед его был знаменит в округе тем, что был четырежды женат и пережил трех своих жен, причем четвертая, последняя жена умерла, а третья, брошенная дедом, осталась в живых. Работал он до сих пор егерем районного общества охотников.
А деревня оживала только летом, когда сюда собирались из районного города и даже из Москвы бывшие жители и новые родственники этих старожилов.
Александру Сергеевичу, как звали старого Бугоркова, жилось здесь неплохо. Во всяком случае, перебираться он никуда не хотел, лучшего и. более тихого места, чем Лужки, отыскать было невозможно. Милиционер приезжал сюда на, своем мотоцикле так редко, что его никто и в лицо-то не помнил. Однажды только пришлось насмотреться на него, когда обокрали бугорковский дом, утащив постельное белье, одеяла и раскладушки, предназначенные для приезжих охотников. «Два поллитра взяли из-под лавки, – подсказывал Бугорков милиционеру, который искал следы преступников. – Купил три, одну выпил и ушел… А они взяли. По три шестьдесят две поллитры». – «Отстань ты со своими поллитрами, – отмахивался от него милиционер. – Не мешай работать». – «А если поймаете, – подсказывал Бугорков, – пусть вернут. Все ж таки деньги. Не самогонка ведь, а купленная. Я ее в сельпо купил. Нюра может подтвердить. В Воздвиженском сельпо, Нюра там работает, она небось знает, что я каждый раз помногу беру, потому как далеко и чтоб не бегать. А гнать я не гоню. Тут уж все по чести. Могу любую клятву».
Милиционер не очень-то церемонился с ним. Он поглядывал на деда с недоверчивым прищуром и как бы невзначай возвращался к одному и тому же вопросу:
«Значит, Александром Сергеевичем зовут… Родственник?»
«Чей?»
«Пушкина. Так вот, гражданин Пушкин, скажи мне откровенно, откуда у тебя такие деньги имеются. Сам говоришь, помногу берешь. А? Откуда на много-то? Может, ты эти одеяла да подушки того?.. А?»
«Отродясь не воровал и… Это можно ведь и жалобу на вас написать, – отвечал дед с обидою. – Прав у тебя таких нету, чтобы честному человеку оскорбления наносить».
«А вот мне, например, известно, гражданин Пушкин, что вы на Новый год кабанчика съели… Отловили для дела, а под праздник съели. Как это расцениваете?»
«Не мы съели, – отвечал Бугорков без прежней уверенности в голосе. – Дело прошлое, но я тут не вмешан. Я объяснения писал, все рассказал, как было. И к этому возвращения обратного не может быть, потому как дело это прошлое. Сами должны понимать».
«Так. Хорошо. Выходит, по-твоему, кабан сам свои окорока съел?»
«Не знаю уж», – отвечал Бугорков, бодливо мотая головой.
«Под Новый год взял и закусил своими окороками?»
«Может, и под Новый. Не помню».
«Не темни!»
«А я и не темню. Чего мне это… Кто-то съел, верно. А не я. – И дед Бугорков разводил руками. – Не я. Ты ж не продашь мотоцикл казенный? – спрашивал он и отвечал: – Не продашь, не дурак. А что ж я, совсем уж?.. Как это можно! Не-ет… Это мой хлеб. Какое уж тут баловство. Мне тут доверие полное. И ты мне не намекай! Молод еще! И к тому ж я не Пушкин, а Бугорков Александр Сергеевич. Вот так! По форме все давай, без этих…»
«Ладно, Бугорков, не обижайся. Но учти, поллитры ты свои забудь. Сам посуди, как это я в официальном протоколе буду писать о поллитрах?»
Был Бугорков сухой и смуглый. Волосы его, навеки примятые зимней шапкой, свалявшиеся, как жесткий матрасный волос, только на лбу грубо курчавились сивым вихром, прикрывая глубокие складки напряженного лба. Черные его брови, не знавшие седины, резко и зло сходились к переносице. Природа наградила его многими внешними признаками злого и жестокого человека. В светло-серых глазах было столько недоброй, звериной пустоты и бездушия, так они следили за каждым, казалось, твоим движением, так скользко уходили от прямого взгляда, что с непривычки можно было черт знает что подумать о нем, о лесном человеке с острым топором за поясом, с которым он почти не расставался. Он неохотно разговаривал с людьми, никогда при, этом не глядел в глаза и лишь изредка вдруг взглядывал из-под хмурых бровей с паучьей какой-то зоркостью и свирепостью, словно бы ты был мухой, запутавшейся в его тенетах.
«Слова, слова, слова… Много их, – говорил он насупленно и зло. – Был намедни в аптеке, таблетки для сердца брал. Вижу коробочку, а на ней написано: „Бодяга“. Что такое бодяга? Трава. А если одну буковку прибавить? Кто по свету белому шляется? Ну-ка сообрази. Бродяга», – и он резко и зорко взглядывал на тебя, как бы делая ядовитый укол.
«Ну и что ж из этого?»
«Одна буковка, а слово совсем меняется».
«Что ж из этого, что меняется?»
«Что из того – не знаю. Не моего ума дело. А наблюдения некоторые имею, хотя и не берусь судить – не учен этому… Возьми ты другое слово – пижма, тоже трава. Ну что бы ты сделал? Какую букву приставил? Тоже загадка. А отгадка простая – пижама. Видал, что получается! – Он опять взглядывал с природной своей и неприятной пристальностью, и, казалось, в глазах у него в этот момент что-то неслышно, но напряженно жужжало. – В газету отнести – денег можно небось заработать. А? Подобрать побольше слов и оформить как полагается. Глядишь, на три бутылки дадут, а? Как думаешь?»
Стыдно было слушать старого этого человека, ломать перед ним дурака, боясь обидеть правдой.
«Я тут одну статейку написал, – говорил между тем Бугорков, рикошетя взглядом по земле. (Мы с ним сидели на пороге терраски.) – Может, отнесете куда-нибудь? Хорошая статейка вышла».
«О чем?»
«О вольной натаске… Про любовь там кое-что. Про жизнь».
«А что это – вольная натаска?».
«Так это я сам термин такой изобрел – вольная. Это когда легавая молодая за птичками гоняется. Другой егерь сразу ее на шнур, а я даю ей вволю набегаться, а когда сама поймет, что не догнать ей птичку, язык на плечо, тут я ее беру на шнур… Много дней, пока сообразит, что к чему. А потом на шнур – и к бекасу. Тут и ставишь стиль. Это собака! Когда вольная натаска, тогда она как огонь. А когда на шнуре, собака затягивается, покоряется, гнать-то не гонит, а стиля нет. Она тебе все сделает, диплом заработает, а все равно когда-нибудь погонит, потому что ей еще не приходилось себя попробовать, она сразу в петлю и в тягло. Пошла! А к хозяину неопытному вернется и погонит обязательно, пропадет. Ёгерь-то опытный удержит, а хозяин нет. Мои же собачки никогда не гоняют. Я поставил собаку, отдал владельцу: пожалуйста, получите удовольствие… Она у меня сама все поняла, нагонялась. В молодости все мы за птичками гоняемся, пока-то настоящую дичь найдешь, покато по ней стойку сделаешь. Вот что получается».
Сам я, признаться, никогда не пытался натаскивать своих собак, хотя теоретически хорошо знал это дело. Но о вольной натаске и слыхом не слыхивал. Я знал, что с легавой нужно много потрудиться, прежде чем она научится ходить челноком. Причуяв дичь, она подойдет к ней на возможно близкое расстояние, волнуя охотника красивой и напряженной потяжкой, и наконец замрет в стойке, поджидая охотника, слыша его, но не в силах даже оглянуться, не в силах шевельнуть хвостом, дрогнуть мускулом… О таких собаках говорят: «Мертво стоит». Но чтобы добиться такой работы, надо отучить собаку от соблазна гонять птицу и обращать внимания на мелких пташек, работать только по красной дичи. В общем, в собаке надо укротить природную страсть, заставить ее остановиться перед дичью. Для этого нужно множество всевозможных тонкостей, о которых я Слышал от опытных натасчиков, хотя сам и не постиг этого искусства… Я даже был уверен, что для натаски собак, как и для укрощения диких зверей, нужен талант, особая какая-то власть над животным…
Но вот о вольной натаске впервые услышал от Бугоркова. Если я его правильно понял, то он делал как раз наоборот, то есть с первого выхода в поле позволял собаке делать все, что угодно, – гонять, носиться как угорелой по болоту, поднимать пташек, а заодно и бекасов – и при этом даже не пытался остановить ее, взять на шнур… Это было явным нарушением всех инструкций и пособий по натаске собак.
Я сказал:
«Такую статью в охотничьем журнале надо печатать».
«Это да… только как бы это сказать… статейка моя особая, ее петь можно».
«Петь? Ах, петь… Стихи, что ли?»
«Нет, не стихи, статейка».
«Ничего не понимаю, а как же ее петь?»
«Петь-то? Как песни поют».
«Ну, значит, слова песни? Да?»
«Может быть, так».
«Значит, стихи… Показали бы, Александр Сергеевич».
«А чего показывать, я ее наизусть знаю. Только петь неохота. – И он грозно посмотрел на меня, увидел мою улыбку, нахмурился и сказал: – Потом когда-нибудь. Музыку подобрать никто не может. А так чего ж получается? Она без музыки как баба без ж… Ох, была у меня баба! Знаешь, как поется: „Полна пазуха сиськов!“… Померла от сердца. Я с ней хорошо жил. Ласковая была и выпить со мной любила. Во какая! Сама принесет, скатерку постелет, лучку нарежет: чистенькая, аккуратная. „Ну, – говорит, – Александр Сергеевич, милости просим“. Ах, жалко мне ее! Мало, мы с ней пожили. Птичек гонял! А красную дичь не чуял».
И Бугорков ронял голову на грудь. Он это делал так естественно и выразительно, что казалось, сам не замечал момента, когда голова его как подкошенная падала, упираясь в грудь подбородком. Словно бы что-то вроде обморока или какое-то мгновенное расслабление поражало вдруг его, и чудилось, будто не только голова, но и сам он весь как бы опадал вдруг: плечи падали, руки – не было злого и насупленного сивого мужика, а сидел передо мной горбатый, разбитый жизнью немощный дедушка, эдакий старенький тряпичный арлекин в резиновых литых сапогах и рубашке с измятым, скрючившимся, пропотевшим, грязным воротником над морщинистым загривком.
Я клал руку на его теплое костистое плечо, а он тихонечко трясся. Это был редкой чувствительности человек.
Речка Тополта течет поблизости от Лужков. Хрящеватое черное донышко, по которому скользит прозрачная ее вода, рябит поверхность, и чудится, будто река аспидной струей, прыгает по камням, будто это заблудившаяся в березовых рощах горянка, занесшая сюда горячий нрав предков. Битком набитая почерневшими от тины камнями, скользит она среди березовых перелесков, дубняков, стиснутая сухими берегами, поросшими бессмертником, лиловым вереском и можжевельником.
Но за недальним крутым изгибом уже не узнать речку Тополту. Высоко поднимаются над ней берега, густо заросшие мелким дубом. А сама река светлеет на песчаном донышке, и вода ее словно бы становится теплее. Смутно просматривается сквозь ровно и плавно движущиеся пласты воды золотистый песок.
Многолика и непостоянна Тополта! Не знаешь, что увидишь за следующим ее изгибом, чем поразит тебя своенравная красавица, в какой оденется наряд. – То она течет спокойно и плавно, затаиваясь под нависшими кустами ивняка, зеленея омутами и тихими плесами. То вдруг раздробится на мельчайшие, сверкающие под солнцем осколки, шумно и торопливо побежит по мелким перекатам. То на ее пути встанет плоский островок, поросший нежно-зеленой травой, и река лениво разольется вширь, подмывая крутой лесистый и высокий берег, такой высокий, что чудится, будто река течет в горном ущелье, в вечных его сумерках и холодной сырости. Змеистые корни обреченных дубов в застывших судорожных изгибах повисли над водой. Темные стволы погибших, уйдя вершинами под воду, навеки легли в реку, вздыбив кричащие руки мертвых корней.
Место это называется Бурчало. Река здесь, напарываясь на островок, и в самом деле бурчит. Струи ее несут стремительные водоворотики, вспучиваются вдруг глубинными силами, образуя стеклянные наплывы, проносящиеся мимо, разбегающиеся какие-то воронки, гряды, жгуты. Отчаянно бьется, мешает в этом бегущем кипятке черная ветка упавшего когда-то дерева, и что-то механическое видится в ее равномерных взмахах.
На берегах Тополты испокон веков селились люди, сеяли хлеб, строили мельницы. Воздвиженское – большое село с массивной каменной церковью, со старым кладбищем, с единственным на все кладбище надгробием из черного Лабрадора с высеченной в камне надписью: «Здесь покоится прах священника Окулова с детьми». Это вот «с детьми» всегда смущает людей. Как это так, «с детьми»? Воображение рисует печальные картины, «дети» понимаются буквально – маленькие, пухленькие, пушистые, которые легли в землю вместе ср своим батюшкой. Старухи крестятся и кланяются этому камню, хотя ни одна из них не знала священника Окулова, молод он был или стар, какие проповеди читал своим прихожанам, овцам господним.
Теперь село Воздвиженское пахнет техникой и соляркой, гремит моторами мощных ЗИЛов, а в церкви с погнутым крестом разместился колхозный склад, есть кладовщик, весы и набитые зерном серые мешки. Не ладаном тут уже пахнет, а холодным камнем и хлебом, а на колокольне гнездятся крикливые галки.
Воздвиженское стоит на большой дороге. Иное дело Лужки. Там даже улица заросла жилистой подорожной травой, одичали яблони, а огороды частенько желтеют по весне сплошной сурепкой, словно бы ее тут специально посеяли для какой-то корысти. Зимуют в Лужках всего лишь семь человек: Бугорков и шесть старух пенсионерок. Одна из них слывет богатой и жадной, потому как пенсию свою не тратит, кроме как на хлеб, соль да на растительное масло – круглый год ест одну только тюрю, благо лук всегда хорошо родится в Лужках. Яички и те она носит на продажу. А коров в Лужках давно уже не держат, есть десяток серебристо-черных красивых коз с задумчивыми карими глазами и один крутолобый козел, принадлежащий Бугоркову и прозываемый им не иначе как дураком.
Бугорков сам испытывал его на сообразительность и убедился, что козел его дурак, зато козочка умница. Он привязывал их возле пруда на длинных веревках, а сам лежал на бережочке, любуясь тонкой мордочкой козы, ее чуткими губами, которыми она аккуратненько щипала сочную травку. Козел же ходил поодаль на привязи и блеял грубым басом. Был он грязно-песочного цвета, сильный и злой, как дикий кабан, и глаза у него были похожи цветом на снятое молоко, а черные зрачки – на дохлых плавающих мух.
«Чего орешь, дурак? – лениво спрашивал Бугорков. – По рогам-то у меня получишь, быдло мордатое. Чего тебе надо? Ивушки захотел? Мужик – он всегда погорчее чего да покислее любит. Ну что, морда? Дать ивушки?» Бугорков ломал ветки с сочными молодыми листьями. Козел быстро обгладывал лакомые побеги, выдергивая их из рук. Бугорков же сильно хлестал его голым прутом по морде. Тот пускался наутек, тащил за собой веревку, которая всей своей длиной гладила траву, словно бы каким-то серебряным серпом подкашивая ее. Начинались любимые опыты Бугоркова: козел останавливался, старик манил его зеленой веточкой, тот подходил и без опаски рвал ветку из рук, за что получал резкий удар прутом и убегал, чтобы тут же вернуться, забыв о побоях.
Таким вот эмпирическим путем Бугорков пришел к выводу, что козел у него дурак, а козочка умница, потому что, получив однажды прутом по морде, она уже не подходила, как ни манил ее хозяин. Козел же. предпочитал быть избитым, лишь бы полакомиться горькими и вяжущими листочками, нежной корой молодой веточки. Бугорков сделал из этого опыта далеко идущие выводы, о чем, впрочем, не любил распространяться.
Но все свои козлиные обязанности дурак этот исполнял отменно, за что и кормил его Бугорков долгую зиму и весну.
Была у него еще гончая собака Найда, с которой он гонял зайцев и лисиц. Но она почти всю свою жизнь сидела на цепи, и вспоминал о ней Бугорков только поздней осенью, когда открывалась охота на зайцев, – вот тогда-то он и любил ее, и ласкал, и подкармливал. Летом же это было самое несчастное существо, заедаемое мухами, блохами и комарами. Собака порой выходила из конуры, смотрела на людей слезящимися глазами, зевала со скулежом и снова пряталась во тьме, вонючей конуры в ожидании нескорой еще зимы. Она, наверное, ненавидела лето и боялась его, как тюрьмы.
Зимой Лужки засыпало снегом, и никаких дорог сюда не было. Старушки безвылазно жили в своих избах, а по вечерам ходили к «богачке» играть по полкопейки в истрепанное, чудом сохранившееся с незапамятных времен лото. Они так привыкли к этой игре, так любили выигрывать копейки, что, если бы вдруг у них не стало этого лото, они бы очень и очень горевали. Они берегли его, как святую икону, и чуть ли не молились на истрепанные, почерневшие листы и бренчащие деревянные бочоночки в холщовом мешочке. «Двадцать три – нос утри! – тихо выкрикивала какая-нибудь старушка. – Восемь – сено косим!» А другие напряженно молчали, подслеповато вглядываясь в черные цифры на картах, накрывали их всякими щепочками, картоночками или подсолнышками, пока одна из них не вскрикивала молодо-весело: «Окончила на нижней!.. Давайте-ка сюда богатство мое, давайте!» Все сокрушались по этому поводу, очень переживали свои неудачи, особенно если выигрывала «богачка». И лишь когда удача выпадала на долю почти ослепшей старушки, которая тоже принимала участие в игре, хотя следили за ее картами все вместе, бывали довольны и шумно поздравляли свою подругу, а та розовела лицом и улыбалась смущенно. Иногда же по молчаливому согласию друг с другом они нарочно проигрывали ей, особенно если слишком уж долго не везло в игре бедной слепушке.
Бугорков все эти копеечные игры презирал и занимался в холодное время года – с осени и до весны – охотой и рыбной ловлей. Всегда в его доме зимой стояли где-нибудь в уголочке правильцы с натянутой заячьей шкуркой наружу желтой подсыхающей мездрой с кровавенькими дырочками от дроби.
Зато когда наступали теплые дни, когда прогретая земля зарастала молодой травой, а из скворечника уже высовывались желторотые птенцы, жизнь его круто менялась: приезжали внуки и внучки, дочери с мужьями и, конечно, старший внучек от старшего сына, то есть от первой, умершей давно жены, любезный его сердцу Николашка, Николенька, который, как казалось Бугоркову, унаследовал лучшие черты дедовского характера, хотя отец и был непутевым, болезненным мужиком, не прожившим на свете и пятидесяти годов и умершим «на нервной почве», потому что он сразу же после войны поступил в Московский экономический институт, работал плановиком в книжном издательстве и, конечно, надорвался, ибо не его это было дело – жить в суматошной Москве да еще планировать издания всяких книг, которых отродясь не было в доме старого Бугоркова. А вот Николашка ужился на гнилых отцовских корнях, пустил свои и не только не чурался деревенского рода, как его покойный отец, а, наоборот, гордился им и деда своего любил – любил слушать его рассказы о прошлом, о своей прабабке – дворовой девке, которая прижила от помещика Самсонова ребенка, похожего на кучерявенького цыганчика со светленькими глазками, окрещенного Сергеем. От него пошли потом такие же смуглые и сухопарые дети, а среди них и Саша, Александр Сергеевич Бугорков собственной персоной, которому суждено было пережить братьев и сестер. Имена у них у всех были не простые, не крестьянские – Петр, Алексей, Николай, – что по тем временам было редкостью. Видно, не только Самсонова Гелыцала миловидная в молодости прародительница, но и батюшка тоже благоволил к ней, выбирая для ее отпрысков красивые имена в святцах.
«От дворянина я родом и от дворовой девки, – говорил Бугорков в минуты душевного разлада, когда ничто не радовало его в жизни и оставалось только это сомнительное утешеньице. – У меня, может, от этого душа горит, я, может, оттого и пью, что наш род от барского баловства на свет появился, от разврата его. Поганая кровь течет в моих жилах, оттого я и развязный такой делаюсь… Я с малолетства такой развязный был! Мог на спор в ледяной воде искупаться или с крыши спрыгнуть, аж с самого конька. Думаю, что в роду моем какие-нибудь гусары были, не иначе… Уж очень я подраться любил в молодости. И ловкий был в драке. В тебе-то этой крови барской вовсе не осталось, – говорил он внуку. – Ты вон и цветом не очень темен, и характер у тебя добрый. Это хорошо, С моим характером только коз пасти или зайцев гонять, а ты молодец – усидчивый».
«А что, дед, значит, можно сказать, мы не Бугорковы? – спрашивал его внук, глядя с затаенным обожанием ему в глаза. – Можно сказать, мы Самсоновы?»
«Вполне, – соглашался с ним Бугорков в такие минуты. – Но не надо! Чем, по-твоему, дворовая девушка хуже дворянина? Она ведь за простого мужика, за Бугоркова была отдана с дитем, вот и не надо нам другой фамилии. Не надо! Вот ты человек взрослый, вот я тебе скажу – ты небось заметил одну слабину во мне: уж очень горяч я в любви к бабам… А зачем мне это? Я и не хочу этого вовсе. Любовь эта не для нас. Нам от любви-то одна беда. А я вроде бы всю свою жизнь на это угробил. Для чего, спрашивается? Вот она где, самсоновская-то кровь поганая! Всю жизнь мою травит. Другому и горя мало, махнул рукой на бабу – и забыл про нее, а я, Николка, уважаю женщин… Вот какое неудобство вышло в жизни. А женщины, думаешь, не понимают этого? Как еще понимают! Ты сам-то хоть любишь кого-нибудь?»
«Люблю, дед!» – отвечал ему Коля Бугорков с улыбкой, представляя себе сразу же Верочку Воркуеву.
А дед глядел на него печально и отворачивался, выдыхая чуть слышные слова: «Ох, беда, беда…»
От второй жены приезжала к нему из Топольска дочь с маленькой девочкой, черненькой и игривой насмешницей Танечкой. Все перетряхивала в избе, стирала, мыла полы, терла стены можжевельником, морила клопов, ворчала на отца и на Танюшку и только дня через три успокаивалась и целыми днями пропадала на огороде.
В доме Бугоркова под дощатым медно-красным потолком крыльца жили осы в сером грушевидном мешочке, похожем на груду бумажного пепла, из которого вырывались вдруг полосатые тигрята и улетали куда-то. Вечно в этом пепле зудело летучее семейство, и звук всегда стоял такой же пронзительно-тихий, какой бывает, когда перегорает электрическая лампочка. Казалось, что там тоже было нечто похожее на раскаленный вольфрамовый волосок, в этом пепле.
Когда-то Бугорков пытался разорять гнездо, но, кроме неприятностей и злых укусов, ничего не добился – осы опять строили себе гнездо – и с некоторых пор поддерживал с ними нейтралитет. Но все-таки иной раз какая-нибудь неосторожная обнаглевшая оса кусала внучку, которая очень пугалась и молча бежала домой с ужасом и страшной обидой в глазах, а дома. взрывалась воплем слезного плача, жалуясь во весь голос на полосатую вражину. Особенно много и часто кусали ее возле колодца, где всегда была влажная земля и куда осы, видимо, прилетали в жару на водопой. А внучка босая ходила туда играть в сыром песочке и наступала на кусачку.
Тогда Бугорков тоже убивал в знак протеста двух или трех заложниц, вечно ползающих и жужжащих в верхней двойной раме окна, и клал их скорчившиеся тельца на перильце, чтобы другие осы видели его месть и помнили о его силе. Да и внучку свою успокаивал таким необычным способом: она тут же умолкала и даже улыбалась от внезапного удовольствия, видя дохлые тельца лимонно-черных красавиц.
Летом, когда в деревню приезжало много нарядной молодежи, Бугорков жил отчужденно от людей, понимая себя безнадежно состарившимся, а потому и никому не интересным человеком; сторонился молодых людей, не желая быть им в тягость, боясь напомнить лишний раз и самому себе о своей необратимой и глухой старости, да и людей молодых хотел освободить от лишних раздумий на этот счет, хотя по давнему своему опыту знал, что молодежь редко задумывается о старости. И как это ни странно, совсем переставал напиваться пьяным. Так ему, видимо, приятнее было жить, сохраняя в себе, как ему казалось, свою никому не ведомую молодость и молодую жажду жизни, которую он еще не утолил и которая с годами как будто бы стала сильнее мучить своей внезапной и резкой тоской по быстротечности жизни.
В минуты этой тоски он дряхлел душою, становился молчаливым и злым и его тянуло прочь от людей, словно бы где-то за неведомым изгибом Тополты, за ее высокими песчаными берегами далеко от дома он наконец-то увидит что-то такое, чего еще не успел увидеть, не успел удивиться чему-то небывалому. И в протяженной этой, долгой и вечной, как жизнь, мечте он садился где-нибудь под кустом на теплый песочек, смотрел, как крутит вода на бурчале, как режет реку упрямый островок; разглядывал парящего коршуна в жарком бесцветном небе, его раздвоенный длинный хвост, клекот его слышал; видел синие вспышки пролетающих над водой кургузых зимородков, вспоминал красивых и сильных голавлей, которых он ловил здесь когда-то на стрекозу, и как жестко упирались они в придонной воде, и как гнулось удилище и ходила натянутая леска, а он сидел тогда, совсем еще нестарый, на поваленном дубе, опустив голые ноги в. струи теплой воды, и знал, что этот голавль не последний и тот, который попадется завтра на крючок, тоже далеко не последний… Теперь их мало осталось в Тополте.
Ходила об этой реке легенда, что под песчаным ее дном хранятся несметные богатства – тысячи кубометров древнего мореного дуба, достать который стоит огромных денег, и, что-де американцы предлагали, очистить дно реки, да наши не согласились, потому что, может быть, и у нас когда-нибудь найдется время и деньги и придет острая нужда в мореном дубе: вот тогда и вспомним о Тополте. Бугорков знал и верил в эту легенду, вполне одобряя решение наших властей.
«А что, Николаша, хорошая у тебя девушка?»
«Замечательная, дед! Лучше не бывает…»
«Ох, беда, беда! Не живут они с нами, Николашка. Вот беда так беда! Самсоновская кровь поганая губит нас своим развратом. Ты с ней поласковее будь… Не очень-то притесняй».
«Что ты, дедушка! Я люблю ее по-настоящему».
«Беда с тобой, Николашка, беда…»