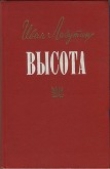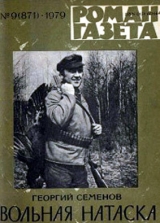
Текст книги "Вольная натаска"
Автор книги: Георгий Семенов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Несколько слов о себе

Родился я 12 января 1931 года в Москве, в старой московской семье. У моего деда по отцу на Москве-реке в районе нынешнего Большого Каменного моста стояла лодка, с которой он ловил язей и плотву в чистой и рыбной тогда реке.
У деда по матери была большая библиотека, и с детства я много, хотя и бессистемно, читал.
В сорок первом мы жили в эвакуации на Урале. Жили в деревне. Таким образом, мои самые пытливые мальчишеские годы прошли в заботах и радостях деревенских. Работа на земле и свет пламени за дырявой заслонкой печи – все это вошло в кровь мою и плоть.
Потом, после окончания седьмого класса, уже в Москве, я поступил в Московское Высшее Художественно-промышленное училище (б. Строгановское) и, окончив его, уехал на строительство города Ангарска. Работал лепщиком, мастером декоративной скульптуры – украшал фасады домов. Проработал шесть лет, сначала в Ангарске, а потом в Москве, прежде чем поступил в Литературный институт имени Горького.
Не знаю, как, какими путями пришел я к писательству – так уж вышло. В детстве рисовал карандашами, писал. красками, потом лепил из глины, потом пел, но ни скульптором, ни живописцем, ни певцом я не стал. А стал ли писателем – судить не мне.
Автор
Вслед за Тополтой-рекой…
…Мне кажется, я знаю, представляю достаточно ясно, – при самом общем взгляде, конечно, – как писалась эта книга. Вынужден оговариваться потому, что совершенно точно этого знать нельзя, досконально это не дано проследить, думаю, даже и самому автору, как бы внимательно ни пытался он отыскать в своей памяти начальные истоки замысла. Зрея в нем, в его творческих недрах, это до поры до времени происходит как бы помимо него, помимо его сознания и воли, способных фиксировать этот процесс, это движение, и выказывается после какой-то (у одного больше, у другого меньше) стадии беспокойства, неуверенности, неопределенной и тяжкой зависимости от чего-то, что никак не удается ухватить ни мыслью, ни чувством. Но вот в один чудесный момент вдруг выказалось, открылось, – как речка Тополта, действующая в этой книге и набравшая сил, чтобы выйти из-под земли, – открылось на удивление и счастье истомившемуся писателю, и с чем захватило его это неожиданно явившееся движение, с тем и отправился он в долгий и трудный путь.
Тополта, речка Тополта… Но почему Тополта, откуда столь странное название и что оно означает?.. Вопрос этот, энергично возникнув, тут же, еще не прозвучав до конца, ослабевает и не требует ответа: Тополта, как не зависимая ни от чего реальность уже живет, течет, а не утопла, не ушла обратно в землю, мало-помалу она начинает позванивать в наших ушах кое-где на камушках, и мы, покоренные, наклоняемся над нею, чтобы зачерпнуть воды. Мы не только смирились, мы любим ее и готовы сколько угодно идти вдоль ее берегов, веря и в красоту, и в половодье, и в счастливую, полезную для людей судьбу и опасаясь в то же время, чтобы в сложный наш век не случилось с нею ничего нехорошего – например, не задумал бы какой родившийся подле нее умник, возымев Силу и власть, повернуть ее вспять.
Внимательный читатель сразу же заметит, что книга начинается без особой заботы о своей строгости, и, вместо того, чтобы кратчайшей дорогой, рекомендуя по пути, как это принято, своих героев, выбраться на открытое место, где развернутся ее основные события, – она с первых же шагов и с первых же строк круто забирает в сторону. Ну, предположим, начинать можно и не с Верочки Воркуевой, можно и с ее родителей, коли она главная героиня и корни ее нелегкого характера проследить не повредит, но зачем же сразу так много и так наизнанку Верочкиного отца, Олега Петровича? Ведь неплохой же в конце концов человек, хороший даже человек, а тяжесть и неловкое чувство от знакомства остаются… И даже когда автор выводит наконец на сцену Верочку Воркуеву и Колю Бугоркова, то, странно даже, начинает почему-то с «пикового» положения, в котором они по неопытности оказались, как будто не было у них до того ничего более подходящего для знакомства с читателем. Но и в этом щекотливом положении герои словно бы поменялись местами и ведут себя, надо сказать, без видимой сообразности с обстоятельствами логики. Не дав и в самой малой степени разобраться, к чему он клонит, автор снова размашистым жестом забрасывает действие далеко в сторону, сведя нас на этот раз с дедом Коли Бугоркова – Александром Сергеичем…
Да, но тут, поблизости от Лужков, где проживает старый Бугорков, течет Тополта…
«…Хрящеватое черное донышко, по которому скользит прозрачная ее вода, рябит поверхность, и чудится, будто река аспидной струей прыгает по камням, будто это заблудившаяся в березовых рощах горянка, занесшая сюда горячий нрав предков. Битком набитая почерневшими от тины камнями, скользит она среди березовых перелесков, дубняков, стиснутая сухими берегами, поросшими бессмертником, лиловым вереском и можжевельником.
Но за недальним крутым изгибом, уже не узнать речку Тополту. Высоко поднимаются над ней берега, густо заросшие мелким дубом. А сама река светлеет на песчаном донышке, и вода ее словно бы становится теплее. Смутно просматривается сквозь ровно и плавно движущиеся пласты воды золотистый песок».
Не напрасно, надо думать, вскоре прибудет сюда, на берега Тополты, автор, а затем соберет здесь волшебной властью, чтобы не быть вдали от них, своих героев. Счастливые наступят тут для Верочки Воркуевой и Коли Бугоркова дни, но то будет разное и розное счастье, счастье прозрения и одиночества, вещего понимания, что никому не миновать своей судьбы, и его, это счастье, в первую очередь откроет им Тополта, ее вольная и безбрежная вечная красота.
«Многолика и непостоянна Тополта! Не знаешь, что увидишь за следующим ее изгибом, чем поразит тебя своенравная красавица, в какой оденется наряд. То она течет спокойно и плавно, затаиваясь под нависшими кустами ивняка, зеленея омутами и тихими плесами. То вдруг раздробится на мельчайшие, сверкающие под солнцем осколки, шумно и торопливо побежит по мелким перекатам. То на ее пути встанет плоский островок, поросший нежно-зеленой травой, и река лениво разольется вширь, подмывая крутой лесистый и высокий берег, такой высокий, что чудится, будто река течет в горном ущелье, в вечных его сумерках и холодной сырости…»
Приведя не без умысла из книги эти картины, эти описания любимой автором Тополты, я готов перейти к прямому сравнению: течение повествования напоминает мне течение реки с ее сложной, глубинной и до конца не разгаданной жизнью. И как река в истоке своем, выйдя на поверхность, на наши глаза, не является вдруг, из ничего, так и книга, открываясь, есть уже продолжение – и продолжение авторской мыслительной и чувственной работы, и продолжение жизни ее героев, и продолжение нашего восприятия искусства и окружающего мира. Границы книги гораздо шире ее начала и конца; она есть лишь обозримое, высвеченное пространство в ряду других пространств, и только тогда она, очевидно, может считаться принадлежностью искусства, когда этот свет не резок и не фальшив, когда наблюдению не мешает, а помогает то, что называется творческой индивидуальностью автора, и когда, миновав это пространство, читатель выходит душевно обновленным и обеспокоенным: что я и зачем я?
Искусство, давно и очень точно замечено, проистекает из природы – и как кстати здесь это слово «проистекает».
Неровно и, кажется, даже неуверенно начинается повествование этой книги. Если продолжить сравнение с рекой – то углубится в бочажину, то отвернет в сторону, то незаметными, потайными ходами, скрыв течение, перекинется далеко вперед. Но как нет ничего ошибочного в движении реки, так и здесь: когда выправляется и набирает силу рассказ, понимаешь, что ничего не писалось напрасно, и если каждый поворот мысли и каждый событийный ход заранее не намечался и не выверялся, а был очевидным следующим толчком в общем движении, то ни один толчок не оказывался зряшным. В литературе вообще не может быть напрасно сказанного слова, если это истинное слово, и в какие бы глубины и в какие бы высоты оно ни возносилось, мы готовы следовать за ним с восторгом. Река, поворачивая то вправо, то влево, ищет и вымывает из земли необходимые ей соли; книга, выбирая загадочные, ведомые одному автору пути, преследует ту же цель обогащения и наполнения – и когда это происходит, когда повествование, окрепнув, выходит на простор, где героям вольно, забыв обо всем на свете, подолгу скрадывать глухаря или рассуждать о натаске охотничьей собаки (книга не зря называется «Вольная натаска», в этих рассуждениях и мечтаниях старого Бугоркова, подведенных жирной чертой окончательного их результата, глубокий смысл) – тогда повествование, успевшее до того доказать свою естественность и правомерность, не вызывает в нас уже сомнения ни в чем. Оно словно бы выходит даже из-под власти творца, которому остается лишь надзирать, чтобы в низких, удобных для разлива местах оно не выплескивалось из берегов, и автор, продолжая время от времени выступать в качестве активно действующего героя, поддерживает тем самым в нас это впечатление: книга идет своим путем, не подготовленным загодя, а избираемым естественным ходом художественного развития и реального бытования затронутых в ней вещей.
В самом деле, почему все без исключения герои в книге без определенно-правильного положительного или отрицательного лица?
Потому что такие они и есть, такими живут рядом с нами.
Почему Верочка Воркуева на протяжении всей книги позволяет себе странные поступки? Почему Коля Бугорков написан так, что своей безудержной откровенностью и духовной обнаженностью нередко вызывает в пас отвращение? Почему без всякой видимой причины так изменился в конце Верочкин муж?
Такова жизнь, естественный и загадочный ее ход; таков человеческий характер, в просторах, глубинах и бурях которого даже самая лучшая литература напоминает, порой лишь игрушечный бумажный кораблик…
Доказательством жизни является сама жизнь, и доказательством литературы является литература. И когда происходит встреча с настоящей литературой, замирает, мне кажется, удивленно и настороженно жизнь вокруг нас, любопытствуя не без тревоги: что там, в книге, пак я выгляжу в глазах этого человека?.
На сей раз этот человек – добрый и проницательный художник, давно любимый серьезным, читателем, не склонный преувеличивать или преуменьшать сложность нашего бытия…
ВАЛЕНТИН РАСПУТИНписатель, лауреат Государственной премии СССР
Георгий Семенов
ВОЛЬНАЯ НАТАСКА
Роман
1
Отец Верочки Воркуевой воевал. Чудом выжил после тяжелого ранения в живот. Порванный кишечник был укорочен в результате сложной, трехчасовой операции, остатки сшили, спрятали в брюшной полости, погрузили в кровоточащий теплый мрак и, уповая на молодые силы раненого, на счастье, на везение, оставили на животе бугристый кровавый шрам, идущий от левого подреберья к пупку и опять влево к паху. Шрам этот на веки вечные смял, исковеркал живот, поражая теперь грубостью своей и неестественностью: трудно было поверить, что седеющий и весь какой-то мягкий на вид, ласковый сероглазый человек мог когда-то вынести страшный удар раскаленного осколка, а потом не менее страшную и почти безнадежную в полевых условиях операцию, после которой он все-таки выжил, хотя и мало кто из «животников» вставал после такой раны.
Олег Петрович Воркуев, толстый Олежка, в детстве своем, отваливаясь от стола, как от высосанной груди, похлопывал себя по набитому кашей животу и, на радость бабушке, бездумно приговаривал услышанную от бабушки же нелепейшую чертовщинку: «Пузо лопнет – наплевать, под рубахой не видать».
В медсанбате, не теряя ни на секунду сознания, он с каким-то потусторонним удивлением и холодом вспомнил вдруг детскую эту приговорочку и, терпя жуткие муки, недвижимый и, можно сказать, обреченный, затвердил в своем сознании странным образом бодрящую его дикость.
Ему тогда шел двадцать четвертый год, а было это в конце зимы сорок третьего. Врачи говорили, что он остался в живых только лишь потому, что не ел двое суток до того страшного момента, когда рядом с ним разорвался снаряд, – был голоден и зол. Иначе косточки его давно бы уже почернели, скалясь под землей белозубой молодостью.
Теперь ему пятьдесят шесть: он называет себя стариком, у него растет внук, и он без ума от него, от этого нового, другого Олежки, названного так в честь деда, то есть в его честь. В нем он видит бессмертие свое, хотя в тайной этой надежде боится признаться даже самому себе.
Воркуев, как и все фронтовики, хлебнувшие окопного горя, особо чтил праздник Победы. Отец казался дочери смешным и нелепым, когда в День Победы надевал старенький свой китель, который и теперь ему впору, и торжественно нес на груди к Большому театру орден Отечественной войны, цветные колодки позвякивающих медалей, среди которых одна была боевая – «За отвагу», и потускневшие, блеклые нашивки за ранения – две красные и одна желтая.
Мало кто теперь помнит, а молодые и вовсе не знают, эти немые вскрики былой боли, былого страха и надежд, тряпичные эти символы на груди изувеченных людей: желтая – кость, красная – кровь… Цвет жизни и короткой передышки или проклятья госпитальной полуголодной жизни. И цвет костлявых объятий смерти, из которых вырвался человек.
Верочка Воркуева никогда, конечно, не посмела бы высказать свое недоумение: зачем все это?! Но ей, родившейся в сорок шестом, «папочка» казался в эти дни эдаким большим ребенком, забывавшим про свои годы. «Папочка, а может, ты наденешь просто костюм? Как бы твой китель не рассыпался от ветхости. Все ведь приходят в костюмах…» И чтобы он не обиделся, гладила его седеющие волосы, зная наперед, что «папочка» угрюмо отмолчится и весь день будет ходить в кителе, а вечером, когда соберутся его друзья, он выпьет и будет обязательно рассказывать о войне и своем ранении в живот…
Пьянел Воркуев быстро и недобро: у него набухали и краснели веки, кожа на лице дубела, он очень возбуждался, и в доме, когда уходили гости, наступала тревожная и бранчливая, с угрозами и слезами, проклятая бессонная ночь, после которой отец всегда каялся перед матерью – худенькой маленькой женщиной, никогда не попрекавшей мужа за редкие вспышки мутной страсти, за ту брань, после которой, казалось бы, надо немедленно, ни минуты не раздумывая, уходить от мужчины, позволившего себе так распуститься, довести себя до пьяной истерики.
Но Анастасия Сергеевна Воркуева с распухшими от слез глазами утром с грустью смотрела на мужа, гладила его и с состраданием спрашивала: «Ты хоть помнишь, что ты мне говорил? Как ты обзывал меня? Ты помнишь, ты говорил мне, что я тебе загубила жизнь, что я безлика и глупа, как кафельная плитка… Ты хоть помнишь? И все это при дочери…»
«Я подлец, – соглашался с ней измученный, больной Воркуев. – Я ничтожество, подонок… Но, Настенька, милая, не верь… Это не я. Это не я тебе говорил, нет! Ты теперь не прощай меня, ты меня побей, пожалуйста, ударь изо всех сил, а потом все-таки прости, а? Настенька, прости. Ладно? Простишь? Поцелуй меня, и я подпрыгну до потолка…»
«Ну вот еще! – с горькой улыбкой говорила сострадательная Анастасия Сергеевна. – За что же тебя целовать? Тоже мне Аника-воин!»
А он целовал ее руку, прижимал к губам, щеке, не отпуская.
«От тебя перегаром пахнет! – говорила Анастасия Сергеевна. – Иди хоть умойся. Под глазами мешки, господи… Голова-то болит?»
Он и у дочери тоже просил прощенья, и чем старше она становилась, тем сильнее чувствовал свою вину перед ней, тем больше мучила его совесть.
«Ну-у, папочка! – говорила она ему. – Я тебя такого еще и не видела. Устроил праздничек!»
Но злости тоже не было у нее в душе.
«Перепил, доченька, – говорил он ей виновато. – Я ведь не знаю нормы… Мне все время кажется, что с каждой рюмкой, с каждым глотком я становлюсь мудрее и вот-вот приближусь к истине».
«Самая большая мудрость для тебя – не пить совсем, – говорила ему Верочка. – Зачем ты пьешь, если знаешь, что это кончается дебошем? Ну зачем? Мама всю ночь плакала от обиды, я тоже еле жива, а на тебя просто смотреть страшно. Зачем ты это делаешь?»
«Не знаю, Верочка, – искренне признавался ей отец. – Я ведь и так очень редко пью, можно сказать, совсем не пью… Не умею, наверно. Вот и результат».
«Вот и не пей никогда! – говорила ему дочь, очень жалея в эти минуты отца. – Не будешь пить, да? Если ты вообще ничего не помнишь наутро, значит, тебе никак нельзя пить».
«Не буду больше, – обещал ей отец. – Никогда!»
И в самом деле не пил, а если и приходилось в гостях или на праздники, то никогда не терял рассудка: бывал веселым и остроумным и очень нравился женщинам.
Но… наступало 9 мая, и Олег Петрович Воркуев забывал о своем обещании.
Еще накануне он нервничал, был мрачен, раздражителен, ходил по магазинам, стоял в очередях, приносил закуски и водку.
Анастасия Сергеевна покорно исполняла его нетерпеливые, капризные просьбы, а он, как будто у него отрастали какие-то черные крылья, как будто бы в него вселялась восторженная и ликующая Ника, не находил себе места, много курил, был глух и слеп; то вдруг обнимал жену, целовал ее в щеку; то замыкался и долго пребывал в сером каком-то оцепенении. Можно было подумать, что в эти минуты он полон трагических воспоминаний, но это было не так. В эти минуты он чувствовал себя самым одиноким человеком на земле, покинутым всеми и забытым – его оставляли силы, как перед атакой, когда тоже чувствуешь себя совсем одиноким, в последние минуты перед неизбежностью, когда думаешь, что у тебя не найдется сил подняться и кинуться вперед. И словно бы нет никого рядом, кто бы мог понять тебя… Все уже обговорено: «Слушай, пойдем вместе, если тебя, я не брошу, а ты тоже… Давай держаться поблизости…» Договаривались, хотя и знали, что этого нельзя делать, знали, что нельзя отстать в атаке – никак нельзя! Если, конечно, ты цел, и ноги несут тебя, и земля принимает тебя живого, упавшего на нее, прижавшегося к ней, чтобы снова подняться и метнуться дальше. Говорят, атака пьянит. Олег Петрович Воркуев придерживался на этот счет другого мнения. Да, конечно, можно не помнить многого из того, что только что было, или даже не понять, как оказался ты здесь, на новом месте, если атака. была успешной и бой был выигран. Но это не хмельное беспамятство. Это что-то совсем другое, чего никак не смог бы назвать и объяснить, рассказать сам Воркуев. Словно бы включался какой-то резервный механизм, неподвластный сознанию, срабатывало какое-то реле и все происходило совсем не так, как предполагал Воркуев: словно бы его несли какие-то черные крылья, словно бы с каждым прыжком, с каждым броском на землю злой этот и хитрый торжествующий гений, изгоняющий страх, выключающий робкое сознание, подводил его к истине, которую Воркуев понимал как полное бесстрашие перед смертью, на которое не способен слабый разум… «Просто инстинкт срабатывал, – говорил Воркуев. – Какие там крылья, гений торжествующий… Черт его знает, как все получалось. Сначала страшно, но особенно потом. Я потом, когда сознание возвращалось, очень боялся, трясло меня как в лихорадке… Как девушку какую-нибудь целуешь, целуешь, а тебя дрожь уже бьет, словно прозяб до костей. Так и там. Со смертью нацелуешься и дрожишь… ни она тебя, ни ты ее». И он с каким-то непривычным цинизмом в глазах и в голосе дробко похохатывал…
Пьянеть Воркуев начинал после первой же рюмки. Он старался не смотреть в сторону жены и дочери, говорил только с мужчинами, заставляя их слушать себя. Говорил всегда одно и то же, пьянея с катастрофической быстротой.
Чем старше становилась Верочка, тем чаще она думала, что отцу в такие минуты и не нужны были слушатели. Он как будто бы молодел. и, уже ничем не связанный с нынешним миром, С праздничным столом, мерз опять апрельским холодным утром со своим товарищем, корректируя с лесистой высотки огонь артиллерии. Они были голодны и злы на своих, которые словно бы забыли про них, про то, что они уже двое суток не ели…
«А тут как раз смотрим, едет этот… как его? да у нас там был хохол один… А мне друг говорит: ты останови его, пусть нам… Ты, говорит, сало бери и водку… Больше ничего не надо. Я выскочил, а он, болт, не подъехал, увидел меня я бросил мешок со жратвой, а сам опять назад. „Я к мешку-то подхожу, только нагнулся, а тут поблизости… рвануло, и чувствую – вдарило мне… Капут, думаю, товарищ Воркуев, отворковался…“»
Олег Петрович в этот момент всякий раз всхохатывал и с какой-то пьяной, слезливой горечью в голосе продолжал:
«Хорошо, боя не было, а то бы и остался… Чувствую, что в живот ударило, упал я, а сознание не теряю… Молодой. В медсанбат, три часа операция… ни рукой, ни ногой пошевелить не могу, но все помню. Все! Бой был, немцы опять вернулись… Паника: „Немцы вернулись, немцы!“ Кто легкий, ушел, и врачи тоже с ними. А мы лежим-полеживаем – тяжелые… Куда денешься? Слышим, в тишине наши за оврагом: „Ура-а-а…“ – и стихло все…»
Рассказывая, Воркуев так возбуждался, так далеко отлетал, так отчуждался, что, казалось, сам уже не слышал самого себя, своей брани, не видел никого вокруг, кроме тех давнишних видений, которые теперь преследовали его. За столом оставались только мужчины, а женщины уходили чай пить в маленькую комнату. Они же, оставшись за столом, мрачно пьянели и все с большим вниманием и сочувствием слушали своего товарища, хорошо понимая его состояние.
«Тишина. Никого. Все сбежали, все, а мы лежим, прислушиваемся. Вдруг танк в деревне, слышим, остановился рядом… Капут, думаю… Немцы. Врубит сейчас фрикционы – и все. Домик наш деревянный, гнилой… Чего ему! Bce! Сейчас все! Слышим, крышки люков загрохотали. Кто-то подошел, открыл дверь, входит. Бляха-муха! Наш! Майор. В шлеме! Иё мое!»
Нервы Воркуева не выдерживали, и он давился от слез, когда доходил в своем рассказе до этого места. А все, кто слушал его, улыбались и хмурились, хотя уже слышали эту историю и знали ее наизусть. Как дети слушают старую сказку, так и они слушали и всякий раз опять переживали вместе с Воркуевым всю ту фронтовую жуть, которую пришлось пережить когда-то.
«Где врачи? – спрашивает», – продолжал между тем Воркуев. – «Ушли…» – «А… Я их перестреляю собственноручно… Ну ничего, ребята… Не робей! Вы тут полежите малость, мы сейчас немцев отгоним, вас в тыл отправят. Танковый корпус сюда пришел. Сейчас мы им дадим прикурить!»
Воркуев уже кричал криком, пугая женщин, стучал по столу, изображая гнев танкиста-майора. Ах, какой прекрасный человек этот майор! Как все его любили в эти минуты и будут любить, пока сами живы, пока жив Воркуев и те, которые лежали тогда пластом на своих койках. Ах, какой славный человек!
«Опять жив! – кричал Воркуев, торопливо выпивая рюмку водки и не закусывая. – Шив, бляха-муха! – И смеялся прежним своим молодым смехом, позвякивая медалями на груди. – Ну просто чудеса! Жив! Настенька, – кричал он, – милая, дай-ка нам еще одну бутылочку!.. Дай, дай… Ничего нам не будет… Ты ведь знаешь, это мой день. Дай. Не серди меня».
Анастасия Сергеевна, отмахнувшись в сердцах, уходила, но тут же возвращалась с холодной вспотевшей бутылкой водки.
«Сегодня да, твой день, – говорила она, еле сдерживая раздражение. – А завтра чей будет? Наступит завтра, не забывай».
«Ладно, иди… Всё! Иди, – сурово говорил ей Олег Петрович и, проводив взглядом, продолжал свой шумный и угарно-мрачный рассказ. – А как меня в тыл отправишь? Только на самолете, а тут как раз оттепель, полосу развезло: ни взлететь, ни сесть… До железной дороги километров сто, а как до нее доберешься, когда ты пирог с капустой, а не человек? Врачи вернулись, сестры, санитары – ругаемся с ними: что ж вы, мать вашу за ногу, бросили-то нас? А что они могли? Ничего не могли. На себе не потащишь, да и тащить-то нельзя. Это все равно что убить человека. Повернул не так, тряханул – и убил. А жить-то каждому хочется. Поругались-поругались – утихли. Ждем, когда полоса подсохнет. Немцев далеко отогнали. Тихо. Лежу, а у меня на груди, как на памятнике каком, больничная карта – все там в ней сказано обо мне. Это ж вспомнить страшно: день и ночь на спине – сплошная боль и бессилие. Но жив, йё мое! Сала с водкой не успел принять, голодный был, а это для животника спасение – голод… Столько протопал, столько пробегал, а тут – пластом. Я после двух лет войны как-то в баню попал. Это когда немец к Волге шел, к Сталинграду, а у нас, на Северо-Западном, затишка сравнительная была. Попарился с веничком, хорошо помылся, а потом гляжу – что такое?! Кожа, как подошвы, на полу осталась. Во набил как ноги! На лыжах тоже приходилось в сорок первом, когда от Москвы прогнали немцев. Но бой был, трупов столько, что на лыжах невозможно. Просто невозможно! Бросили их к чертовой бабушке… Ладно. Солнышко все-таки подсушило полосу, самолет прилетел и нас забрал. А на станции опять что получилось… – Воркуев, захлебываясь своими страстями, разгоряченный и совсем уже не управляемый, вдруг смеялся опять до слез, кашлял, багровел и все смешивалось в нем: и боль, и смех, и пьяная, какая-то безудержная веселость. – Я всегда был везучий на это дело. В первом классе было: всех учительница рассадила по партам, а я у доски один остался, забыла она про меня и уже начинает урок… Я ей говорю чуть не со слезами: „А я-то?“ – „Ай-яй-яй, – говорит, – как же я про тебя-то забыла…“ Вот и на станции тоже. Всех уже в эшелон погрузили, а меня, как был я на носилках, так и оставили на земле. Лежу жду… А чего делать? Забыли, думаю… Ладно. Не будешь же орать! А тут идет с молоточком, колеса обстукивает. „Ты чего, – говорит, – лежишь?“ – „Забыли“. – „Как это забыли? Сейчас!“ Пошел куда-то, смотрю, бегут две девушки: „Ой, братишка, как же это мы тебя?“ Только взялись, только понесли, немцы налетели на станцию. Девушки опустили меня на землю и бежать скорей в укрытие. Бомбят, а я лежу и думаю: „Ну и болт с ним, – про себя думаю. – Капут. Тут уж не уйдешь“. Бомбы падают, осколки над головой летят, рядом со мной в землю врезаются, а в меня не попало. Как в сказке: по усам текло… Немцы улетели, а девушки бегут ко мне: „Жив, братишка?! Слава богу! Прости, родной… Испугались мы… Прости“. Ну а что тут скажешь! Девчата все-таки… Страшно, конечно. Да и жить хочется. „Несите, – говорю, – меня, девушки, скорее“. А они чуть ли не бегом. Вот видишь, что получается, – заканчивал свой рассказ Воркуев, – там забыли про меня, тут бросили, а там опять забыли, а я живой. Значит, везучий. Значит, так надо, чтоб обо мне почаще забывали – выходит дело, для меня это выгодно… Все забыли! Одни вы, мои друзья, одни вы… – говорил Воркуев и лез ко всем целоваться. – Люблю одних только вас! Люблю! Братцы мои! Давайте за нашу победу поднимем и, знаете как, не чокаясь выпьем за тех, кто пал, за мертвых наших, которых больше, чем живых. Давайте, братцы, молча. Минуту молчания! Всё. Эй вы! – кричал он женщинам. – Минута молчания! Хватит болтать! Молчание…»
И все покорно умолкали, потому что каждый знал, что этот день был днем Олега Воркуева, рожденного в девятнадцатом году, чудом оставшегося в живых, искалеченного? но вошедшего в живую тройку из сотни солдат его возраста. Три из ста. Жуткая арифметика!
Потом, когда уходили гости… Впрочем, стоит ли рассказывать о бессонной этой, мучительной ночи, о трижды проклятом пьяном буйстве доброго и ласкового человека, превращавшегося в зверя, которого посадили в клетку, лишив свободы. Он обязательно что-нибудь разбивал в эту ночь: тарелку какую-нибудь или чашку, а то и стул. Слава богу, хоть частично он сохранял благоразумие и никогда не поднимал руку на жену или дочь. Хотя, казалось, бывал и к этому падению близок, с ненавистью и жутью в глазах пожирающий свою несчастную Настеньку, которая как только ни пыталась усмирить, успокоить, уложить спать своего Анику-воина. Однажды ей это удалось сделать очень странным образом – она расхохоталась на все его угрозы и сказала строго, но и весело в то же время: «Васька, иди спать сейчас же!» Он удивился и, ошеломленный этим «Васькой», вдруг улыбнулся, размяк, полез целоваться, покорно улегся в постель и уснул с улыбкой. Утром он обычно ничего не помнил и испытывал беспокойство необыкновенное, тревогу такую, словно бы он, негодяй из негодяев, натворил нечто неописуемое. От страха у него заходилось сердце, бессмысленные попытки вспомнить что-то приводили к еще большему страху, он холодел при мысли, что Настенька сейчас встретит его заплаканная и бесконечно обиженная, разнесчастная, а дочь будет отворачиваться от него или поглядывать исподлобья. Боже мой! Какие муки испытывал он по утрам! И в отличие от многих, не умея опохмеляться, не в силах даже взглянуть на водку, от одной лишь мысли о которой его начинало подташнивать, мучился весь день и страдал душою, ощущая себя особо опасным преступником, совершившим нечто такое, от чего холодела кровь в жилах: бомбу бросившим в детский сад – не меньше.
Но в тот раз проснулся в удивлении и, вспомнив «Ваську», спросил:
«А почему ты меня Васькой вчера назвала?»
«Похож был на кота Ваську», – ответила Анастасия Сергеевна.
«Нет, серьезно».
«Просто так… Разозлилась и хотела крикнуть „брысь“, а получился „Васька“…»
«У тебя есть какой-нибудь Васька?» – не унимался добренький и заигрывающий с женой Воркуев.
«К сожалению, не завела. А надо бы…»
Но это утро было исключением из правил. Да и ночь, закончившаяся улыбкой, тоже. Однажды Воркуев шел по улице, а его обогнали молодой человек с девушкой. Воркуев услышал, как он сказал ей, вспоминая о чем-то вчерашнем: «Хорошо было: поели, выпили и разошлись». Эта случайно услышанная фраза вдруг возродилась в нем и поразила необыкновенной ясностью и простотой. «Действительно! – подумал он. – Как хорошо! Поели, выпили – и разошлись».
Дома он эту фразу Настеньке своей преподнес как некую очень простую и ясную формулу маленького человеческого счастья. «Ты чувствуешь, как хорошо сказано? – спрашивал он у жены. – Поели, выпили – и разошлись. Главное, уметь хорошо и мирно разойтись. А я не умею. Благородства во мне, наверное, ни на грош!»
Но Анастасия Сергеевна не оценила его восхищения.
«А зачем обязательно пить? – спросила она, – Поели, выпили… Знаю я это „хорошо“!»
«Не об этом я, Настенька! Смысл в том, что разошлись. Люди встретились, поели, выпили и с улыбками разошлись. Разве плохо? Мы, наверное, расходиться по-человечески не умеем».
«Потому что пить не умеете».
«Правильно», – печально согласился с ней Олег Петрович.
Но глубинный смысл этой фразы разросся в сознании до таких обобщений, что он и в самом деле вывел для себя формулу поведения, некий свод, неписаных правил, состоящих из трех пунктов: поели, выпили и разошлись.