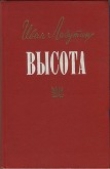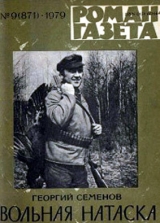
Текст книги "Вольная натаска"
Автор книги: Георгий Семенов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
Бугорков не ошибся – это была Верочка Воркуева. И больше того, он не ошибался, когда думал, что Верочку обязательно кто-то проводит до дому.
Теперь Бугорков, как тот елец, пойманный на муху и выдернутый из своей стихии, отчаянно и бессильно сопротивлялся, болтаясь на крючке.
Верочка и ее провожатый вместе поднялись в лифте, а теперь, усевшись на широком теплом подоконнике лестничной площадки, стали целоваться.
Невидимая проклятая леска была так крепка, а крючок так глубоко и больно застрял, что не было никаких сил ни оборвать леску, ни сорваться с крючка. Он немо, как рыба, кричал и бился в ужасе и наконец сорвался и побежал к арке, гулко топая в ее каменной пасти, а рот его беззвучно выталкивал жалкий, отчаянный стон, будто у него лопнуло сердце.
Но леска, оказывается, была так крепка, а рыбак так искусен, что опять с бесовской жестокостью он подтянул свою жертву к мокрому столику под кленом. Коля не выдержал этой боли и заплакал.
«Господи, что же это? – спрашивал он, сквозь слезы глядя на Верочку, которая сидела к нему спиной, обняв целующего, возвышающегося над ней мужчину, который тоже обнимал ее. – Что же это? Да что же это такое! Верочка! Что ж ты… Как же ты?»
Бугорков зажмурился и как сумасшедший рванулся прочь, но что-то снова его остановило, и он с искаженным от ужаса и злости лицом заорал что было мочи:
– Собаки!!. А-а-а-а!
И, напуганный своим криком, своим внезапным помешательством, пьяно и тяжело побежал со двора и, не слыша, не видя никого, бежал чуть ли не до самой площади, пока силы не оставили его.
Он задыхался. У него, как в детстве, резко заболело что-то в груди, пугая его продолжительностью этой ножевой, острой боли, которая не позволяла глубоко вздохнуть.
Шатаясь от слабости и дурноты, доплелся он до липы, прислонился к шершавому стволу, расстегнул рубашку и, прижавшись лбом к холодной и мокрой коре, закрыв глаза, старался дыханием унять боль в груди… Но каждый вздох упирался вдруг в эту тревожащую и ставшую поперек груди боль, которая, впрочем, постепенно отступала, как бы оставляя все больше и больше места для дыхания. В конце концов она прошла бесследно.
Бугорков отдышался, привел себя в порядок, вытер глаза платком, причесался и, с какой-то сторонней усмешкой подумав о себе как о пьяном, которому отшибло память, невнятно и насмешливо пробормотал:
– Ну что это такое… безобразие, так распуститься… баба ничтожная… тряпка…
Он и в самом деле был похож на сильно опьяневшего человека. Его пошатывало, он странно улыбался и что-то бормотал.
А дома с ним случилась настоящая истерика: он хохотал, скрипел зубами, плакал, пугая несчастную мать, которая так растерялась, что утратила дар речи. К счастью, в соседней квартире жил старый врач, который довольно быстро справился с Бугорковым: он встряхнул его, развернул к себе лицом и несколько раз наотмашь с треском ударил по щекам и тут же дал понюхать нашатыря бледному и еле живому парню, который, впрочем, сразу же утих, погасил. свой бесовский взгляд, стал покорным и очень послушным и быстро лег под одеяло.
Встревоженная мать села с ним рядом и, поглаживая его потную горячую голову, чрезмерно спокойным и дрожаще-ласковым голосом стала баюкать сына:
– Маленький мой, Коленька… Ну разве так можно волноваться? Тебе надо отдохнуть. Вот я поглажу твою головку, успокойся, маленький мой… Все хорошо. Все замечательно. Вот сдашь экзамены, съездишь к дедушке, позагораешь, покупаешься. Может, и я с тобой тоже соберусь… Все хорошо у нас с тобой будет. У тебя еще вся жизнь впереди… Пойдем с тобой опять в лес землянику собирать, варенья опять наварим…
10
Верочка Воркуева, нацеловавшись с Тюхтиным, приведя в порядок свои одежды, застегнувшись и наскоро причесавшись, проводила его тихонечко до лифта, еще раз поцеловала на прощанье, шепотом сказала: «Смотри осторожней» – имея в виду завтрашний день и его работу на высоте, а после громко дребезжащего железного хлопка, уверенно цокая каблучками, подошла к своей двери и достала ключи. Никто бы не мог заподозрить ее в каком-либо легкомыслии, хотя и не было у нее нужды скрываться, потому что она целовалась и допускала некоторые другие вольности не с первым попавшимся, а с мужем.
Разумеется, ни о каком Бугоркове в этот вечер Верочка и не думала, а когда до них донесся истошный чей-то крик, оба они усмехнулись: Верочка с некоторым испугом, а Тюхтин с мужественным презрением, сказав брезгливо: «Шпана пьяная… Людей напугать могут». И они опять стали целоваться, замедленно, как в рапидной съемке, демонстрируя высший класс, пребывая в сладострастнейшем, тайном экстазе, растворяясь друг в друге.
Верочка Воркуева узнала о Бугоркове несколько позже, когда, счастливая и насладившаяся поцелуями, голодная пришла на кухню и стала жадно есть прямо из кастрюли половником холодную лапшу с сушеными грибами, тоже испытывая от этого наслаждение. Она вообще любила есть холодные супы именно таким вот непотребным, воровским способом и когда-то, застигнутая врасплох, получала подзатыльники от матери, но не отучилась от дурной привычки. А в этот поздний час ей просто некогда было разогревать, греметь тарелками, ложками, а потом мыть грязную тарелку и ложку, убирать их в шкаф и обязательно греметь при этом.
Ей удалось проскользнуть в свою комнату и переодеться, не разбудив родителей, у которых, впрочем, всегда был хороший сон, как и у самой, Верочки, и теперь, одна на кухне, она чувствовала себя полной хозяйкой, с жадностью глотая холодную лапшу, прожевывая духовитые, упругие кусочки грибов, и если бы это было можно, урчала бы от удовольствия, как кошка над сырым мясом.
Она уже скребла половником по донышку кастрюли, добирая остатки лапши, объевшись до тяжести в животе, когда на кухню пришел, шлепая тапочками, сосед, которого Верочка по детской привычке называла дядей Андреем.
– Рубай, не стесняйся, – сказал он. – Дорубывай. Я тут чайничек вскипячу… Не спится чего-то.
Верочка, застигнутая врасплох, покраснела и поперхнулась лапшой от смеха, но так и не отняла половник ото рта, запрокидывая его и пачкая подбородок мутным бульоном: дядя Андрей был свой человек.
Он работал на заводе, который, как он говорил, выпускает кастрюли. Верочка чуть ли не с детства знала, что дядя Андрей делает кастрюли, и очень любила своего доброго соседа. Она и до сих пор считала, что он мастер по кастрюлям, и когда совсем недавно пропали в продаже эмалированные кастрюли, Верочка при матери с укором и удивлением спросила у соседа: «Что же вы, дядя Андрей, плохо работаете? Нигде невозможно купить кастрюлю». Анастасия Сергеевна с еще большим укором и удивлением спросила у дочери: «Какие кастрюли? И при чем тут он?» – «Как при чем? – сказала Верочка. – Он ведь делает кастрюли!» Сосед рассмеялся, а Анастасия Сергеевна покраснела за взрослую дочь, собравшуюся замуж. «Нельзя же быть такой наивной, Верочка! Он ведь шутил. Какие же там кастрюли, что с тобой?» – сказала она тоном осуждения и безнадежно покачал головой. А сосед смеялся и говорил: «Правильно! Кастрюли и делаю! Правильно, Верочка… Клепаем кастрюли будь здоров, а то, что в магазинах их не продают, так это неплохо. Честное слово!»
Теперь, поглядывая на соседа, загородившись от него пустой кастрюлей в одной руке и половником в другой, она наконец-то доела все.
– О-ох! – сказала Верочка, изображая на лице сытость, облизывая губы, и поставила кастрюлю на подоконник, бросив в нее грязный половник. – Я бы тоже от чая не отказалась… Жалко только конфетки нету. У вас нет, дядя Андрей?
– Халва есть подсолнечная, любишь? – с усмешкой ответил сосед.
– Подсолнечная? Наверное, люблю.
– Ну тогда порядок.
Он сидел на табуретке и, положив ногу на ногу, хитро щурился от табачного дыма, поглядывая на Верочку, исподтишка любуясь ею.
– А ты знаешь, кто приходил сегодня? – сказал он. – Бугорков твой разлюбезный. Я ему говорю, чего стоишь, проходи, а он нет… Не жалко парня-то? Мне чего-то сегодня жалко его стало. Стоит ни жив ни мертв.
– Ну и что же? – холодно спросила Верочка.
– А ничего… Вышла Настасья Сергеевна, сказала, что тебя нет дома… И привет.
«Этого еще не хватало», – подумала Верочка, хмуря невзрачные бровки, и сказала:
– Пока чайник закипит, я тут кое-что поглажу, но только вы, дядя Андрей, не смотрите. Вы вообще лучше ступайте в комнату, а я, как закипит, позову вас. Кстати, халву захватите.
– Халву! Гонит, а потом ей подавай. А мне тут охота посидеть. Чего ты гладить-то собираешься? Лифчик, что ли, какой-нибудь? Подумаешь – дело! Гладь, не стесняйся. Я и смотреть-то не буду. Что я, лифчиков, что ль, не видел?! Трусиков этих ваших… Тоже мне принцесса! В ванной сохнут – смотри, пожалуйста, а как гладить, так нельзя.
– Я не гоню, как хотите, – согласилась с ним Верочка, давно привыкнув к нему как к родственнику и не видя в нем мужчину. Он все равно остался для нее добрым мастером, который делает кастрюли. – А насчет Бугоркова, – сказала она, – если он еще раз заявится, вы ему, дядя Андрей, скажите, что я вышла замуж. И что муж у меня занимается боксом.
– Боксом?
– Ну, сейчас он не занимается, конечно, а раньше занимался.
– Хорошо, так и скажу.
Верочка не заметила усмешки на лице соседа, была серьезна и все время хмурила бровки, пока стелила серое старое байковое одеяло с коричневым следом от утюга, а потом осторожно и быстренько трогала утюг: быстренько слюнявила палец о язык, а потом по горячему, а вскоре и по раскаленному до шипения электрическому утюгу, словно бы заигрывала с разозлившейся, фыркающей и шипящей кошечкой, которой не нравилось, что ее скользящими пальцами бьют по носу, и словно бы кошечка эта и саму Верочку тоже начинала злить.
А сосед не по-стариковски любовался этой осерчавшей девкой, как он называл ее про себя, не то чтобы завидуя, но как бы представляя себе те счастливые минуты, те жаркие ночки, которые ждут в недалеком будущем ее мужа.
Верочка была в застиранном, полинявшем ситцевом халатике и в тапочках на босу ногу. С точки зрения Андрея Ивановича, все в девке было «при ней», отвечало, так сказать, всем представлениям Андрея Ивановича об истинной женской красоте.
В молодости он даже приблизиться боялся к таким красулям. Как-то однажды он насмешил своих соседей, рассказав им вроде бы в шутку, но горько усмехаясь при этом: «Иду сейчас, а у нас во дворе на скамейке двое целуются. И так он ее целует и эдак, а она к нему и так прижмется и иначе… Стал вспоминать, целовался ли я со своей женой когда-нибудь таким макаром, чтоб забыть обо всем… Вспоминал, вспоминал и не вспомнил… И так обидно стало! Она ведь мне, дура, ничего не позволяла, думала, что иначе я не женюсь на ней. А женился, ей и вовсе ничего этого не надо. Чего, говорит, блажишь-то! Мне, говорит, завтра на работу чуть свет, а вечером стирка – не приставай… Вот и вся моя любовь».
В тот вечер он рассмешил Воркуевых, которые не заметили, не уловили в его словах тоски и скрытого отчаяния. Пошутил человек.
Воркуевы не знали его жены, он с ней развелся и переехал в свою теперешнюю комнату уже холостяком, разменявшись с бывшими соседями Воркуевых, которых они недолюбливали. С Андреем же Ивановичем, который и по возрасту и по характеру и аккуратности своей сразу же показался им подходящим человеком, они легко ужились и были дружны всегда. А в дни Победы он бывал их гостем, потому что Андрей Иванович с первых дней войны служил механиком на Северном флоте и, хотя не ходил в походы, работая в доке, но страху натерпелся от воздушных налетов.
Он тоже сразу полюбил своих соседей, будучи человеком очень общительным, и ему доставляло тайное удовольствие каждое утро встречать на кухне милую Анастасию Сергеевну, слышать ее голос, видеть заспанные, припухшие после сна глаза, непричесанные волосы. А поздно вечером желать ей спокойной ночи и засыпать с легким и счастливым видением, без всяких, казалось бы, причин пролетавшим перед его мечтательным взором в образе очень приятной соседки. Измученный и на всю жизнь напуганный семейной жизнью, он и подумать боялся о новой женитьбе, но, живя теперь бок о бок со счастливой семьей, стал сомневаться. Но никогда ни единым словом, жестом или каким-либо намеком не оскорбил он ничего не подозревающую соседку.
Для него было истинной радостью, какой он никогда не испытывал раньше, приходить с работы домой и видеть соседей, которых он в минуты веселья называл матросами, особенно если приходил навеселе и приносил бутылочку. «Ну, матросы, что будем с бутылкой-то делать?» – спрашивал он, веселя Воркуевых хитрыми и добродушными глазками, которые, словно бы оседлав и пришпорив большущий, расплывшийся по лицу нос, казались очень маленькими, придавая морщинистому и неказистому лицу какую-то забавную детскость. Серая челка наплывала на очень подвижную кожу низкого и угрюмого лба, а брови Андрея Ивановича каким-то удивительным образом могли вдруг подпрыгнуть в веселом смехе до этой жесткой челки. Из щедрого носа его высовывались толстые и упругие, как китовый ус, сипящие при выдохе и вдохе седые волосы, которые, видимо, все время щекотались, потому что Андрей Иванович частенько морщил свой нос и постукивал по его мясистому кончику пальцем, как это делает кошка, почесывая ухо задней лапой.
Ему бы, конечно, жениться. Он и сам в последнее время подумывал об этом, но – странное дело! – ему казалось, что привести сюда, в эту квартиру, чужую женщину никак нельзя. Он со стыда сгорел бы перед своей соседкой!
Вот такие чувства испытывал сутулый, узкоплечий и носатый человек, похожий на сказочного, веселого, старого осетра.
Теперь он сидел возле раковины на табуретке и, читая газету, ждал, когда закипит чайник. А Верочка гладила свой бело-розовый интим, к которому она с некоторых пор относилась с особенной заботой и вниманием.
Андрей Иванович, отвлекаясь от чтения, бездумно смотрел, как Верочка гладила свои малюсенькие прозрачные платочки, и ему было приятно это бессмысленное созерцание ловкой женской работы, приятно было вдыхать пар, пропахший свежим глажением, и слышать, как поблескивающий утюг, шипя, выжимает жаром этот душистый и какой-то очень домашний, уютный пар из увлажненной ткани. «На свадьбу – подумал он с нежностью, – надо ей подарить сережки. Серебряные, с камушками. Рублей за двадцать. А жениху портсигар с червончиком вместо сигарет. И отмочить чего-нибудь про голубые фиорды и тоску матросов, чтоб пооригинальней…»
Как это ни странно, он легко и безоговорочно принял Тюхтина, хотя Коля Бугорков когда-то очень не понравился ему: то ли в нем говорил бес противоречия, то ли какая-то тайная ревность, ибо парень нравился Анастасии Сергеевне, но, вероятнее всего, в этом сыграла главную роль первая их встреча.
Похоронив друга и возвращаясь пьяным с поминок, он вышел проходным двором к дому и увидел в темноте двора, в осенней его оголенности и заброшенности тихую и отрешенную от мира парочку на скамейке. У девушки туманно светились колени, а парень навалился темной своей силой на нее, прикрыв как будто от посторонних взглядов и от холода ее лицо, грудь и руки.
В печально-чувственном опьянении, томясь в одиночестве, Андрей Иванович, как человек очень общительный и простодушный, тут же подошел к скамейке, совершенно уверенный, что молодые люди поймут его порыв, посочувствуют ему и откликнутся на его горе. Сам-то он хорошо понимал их в эти минуты и обязательно должен был сказать о своей любви к ним.
Парень отпрянул, а девушка торопливо поправила пальтишко, склонила голову, пряча лицо, и что-то тихо сказала насторожившемуся парню.
Но он уже узнал в ней соседскую дочку. и, понимая, как она смущена, и тоже смутившись на мгновение, с еще большей нежностью и пьяной любовью сказал ей удивленно:
– Да не прячься ты, чудачка! Не бойся меня! Я вам, ребятки мои дорогие, только самого хорошего хочу. Любите друг друга… А я сегодня выпил маленько… Похоронил Борьку Серегина, моего друга старого, и вот… выпил… Но это ничего! Матросы! А если я вам, между прочим, помешал, вы так и скажите: иди, мол, отсюда, дурак пьяный. Я не обижусь.
Парень усмехнулся и сказал:
– Ну что вы, что вы! Мы как раз сидим тут и ждем, кто бы с нами о жизни поговорил. Скучно сидим, одни. Что вы, адмирал!
Андрей Иванович нетвердым, повисшим взглядом посмотрел с улыбкой на парня, понял все и, почувствовав себя очень старым и скучным человеком, подумал с обидой: «Нет чтобы прямо сказать, уходи, мол, и не мешай, а то подковырки какие-то…»
Достал пачку «Беломора», протянул парню.
– Не пьем, – ответил тот, отстраняясь.
Это презрительное «не пьем» отдалось в душе такой обидой, таким несчастным он себя вдруг почувствовал, что даже пачку смял в руке, сжавшейся с конвульсивной какой-то бешеной силой, и, ни слова не говоря, медленно пошел прочь. Он слышал, как Верочка что-то говорила парню торопливым шепотом, и, зная, что оба они, оставшись на скамейке, смотрят ему вслед, остановился под крутой аркой и, обернувшись, помахал им рукой.
– Вам-то, еще это… не скоро, – сказал он дрогнувшим голосом, усиленным гулкой аркой, – хоронить друзей. Дай бог подольше, матросики…
– Дядя Андрей! – откликнулась Верочка. – На цепочку не запирайте, я скоро приду.
Может быть, это первое знакомство с Бугорковым и предопределило отношение к нему. Во всяком случае, Андрей Иванович всегда был невысокого мнения о нем. Когда же заходила при нем речь о Бугоркове, он с такой силой зажмуривал правый глаз, что вся правая сторона лица сплющивалась. И с перекошенным, выражающим явное сомнение лицом скептически поглядывал на Анастасию Сергеевну левым глазом, как бы говоря ей: «Позвольте, Настасья Сергеевна, не согласиться с вами. Уважьте старого человека». Он даже позлорадствовал в душе, когда Бугорков получил отставку у Верочки. Зато к Тюхтину сразу же проникся уважением.
Сам же Бугорков об Андрее Ивановиче никогда не думал всерьез, не подозревая в нем врага. Когда с ним рядом бывала Верочка Воркуева, он всегда вел себя так же недружелюбно и зло, как и в тот вечер на скамейке. Он словно бы сразу выпускал ядовитую жидкость, отпугивая мнимых соперников, и никогда ни с кем не желал всерьез и на равных разговаривать, если вдруг на Верочку, как ему чудилось, покушались другие существа одного с ним пола, которых он как будто бы и не принимал за людей.
Вообще же такая явная антипатия этих людей друг к другу казалась довольно странной, потому что после той неприятной встречи во дворе у Андрея Ивановича было время получше узнать Колю Бугоркова и переменить к нему свое отношение. Тем более что Коля был даже в чем-то сродни Андрею Ивановичу – так же простодушен и искренен и так же влюблен, как Андрей Иванович, в семейство Воркуевых. Но что-то тут не срабатывало, какой-то тонкий механизм отказал, и Андрей Иванович ничего этого не разглядел в Бугоркове. Впрочем, может быть, похожесть, которую, вполне вероятно, почувствовал Андрей Иванович, как раз и оттолкнула его от этого парня?
Как бы там ни было, а теперь он, получив от Верочки наказ и зная, что сказать Бугоркову, если тот опять появится, готов был все в точности исполнить, как велела Верочка, да к тому же добавить кое-что и от себя.
Увы, произошло это очень не скоро, хотя совсем и не так, как представлял себе Андрей Иванович, к тому времени забывший даже думать о Бугоркове. О том Бугоркове, которого Верочка, прежде чем привести в свой дом, долго водила по Москве, придумывая себе родственников, живущих в старинных особняках с лепными портиками и колоннадами. Она весело обманывала Бугоркова, который верил буквально каждому ее слову и всегда искренне восхищался домами, на которые кивала Верочка.
На Арбате у нее жила родная тетя с мужем, у которых был единственный в Москве чистопородный сенбернар с крестом на спине, а в одном из переулков, примыкающих к улице Воровского, в роскошном особняке с высокой, чугунного литья орнаментованной решеткой жил на втором этаже за огромными, тихо тлеющими за шелковыми шторами окнами дядя, у которого было четыре или даже шесть, кажется, охотничьих ружей, она не помнила точно каких. Бугорков восхищенно спрашивал, не бельгийских ли. На что она тут же отвечала, что именно шесть бельгийских ружей с тончайшей гравировкой и, кажется, одно французское, и что развешаны они на стене в его кабинете, на большом зеленом ковре, под клыкастой кабаньей мордой, которую она в детстве ужасно боялась. А бабушка ее жила в высотном доме на площади Восстания, на одиннадцатом этаже. У бабушки громадная квартира, в которой можно кататься на велосипеде, и даже есть орден за большие заслуги. «Только ты никому не говори, – просила Верочка Воркуева. – Я только тебе могу по секрету сказать, что бабушка моя по происхождению вообще-то графиня. Вернее, она сама-то была простая дворянка, а дед, который женился на ней, был графом… А потом они оба ушли… вернее, дед умер, а бабушка ушла в революцию, была в гражданскую войну комиссаром».
Бедный Бугорков немел от восторга, слушая Верочкино вранье, на языке у него вертелся, приплясывая, распутный мелкопоместный дворянин Самсонов, разорившийся сразу же после отмены крепостного права, но он не смел и рта раскрыть, чтобы не опозориться перед голубыми кровями своей возлюбленной, в которой сразу, при первом же взгляде на нее увидел неистребимые признаки породы.
Верочка же Воркуева, гуляя с ним по Москве, останавливалась вдруг перед каким-нибудь хорошеньким домиком с проходным двором и неожиданно заявляла, когда ей наскучивал молчаливый и восторженный парень: «Ну вот, я и пришла… Здесь живет моя двоюродная сестра, моя тетка. Мне надо к ней зайти. До свидания». Бугорков даже опомниться не успевал, как Верочка исчезала, оставляя его посреди улицы.
Сомнения – да и то очень смутные! – закрались в душу Бугоркова, когда он, проходя однажды мимо особняка, в котором жил дядя с бельгийскими ружьями, к удивлению своему, увидел постового милиционера возле чугунных ворот особняка, а на стене медную пластинку с иностранными словами, разобраться в которых Бугорков не решился, потому что сразу понял, что этот особняк принадлежал какому-то посольству. Он одеревенел от удивления и растерянности, обратив на себя внимание милиционера, но удивился он вовсе не тому, что особняк принадлежал иностранной державе, а тому лишь, что дядя у Верочки Воркуевой иностранец.
Его очень смутило это неожиданное открытие, и Бугорков, холодея душою, подумал, грешным делом, не запутался ли он в искусно расставленных сетях иностранной разведки. Но, слава богу, тут же отмахнулся от кощунственной этой дурости, решив с облегчением, что, видимо, дядя переехал на другую квартиру, особняк совсем недавно продали какому-нибудь новому, только что образовавшемуся африканскому государству.
«Да-а, – подумал он о дяде с сожалением, – такого особнячка он, конечно, теперь никогда не найдет. У него небось коврище был во всю стену, высотой метра четыре, а такого высокого потолка не будет, конечно. Куда же он теперь кабанью морду-то денет? А ружья? Вот бы такого дядю иметь!»
При первой же встрече с Верочкой, лопаясь от нетерпения, он рассказал ей об этом. В ответ она с недоверчивостью во взгляде посмотрела на него, склонив голову набок, и, тихонько фыркнув, пожала плечами.
«Ну точно! – говорил ей Бугорков. – Я собственными глазами видел милиционера и эту вывеску на стене. Точно, там теперь посольство какое-то! Знаешь, как сейчас в колониальных странах! Ой-ей-ей! Новые государства как грибы после дождика».
Вполне вероятно, что именно в тот день Верочка Воркуева инстинктивно почувствовала, что красивый этот парень не тот человек, который ей нужен будет в жизни. Во всяком случае, с тех пор она перестала ему рассказывать о своих родственниках, которые, кстати, по очереди умерли вскоре после этого, о чем Верочка всякий раз с печалью сообщала Бугоркову. А он очень расстраивался при этом, молча поглаживая ее руку, и вспоминал дедовскую поговорку: «Не по лесу, а по людям беда ходит… Прямо какое-то напастье… Ох-ох-ох! Я тебя хорошо понимаю, у меня у самого отец умер, я знаю, что это такое». – «Да, – соглашалась с ним Верочка. – Хоть и не такие уж близкие люди, но все-таки ужасно жалко, особенно бабушку». А поскольку настоящую бабушку, которая и в самом деле недавно умерла, Верочка очень любила, то и слова у нее получались искренними и жалостливыми.
«Только ты при папе с мамой, – просила она его, – не вздумай чего-нибудь сказать, а то они и так переживают. А если ты им напомнишь, они опять разрыдаются, особенно мама. Обещаешь мне? А иначе мы с тобой больше никогда не увидимся…»
Бугорков обещал, клятвенно глядя ей в глаза. Столько неподдельной скорби было в его глазах, так он страдал в эти минуты за Верочку, что ей порой страшно становилось.
Но все-таки главным и, пожалуй, определяющим стимулом в ее отношении к Бугоркову было непроходящее и все более разжигающее любопытство.
Она никак не могла поверить, что взрослый уже парень с утомленно-умными глазами способен принимать за чистую монету все – буквально все! – что она ему говорила. И ей как будто бы с каждым днем было все интереснее узнавать бездонность и беспросветную тьму этой доверчивости. Но было в ее отношении к Бугоркову и нечто такое, что еще больше притягивало ее, чем просто его беспредельная доверчивость. Иногда ей начинало казаться, что Коля Бугорков не так уж и прост, как она о нем думает. Он казался ей хитрым насмешником, который подыгрывает ей, делая все гораздо искуснее, чем она сама. Самолюбие ее тогда бунтовало, и она спешила испытать Бугоркова еще раз.
«Слушай, – сказала она ему однажды, – помнишь ту тетю, у которой был сенбернар? Так вот, у меня к тебе огромная просьба. Обещай, что ты выполнишь ее».
«Обещаю», – сказал Коля Бугорков.
«Сенбернар, который теперь один остался, ужасно заболел, а дядька хочет его умертвить, муж моей тети. Понимаешь? Этого нельзя допустить. Понимаешь?»
«Понимаю».
«Ты должен взять эту собаку, у нее, к сожалению, страшная болезнь, стригущий лишай. Должен вылечить ее и держать у себя. Она тебе понравится, это чудесная собака…»
Бугорков побледнел, представив на миг лицо матери, но, готовый на все ради Верочки, решительно спросил:
«Куда ехать за собакой?».
«Ты ее возьмешь? – недоверчиво спросила Верочка. – Нет, честно! Ты не боишься ее взять? Ведь стригущий лишай – очень заразная болезнь».
«Я понимаю… Я, конечно, покажу ее врачу… А может, ее надо в больнице полечить?»
«Зачем же я стала бы тебя тогда просить? Из больницы он живым не выйдет, там его уморят обязательно. Он еще какую-нибудь болезнь там подцепит. Понимаешь?»
«Понимаю, конечно. Надо сегодня ехать?»
«Нет, завтра. Ты приезжай ко мне, захвати какую-нибудь тряпку, чтобы собаку в такси везти, купи ошейник покрепче и поводок… Ну и все. И приезжай сразу на такси ко мне, а от меня тогда… Хотя нет, приезжай просто так, без машины, а там мы возьмем и поедем вместе. Понимаешь?»
«Да, конечно», – сказал Коля, лихорадочно соображая, сколько же ему потребуется денег.
«А ты не раздумаешь? – спрашивала Верочка, внимательно вглядываясь в его озабоченные и не очень-то веселые глаза. – Приедешь?»
«Ну что ты! Конечно…» – ответил он, стараясь взбодрить себя и не выказать уныния, которое охватило его душу.
Деньги Коля Бугорков достал в тот же день, хотя и нечестным путем. У них в доме была очень хорошая библиотека, оставшаяся от отца. Он украл, или, вернее, тайком взял с полки чудесную книгу братьев Гримм, о которой, как ему казалось, мать давно забыла, прихватил еще «Путешествия Гулливера» Свифта и, пока матери не было дома, успел продать их в букинистическом магазине, получив неожиданно большую – баснословно большую! – сумму денег. Потом он купил брезентовый ошейник неимоверной толщины и прочности, как и велела Верочка, и такой же брезентовый поводок в охотничьем магазине на Неглинке. Хуже обстояло дело с подстилкой, но и тут он вышел из положения, отыскав в грязном белье старую свою ковбойку с протершимся воротом.
Вечером он не смел смотреть матери в глаза, был задумчив и печален, беспокоя своим поведением мать, которая щупала его лоб и спрашивала, что с ним сегодня случилось. «Да ничего, мам, так просто», – отвечал он, чувствуя себя смертельно больным и несчастным человеком, которому впервые в жизни приходилось обманывать мать, скрывая от нее кражу, и при этом знать, что только завтра наступит самое страшное испытание для него, когда он привезет в дом огромную, облезлую, заразную собаку… Его всю ночь мучили сомнения и кошмары, были минуты, когда он готов был отказаться от собаки, сославшись на запрет матери. Она, конечно бы, сказала: «Или я, или собака». Он вынужден был бы уступить. Верочка, конечно, поймет и не осудит его… Но слабость эта проходила, и он снова обдумывал, как лечить собаку – дома или в больнице, понимая, что если мать и согласится после жуткой ругани на собаку, то уж на лечение лишая в домашних условиях никогда ни за что не пойдет.
Измученный и посеревший, он приехал в назначенный час к Верочке с клетчатым узелком в руке, а та встретила его с небывалым удивлением и даже покраснела так густо, что лицо ее вдруг вспухло от красноты.
«Нет, ты удивительный человек! – сказала она, оправившись от смущения. – Ты мне скажи, Коля, ты только прости меня и скажи честно… Неужели ты поверил, что я могла бы больную собаку?.. Нет, я ничего не понимаю! Ты бы взял собаку с лишаем? Со стригущим лишаем?»
Когда Коля, наконец-то понял, что Верочка Воркуева испытывала его таким жестоким способом, он вовсе не обиделся на нее, а даже обрадовался, что это было всего лишь испытание, которое он сумел с честью выдержать. Он оживился и все время радостно смеялся, рассказывая все еще ошеломленной Верочке, как он доставал вчера деньги, как боялся сказать обо всем матери, которой придется во всем признаться теперь, и какую страшную ночь он пережил.
«Мама, конечно, расстроится из-за этих книжек, – говорил он с виноватой улыбкой. – Но если бы ты знала мою маму! Она у меня чудесная! Она все поймет. Все абсолютно! И, конечно, простит меня, ты не расстраивайся. Я смотрю, ты очень переживаешь… А чего особенного-то? Раз обещал, надо же делать. Как же иначе?! Тебя не касалось, как это я все устрою… Это уж мое дело, если я слово тебе дал. Не расстраивайся, пожалуйста. Я знаешь сколько денег получил за книжки? А истратил всего чепуху какую-то. Я маме все деньги отдам, и все будет в порядке. Она, может, даже обрадуется», – возбужденно говорил он, и ему казалось, что и вправду мать очень обрадуется, узнав, что он хотел взять домой больную собаку, но не взял, а вместо собаки принес деньги за проданные книжки, которые он когда-нибудь обязательно купит и поставит на место, где они стояли.