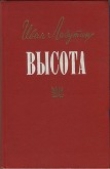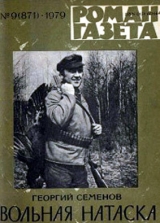
Текст книги "Вольная натаска"
Автор книги: Георгий Семенов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Здесь же, внутри петли, в летние, жаркие дни так много радости дано человеку, так приспособлено все для безмятежной и праздной жизни, что диву даешься, как же туристы или какие-нибудь профсоюзные деятели не освоили еще это заповедное местечко. Хотя, надо сказать, в субботние и воскресные дни, особенно в засушливые годы, и сюда уже добираются на своих автомашинах любители палаточной жизни, оставляя после себя черные дыры кострищ среди прибрежных кустарников.
В июле месяце молодой Бугорков гостил у деда. Лето стояло засушливое, дождей не было, с утра до вечера палило в небесном мареве солнце, выжигая даже пойменные травы, на остатки которых выгоняли злых и непослушных, обреченно мычащих коров.
По песку невозможно было ходить босиком. Вода в Тополте до того согрелась, что из нее не хотелось вылезать, хотя она и не освежала.
Плавал Бугорков плохо, хотя и смог бы переплыть Тополту, но его выручала старая, черная коряга, остов упавшего когда-то в реку дубка, упругий и скользкий сук которого высовывался из воды, пластаясь над ее поверхностью. Глубина под ним «по шейку», течение сильное, и если обхватить эту корягу руками, струи воды поднимают невесомое тело, и оно словно флюгер полощется на течении в блаженном безволии, без всяких усилий удерживаясь в горизонтальном положении.
Более приятного занятия нельзя было придумать в эти знойные, душные дни. Бугорков был в отпуске, в самом начале бесконечно долгих, счастливых, бездельных и бездумных дней. Он лежал в воде, чувствуя каждым своим волосочком скользящие струи теплой воды, ее уверенную силу, слыша ее журчание у себя над ухом и не видя ничего вокруг, кроме серого неба, в котором сияло раскаленное, обезумевшее солнце, черной коряги и коричневой от загара руки с порыжевшими волосами. Если он слишком остывал в воде, он выходил на песок и, выбрав не очень горячий склон в этих сверкающих под солнцем дюнах, падал с приятной дрожью в теле в рассыпчатое тепло песка, который обваливал его, как рыбу на сковородке, налипая на мокрую кожу. Песок быстро высыхал и обсыпался, и только на спине между лопаток на загорелой коже мутно светлел он, пока струи воды, в которых опять нежился Бугорков, не смывали его.
Я и сам любил в былые времена приходить на этот дикий пляж и так же, как Бугорков, подтягивался на упругой коряге, забирался на нее, вытаскивая из воды тяжелеющее тело, прыгал с естественного этого мосточка, выскакивал из воды, облепленный мокрыми волосами и брызгами, и снова лез на разогретую корягу, скользя ногами по ее подводной, слизистой крутизне, мутной тьмою уходившей в глубину.
Ах, какое это чудесное было время! Пески, совсем еще не тронутые человеком, перемешались с нежно-зеленым мятликом, остужающим босые ноги, обожженные на песке. Ивовые кусты росли на песках непролазными грядами, еще не прореженные топором, а в их зеленых чащобах, в глубоких песчаных впадинах млели под солнцем неиссякающие прудки с черными донышками от перегнивших листьев. После половодья оставались порой в этих ямках, отрезанных от реки, крупные рыбы, которые, как правило, не выживали в перегретой воде, но поймать которых тоже не было никакой возможности: они носились в теплой своей клетке как угорелые, взмучивая воду, поднимая черную гниль со дна, и даже при самых благих намерениях я так и не смог поймать однажды пятнистого щуренка, попавшего в беду.
Чуть выше этих кустов, за грядами прилизанного песка, поющего под ногами, в дымчатых зарослях ольхи, в прошлогодних, грифельных листьях, в хрустящем, прожженном солнцем хламе, пронизанном острой и жестяно-жесткой травой, грелись черные ужи, которые вдруг пугали меня вороненым, маслянистым отливом своих скользящих тел, текучим, шуршащим бегством, стремительностью движения среди мутно-серой неподвижности сухих листьев, серой коры, упавших деревьев, среди солнечных пятен и полутьмы… И трудно было побороть мгновенный порыв к бегству, унять постыдную слабость в коленях, хотя я и знал, что это не гадюки, не аспиды, а беззащитные ужи с золотой короной на гладкой головке шуршали в листве у меня под ногами. Застигнутые врасплох на краю зарослей, они с шипением вываливались на песчаный откос и, беспомощно извиваясь, черные на изжелта-белом, катились вниз к воде, в которую стремительно вскальзывали обтекаемой своей головкой и легко плыли на ту сторону, сносимые течением.
В далекие те времена на утренней заре можно было вдоволь налюбоваться зимородком, который синим ядрышком вылетал из черного жерла своей норы в обрыве, облепленном лучами восходящего солнца, и стремительно проносился в текучем каком-то полете над водой, сияя тропической, нездешней окраской, и вдруг исчезал в реке, бесшумно, как в масло, уходя под воду, и с той же масляной пластичностью вылетал из нее в воздух, поражая и восхищая всякий раз своим чудодейством, словно бы птица не за добычей для птенцов, которые ее ждали в норе, ныряла под воду, а фокусы показывала, свою удаль и никем не превзойденное искусство.
Много всяких чудес было в ту пору на милой моей Тополте! А если встречались мне люди – косец ли на лугу, пастух, разыскивающий корову, или женщина, бредущая по берегу в поисках пропавшего табунка гусей, – мы здоровались с уважением и расходились, не помешав друг другу жить на этой чудесной земле как каждому из нас хотелось.
Чудеса, конечно, и теперь случаются, и порой то, что в рассказе может показаться нелепейшей выдумкой, происходит наяву, хотя я и склонен думать, что чудо, случившееся с Верочкой Воркуевой и с Бугорковым, могло произойти только лишь благодаря каким-то сказочным особенностям речки Тополты, потому что встреча их на берегу реки просто не могла быть в реальности, ее невозможно было себе представить, даже обладая очень вольной фантазией.
Это, разумеется, понимал и сам Коля Бугорков, когда он, весь в брызгах, вышел из реки на песок и среди тех немногих отдыхающих, которые приходили сюда из Лужков и из Воздвиженского, увидел вдруг ее сидящей на черной корме, затонувшей, затянутой песком плоскодонки.
И что самое удивительное во всей этой нелепости: он вышел не в стороне от лодки, а прямо на нее, словно бы какая-то чудотворная сила, таящаяся в реке, вывела его к черной корме, на которой присела отдохнуть и остыть после жаркой дороги разомлевшая, но уже приготовившаяся искупаться Верочка Воркуева. Хотя, конечно, если бы он в сторонке вышел на берег, он все равно бы увидел ее, потому что она как-то очень заметно сидела над водой и еще потому, что кожа ее была туманно-белой, отсвечивающей голубизной, какая бывает с нутряной стороны речной ракушки, – она вся светилась этой худосочностью рядом с загорелыми, жирно поблескивающими телами, разбросанными на песке и на байковых одеялах под кустами. Все, кто был в этот час на пляже, обратили внимание на эту болезненно-хилую женщину, еще не тронутую солнцем, и, конечно, Бугорков тоже бы заметил ее и если не сразу узнал, то, во всяком случае, засмотрелся бы на нее издалека, на это призрачное изваяние, сидящее на черной, затянутой в песок лодке, или, вернее, на обломленной ее корме, торчавшей из воды. Синие лоскутья купальника еще резче выявляли немощную белизну женского тела, тени под круто изогнутыми ключицами, отчаянную худобу ее спины и ног.
Но он ничего этого не увидел, а сразу натолкнулся на нее, занятый своим ознобом, который выгнал его из реки, и оцепенел от испуга.
А она тоже очень испугалась и, ничего не понимая, в надменном каком-то удивлении вздернула бровь, но в то же мгновение испуг исчез в ее взгляде, исчезла и оборонительная надменность, с которой она машинально встретила остановившегося перед ней мужчину, и глаза ее наполнились таким стыдом, когда она узнала Колю Бугоркова, такое мучительное смущение исказило ее лицо, так нервно повела она головкой, словно бы бежала прочь от испугавшего ее видения, так напряглись ее губы в немом крике, так она вся преобразилась сразу и зарделась в необузданном волнении, что Бугорков, который тоже еле удержался на ногах, почувствовал что-то вроде внезапного головокружения, затмившего разум, успел за какие-то доли времени понять ее страшное возбуждение, но не более того, и все-таки он пересилил свою немоту и сказал:
– А я тут живу, – удивленно глядя на Верочку Воркуеву и опять произнося бог знает что: – Я тут, в Лужках… В отпуске… Что ж теперь… делать! А вы?.. Как тут вы-то? Ничего не понимаю. Вы ведь Вера Воркуева? Да? Я не ошибся, черт возьми?
Что-то большее, чем стыд, какое-то никогда еще не испытываемое ею чувство, что-то неукротимо-страшное, с чем она уже не могла справиться, сорвало Верочку Воркуеву с места, она в паническом ужасе бросилась в воду, с разбегу плюхнулась на мели, но, снова поднявшись, побежала дальше, молотя мелькающими и высоко задираемыми коленями нерасступчивую воду, и закидывая назад голову, рухнула наконец плашмя, подняв брызги, и поплыла.
А когда, запыхавшись, понуро выходила на берег, опять увидела Бугоркова и, уже в воде осознав случившееся, стыдя себя за дикое бегство в воду, издали усмехнулась ему и, загнанно дыша, сказала с привычной уверенностью в себе:
– А я тут… впервые… Мы там… в Воздвиженском… там тоже хорошо.
– Верочка, – сказал в восторженном недоумении Бугорков. – Я не могу поверить… Вы ли?.. Ты ли это?
– А что случилось? – В голосе ее прозвучала уже насмешка. – Разве я так страшна, что и узнать уж невозможно?
Она прошла мимо Бугоркова, обдав его, опять разогретого на солнце, мокрой прохладой, и он с обмиранием почувствовал кожей ноги, как какая-то крошечная капелька, сорвавшись с Верочкиного тела, кольнула его. И эта видимая капелюшечка вскружила ему окончательно голову…
– Верочка, я никогда! Слышишь?! – говорил он, идя за ней следом по заплесу и не видя любопытных глаз, которые провожали их. – Я ни за что! Никогда! Если ты даже… Нет! Этого никогда не может быть! Как же ты этого не понимаешь?
Верочка с застывшей на губах усмешкой понимала все, что хотел он сейчас и не мог сказать, но все-таки спросила его, только теперь наконец с удивлением сознавая, что она встретилась не с кем-нибудь, а с Колей Бугорковым, который изменился за это время внешне, став даже ростом как будто повыше, и, что особенно смущало ее и удивляло, был теперь вполне взрослым мужчиной с золотисто-курчавой шерсткой на груди, да и весь он был покрыт теперь этой густой и короткой шерсткой, чего она, как это ни странно казалось ей теперь, никак не ожидала от него, – она все-таки спросила:
– А что никогда-то? Я действительно ничего не пойму. Откровенно говоря, мне бы не хотелось… Я хочу сказать, да, смешно, конечно, – взяли вдруг и встретились. И где? Боже мой! Но не в этом дело!
– Я все понимаю! – воскликнул тоже очень догадливый в эти минуты, на все согласный Бугорков. – Я, конечно, не посмею даже… Что ты, Верочка! Я все понимаю. Я хотел сказать, что я никогда… Я вообще убил бы того, кто осмелился бы сказать о тебе, что ты… ну, как ты сказала! что ты… страшная… Ты совсем не изменилась! Нет! Что ты! Тебе очень к лицу эта бледность, ты знаешь? – И он засмеялся, давая понять, что ему это приятно ей говорить, и только. – Я никогда не думал… Я считал, наоборот, что ты после замужества располнеешь, а ты вон какая молодец! Сколько же у тебя детей?
– У меня сын, – ответила Верочка Воркуева, которой было приятно слушать Колю Бугоркова и верить, что он ничуть не изменился, а как был простодушным и искренним человеком, так им и остался, не научившись лгать и притворяться. – Боже мой, сын! – повторила она со вздохом. – Я из-за него приехала сюда… А ты знаешь, это смешно! – вновь воскликнула она. – Это дико смешно! Мой отец здесь, в Воздвиженском, купил по дешевке избу, и мы в ней живем.
– Это невозможно хорошо! То есть я хотел сказать, – поправился Бугорков, – что здесь чудесные места и твой сынишка… А почему ты не взяла его с собой?
– Ему нельзя. Ему только в тенечке. Он чуть не умер у меня этой весной.
– Что же это с ним? Как же? – испуганным, приглушенным голосом спросил Бугорков, замедляя беспечный и веселый шаг.
И Верочка опять отметила про себя его удивительную способность так искренне реагировать на чужую боль. И она вкратце, боясь долгих и подробных воспоминаний, рассказала ему о тех ужасах, которые пришлось пережить ей с сыном, о том, как долго не могли поставить верный диагноз, пугая ее и менингитом и полиомиелитом, хотя у него было очень опасное менингиальное осложнение после гриппа, и с каким трудом Олежка выкарабкался из этой беды.
– Нет, я не хочу вспоминать… Я просто не могу! Ты извини, я… это слишком… близко снова… Нет…
– Господи! Я ведь не знал! – взмолился Бугорков. – Бедняжка! Сколько же тебе пришлось испытать! Прости меня! Забудь об этом… Все теперь хорошо.
Верочка Воркуева даже остановилась, пораженная той тревогой, которая сочувственно звучала теперь в голосе Бугоркова. «Бедняжка! – снова услышала она. – Сколько же тебе пришлось испытать!»
– Пора возвращаться, – сказала Верочка. – Ну а ты? Женат? Дети? Сколько?
Коля Бугорков впервые осмелился взглянуть ей в глаза и сказал с улыбкой и с каким-то неожиданным заиканием:
– Я… женат… н-н-на одной-единственной… П-п-прости меня, если можешь, за эту чертовщину… Я б-больше никогда не буду… Нет, я не женат. Не получилось ничего. Так уж вышло… Не думай, нет! Я не жалею нисколько. Н-не мальчик, конечно, были увлечения, но вот… видишь так бывает…
Теперь он жадно ощупывал ее глазами, точно наедался впрок ее плотью, скользил взглядом по каждой ее морщинке, по каждой складочке на похудевшем ее теле, по каждому бугорку выступающих ребер и позвонков, и делал это в открытую, пользуясь коротким мгновением, заминкой, которую как будто специально для него устроила Верочка Воркуева, в задумчивой улыбке отвернувшаяся к реке.
– Пора возвращаться, – повторила она. – Здесь и в самом деле хорошо.
– А ты не хочешь попить? – спросил Бугорков с надеждой. – Здесь совсем близко, за поворотом, родник… Будешь знать, что вот и родник тут есть… А? Пошли.
«Я там все оставила», – хотела сказать Верочка, но постыдилась, боясь обидеть Бугоркова, чувствуя себя так, будто пришла к нему в гости, в его дом.
Они шли по сырому и гладко прилизанному речному заплесу; справа текла река, а слева горбились чистые пески. Но уже совсем близко подступили к реке полураздетые в этом жарком году бурые кусты, а в воде с замшевым сереньким донышком росла яркая осока.
Над осокой шуршали синие стрекозы, порхали над живой водой, над серыми спинками косо отплывающей от берега рыбьей молоди, и в воздухе пахло рыбой, как пахнет грибами в сыром лесу.
В благостном каком-то исступлении, в полной отрешенности от мира шел Бугорков рядом с Верочкой Воркуевой, не веря в реальность всего происходящего, ощущая рядом с собой не человека, не женщину во плоти, а нечто высшего порядка, какой-то воспаривший над ним и над всем миром дух. Восторг его был так велик, что он совершенно не чувствовал себя, не понимал, что происходит с ним. Лишь какими-то сверхчувствительными, неподвластными ему токами он все время ощущал рядом с собой присутствие высшего начала всех своих начал, предел всех своих мечтаний, материализованное свое желание, которое шло, легко ступая босыми ногами по зализанному песку.
Белокожие ее стопы словно бы чуть прикасались к поверхности мокрого песка, но влага, пропитавшая песок, на какое-то вспыхивающее мгновение уходила вся из песка, выдавленная тяжестью тела, и тогда вокруг стоп как бы тоже вспыхивали на миг светлые ореолы.
И Бугорков в боголепном своем восхищении, замечая эти светлеющие пятна мокрого песка, понимал вдруг и с колеблющимся сердцем ощущал рядом с собой тепло тяжелой женской плоти и свое собственно присутствие, свое собственное «я», которое захлебывалось от привалившего вдруг счастья, не в силах просто и ясно представить себе, что рядом е ним шла та самая Верочка Воркуева, которая когда-то прогнала его, но которая все-таки, которая все-таки, все-таки! «Боже мой, – думал он, – неужели это она? И этот мизинец с розовой потертостью – ее мизинец? И эта голубая жилка на бедре – ее жилка?»
– Зря мы пошли, – сказала Верочка Воркуева. – У меня очень мало времени.
– Нет, нет! Вот видишь обрывчик? Это там… Там плаха долбленая и родничок.
В эти минуты он мог думать только о предметных вещах: вот река, вот песок, вот куст, а там родник. Все в душе его как будто распалось на части, которые невозможно было соединить логическими какими-то связями. Все как бы стало само по себе, и ему приходилось в мучительном напряжении разума постигать эти связи заново. Вот река, омывающая песчаный берег, вот он сам и она, идущая по гладенькому и прохладному заплесу, вот жесткий хруст мокрого песка, а вот мгновенные вспышки от их шагов, выжатые тяжестью их тел, а главное – вот она, та самая Верочка Воркуева, которой надо что-то сказать, о чем-то спросить, удержать ее внимание…. Но как? Но что? Но о чем?
Вот река, а вот сидит синяя стрекоза на осоке, и сейчас она взлетит… Вот она заплясала в воздухе. А вот и родник.
– Ну вот и родник, – сказал Бугорков, млея от предвкушения счастья.
Не того счастья, что он напьется сейчас ледяной воды, а того, что Верочка Воркуева наберет в пригоршни этой воды, к которой он привел ее.
Железисто-красные, радужные натеки и монотонный плеск тоненькой струйки…
– Ой, какой тут песок! – сказала Верочка Воркуева. – Ледяной!
Плавучий, размытый берег был пропитан подземным холодом. Струя воды, крученым хрусталем падающая с замшелой плахи, выбила себе ямку, выложенную цветными камушками. Из этой ямки, из чистого ее ведрышка, переполненного водой, выбегала узкая струя, прорезав глинисто-серое русло, которое около реки сходило на нет, а струя воды широко растекалась по песчаному наплыву, светло вдававшемуся в реку мягким языком.
Следы босых ног, глубоко и резко вдавившихся пальцев…
– Ты попробуй, – сказал Бугорков. – Ты в жизни не пробовала такой воды!
Ах, как старалась Верочка Воркуева нагнуться к струйке так, чтоб получилось это изящно! Как легко она присела на корточки! Как гибко выгнула спину, протягивая сомкнутые ладони к воде! Как улыбнулась, ополаскивая руки! Как поднесла к губам сочащуюся сквозь пальцы воду и впилась в нее губами!
И как пружинисто поднялась она, смывая мокрыми руками жар с лица, словно совершая молитвенный обряд, мусульманское какое-то омовение… И засмеялась, довольная собой, блеснув тоже омытыми как будто зубами!
Бугорков смотрел на нее как на чудо и, угнетенный, не мог сказать ей ни. слова, хотя и готов был прокричать о невыносимой тоске, которая вдруг вернула его на землю.
Он увидел перед собой чужую жену, мать чужого ребенка, которая очень скоро вернется в свою семью, к мужчине, семя которого выносила она в утробе, в муках родив сына, похожего, наверное, на отца…
Это жуткое, как ему показалось, превращение, перерождение Верочкиной плоти, кошмарный, как ему представилось вдруг, процесс зачатия, тяжелой брюхатости, прислушивания к развивающемуся плоду, тяжкая поступь с выпяченным животом и наконец роды – все это вдруг такой вопиющей нелепостью, таким несоответствием, такой тоской прошлось по сердцу, так он вдруг отчетливо представил себе безумное и отвратительное переплетение двух тел, занятых заботой о продолжении рода, что в холодном каком-то и черном поту, чуть ли не теряя сознание, стал на колени в ледяной холод земли и, зажмурившись, сунул голову под струю… Потом встряхнулся, как собака, всей головой.
И опять увидел ступни Верочкиных ног, серую глину, застрявшую между пальцами, между перстами, как он подумал о ее пальцах, увидел мраморно чистую легкую щиколотку с крошечной родинкой на полированном бугорке, и снова не поверил, что именно здесь, на берегу Тополты, у родника, он смотрит и видит наяву свою Верочку Воркуеву.
«Не-ет! – подумал он с вожделением. – Она моя! А потом уже… потом… Моя, конечно, господи боже мой! Ты ведь моя! – хотелось сказать ей. – Ну о чем ты сейчас думаешь? Ну скажи, пожалуйста! Неужели ты сама ни разу не подумала об этом? Ты ведь помнишь, да? Ну почему же тогда, господи! Почему же кто-то имеет право, а я, твой первый, лишен его? Ведь ты помнишь! Ты же моя!»
Чего бы он ни отдал за то, чтобы узнать сейчас, как и что о нем думала в эти минуты Верочка Воркуева! Каким вошел он в ее сознание?! Узнать бы эту тайну, увидеть ее глазами, ее сетчаткой, ее хрусталиком, ее мозгом, узреть себя в ней! Ведь как-то же он отразился, как-то вошел, как-то осознан ею?!
Бугорков ошибался. Она ничего не помнила. Лишь первое мгновение их встречи, когда она бросилась от него в реку, первый взгляд на Бу-горкова что-то ужасное вдруг напомнил ей, но в тот момент, когда она вышла из воды, она ничего не помнила и только поэтому не оттолкнула от себя Бугоркова. Конечно, она могла бы все вспомнить, но ей не хотелось, потому что в отличие от Бугоркова воспоминания эти были предельно неприятны ей, как если бы она вспомнила что-то постыдное, о чем люди вспоминать не любят.
Верочка Воркуева как бы уговорила свою память забыть обо всем, что с ней случилось в семнадцать лет. Она ведь даже Тюхтину не сказала в свое время, что это был Бугорков, а придумала какого-то несуществующего человека, уехавшего в Ленинград. Это могло показаться со стороны глупой и непонятной ложью, но именно таким вот нелепым образом она вычеркивала из сознания неприятную ей историю с Колей Бугорковым.
Выдуманного своего любовника она инстинктивно отправила в город на Неве и поселила в голове мужа, тем самым стерев в памяти Колю Бугоркова. А раз перестал существовать Бугорков, то и то, что было у нее именно С Колей, перестало быть реальностью.
Теперь она так уже привыкла к этой иррациональности, к этой мистической фигуре уехавшего в Ленинград, о котором знал даже муж, что она и Коле Бугоркову легко вернула все его прежние добродетели и была в конце концов рада встретить его здесь, потому что это был уже не тот, который причинил ей в жизни столько неприятностей, тот давно уже жил в других местах – в сознании мужа и в Ленинграде.
Если бы Верочка помнила все, она бы и разговаривать с Бугорковым не стала. Так что в некотором роде ему повезло: будь он другим человеком, с менее строгими нравственными устоями, и посмей он распуститься, увлечься своими страстями, неизвестно, чем бы это кончилось, как бы повела себя новая Верочка Воркуева с новым Колей Бугорковым, даже во внешности которого она нашла столько приятных и неожиданных перемен.
Но он остался все тем же Колей, который когда-то погнался за птичкой, был жестоко избит за это и теперь, как никогда раньше, умел смирять свои страсти, боясь хуже смерти новых побоев. «Работал», как хорошо поставленный, вежливый лаверак: жмурился и трясся в нервном ознобе от страсти, но «умирал» в стойке, не преступая заветной черты.
Здесь, у родника, он даже запах Верочки услышал – запах ее разогретой на солнце, горячей кожи, которая вовсе не пахла рекой, как порой утверждают романтически настроенные прозаики, или спелой рожью, полевым цветком или земляникой, – она душновато пахла человеческим потом с чуть приметной и неприятной примесью дешевых духов или какого-то крема или лосьона, которым пользовалась Верочка Воркуева, протирая им лицо на ночь или с утра, с привычной регулярностью массируя пальцами вокруг глаз, разглаживая морщинки, питая кожу пахучим и целебным жиром. Какая уж тут река!
Но для Бугоркова, который поспешая шел рядом с Верочкой, это был ее родной запах – этим или же почти этим запахом были пропитаны до сих пор хранимые театральные и концертные билеты, с этим запахом приходили ему на память ее комнатка, ее пальцы, ее волнение, когда запах этот слышался явственнее, ее усталость – с этим запахом он вспоминал и как пахли ее губы…
Совершенно обессиленный, он доплелся до пляжа, заметил боязливо озирающийся взгляд Верочки, увидел ее платье и босоножки в кустах… И странное дело! Усталость так разрушающе действовала на него, так безвольно подламывались ноги, что и купанье не помогло, не освежило. Ему казалось, что прошла вечность с тех пор, как он увидел Верочку, он даже почувствовал, что ему очень хочется, чтобы она поскорее ушла…
– Я тебя провожу, – сказал он, сопротивляясь этому неожиданному чувству.
– Ни в коем случае.
– Но ведь… это… Верочка, а как же? Я очень бы хотел… На полпути я уйду… ты одна придешь домой…
– Я сегодня, наверное, сгорела. Плечи горят, – ответила она, вдевая мокрые, облепленные песком ноги в босоножки.
– Давай я подержу тебя за руку, ты помоешь ноги, а то ведь натрешь…
– А! Чепуха! По дороге обсыплется. Я опаздываю, обещала к часу прийти…
– Боишься мужа?
Она хотела сказать, что муж в Москве, что ему не дают отпуск, но промолчала, нахмурившись.
– Прости, пожалуйста… Верочка, а придешь ли ты завтра? Я буду ждать. Если сочтешь нужным не говорить обо мне своим, не говори… Даже лучше, если не скажешь… А если у тебя будет время и охота, приходи сюда, ладно? Если, конечно, ты придешь с мужем, я даже и… вообще… ты можешь быть спокойна.
– А что мне беспокоиться?
– Нет, конечно, но я просто так, на всякий случай… Глупость, конечно… Но придешь ли ты?
– Если приду, то опять в это время… Мама часика на три отпускает, не больше… Я только четвертый день как приехала, а муж в Москве на работе, – сказала она машинально, забыв, что только что скрыла это от Бугоркова. – Конечно, одной в незнакомом месте… Там я все знаю, а тут, конечно, красота удивительная… В общем, не знаю, если приду, то опять так же, часов… часов… – Она нахмурилась, словно ей доставляла величайшую неприятность эта необходимость называть время, какая-то брезгливая гримаса появилась на ее лице. – Ну не знаю… ну часов в десять, одиннадцать. Какая разница! Но слушай, а вода в родничке – чудо! Такую воду в Москве продавать можно. Я думаю, о чем-то я все! Вроде что-то забыла сделать, а это я воду забыла выключить! – Она громко рассмеялась. – Ну там, на родничке, льется и льется… Ушли, а она льется! Жалко. А потом – привычка кран закрывать… Ладно, пока.
И в этом оживлении, душевном каком-то подъеме, взяв, под мышку свернутое платье и белье, она тяжело побежала прочь по песку, позвякивая жестяными пряжечками на босоножках, оставляя за собой остродонные лунки обсыпающихся следов…
Ни она, ни Бугорков не слышали, как две женщины на одеяле, провожавшие Верочку Воркуеву взглядами, лениво перебросились меж собой:
– Надо же, хворь какая! Глядеть страшно.
– Куда-то с мужиком ходила…
– Куда, куда! Куда надо, туда и ходила. Ишь, побежала, костями загремела. Страшна-то, страшна-то, господи. Небось думает – красавица.
И обе они, упитанные, сильные, толстые и разомлевшие, как в бане, посмеялись так же лениво и равнодушно, как лежали, как смотрели на реку, на бесформенные свои ноги и на все, что их окружало.
А Бугорков, оставшись один, с разбегу влетел в воду, как недавно это сделала Верочка, так же плюхнулся и поплыл к коряге, но река снесла его, и он, вцепившись ногами в текучее, песчаное дно, уже по грудь в воде, пошел навстречу течению, помогая себе руками, как веслами. Вода была так ласкова, так упруго и нежно напирала она на грудь, так тяжело было преодолевать этот напор, что, когда Бугорков уцепился руками за корягу, он почувствовал себя парящим между небом и землей…
Село Воздвиженское стало с того дня для Бугоркова целым государством, о котором он думал то как завоеватель, то как слабосильный, немощный сосед с разбитой наголову армией. То он победителем входил в это покорное ему царство, то постыдно бежал и скрывался, делая заячьи сметки, запутывая следы, и снова ждал своего часа, тайно надеясь на реванш.
Когда Верочка Воркуева долго не приходила на пляж, он, разжигая в себе боевой дух, шел в Воздвиженское, но как только церковь и крыши села показывались из-за деревьев, дух его слабел, и он возвращался бесславно назад.
Он даже в магазин теперь боялся ходить и отказывался под любым предлогом, когда Клавдия Васильевна или одна из гостящих в Лужках теток просили его услужить им в хозяйстве. Лишь однажды, перед днем рождения Клавдии Васильевны, который Бугорковы, заскучав от будней, решили торжественно отметить, он отправился за вином, натерпевшись страха в кислом духе сельпо, слабея при одной лишь мысли, что каждую минуту в магазин может войти Анастасия Сергеевна или же Верочка с мужем.
Спасением была, конечно, река! Особенно если он обнаруживал на песчаном берегу Верочку Воркуеву, приходившую всегда неожиданно, всегда являвшуюся ему уже в купальнике, уже как бы ожидающей его, но в то же время и с выражением приятного удивления на лице: «Как?! И ты, оказывается, тут? Очень мило!»
Она собирала свои волосы в незаплетенную, перехваченную бархоткой пушистую косу, очень внимательна была к себе, к каждому своему движению, день ото дня все более оживляясь, как яркая бронзовка, согретая солнцем, летающая и кружащаяся над цветущим шиповником, копошащаяся в розовых лепестках…
Кожа на плечах у нее шелушилась пепельно-тонкими кружевами. Она накидывала на плечи шелковый платок, завязывая его узелком на груди, и, не сговариваясь с Бугорковым, шла к роднику, зная, что он идет рядом, но словно бы и не замечая его.
Она хорошела с каждым днем, набиралась сил и надежд на полное выздоровление сына, рассказывала без умолку об Олежке, а Бугорков с обожанием слушал ее.
– Ты знаешь, о чем я все время хочу тебя спросить? – сказал он ей однажды. – Ты мне скажи, только честно! Ты и в самом деле идешь сейчас, вот здесь, рядом со мной, идешь по берегу, существуешь? Или мне это только кажется? Я никак не могу поверить, привыкнуть! Честное слово! Мне все время хочется дотронуться до тебя, прикоснуться кончиком пальца. Можно?
А она в ответ спросила у него с игривой усмешкой, с незнакомым доселе жеманством:
– Ну а как ты сам-то живешь? Расскажи о себе.
– Я очень хорошо живу, – ответил Бугорков, хотя и почувствовал, что она не такого ответа ждала от него, спрашивая о чем-то более важном и существенном, о какой-то запредельной, неизъяснимой жизни его духа. Казалось, она спрашивала: «Скажи мне, ты, Значит, до сих пор меня любишь, да?»
Но Бугорков и представить себе не мог свой ответ на этот смутно звучащий, кажущийся ему вопрос, он даже не складывался в его сознании – это было действительно за пределами его возможностей – ответить, или, вернее, просто сказать ей обо всем, что он чувствовал, находясь рядом с ней. Он оскорбить боялся своими чувствами Верочку Воркуеву, живущую только сыном, говорящую, мечтающую только о сыне, оживающую вместе с сыном, которая и его-то обласкала своим вниманием только лишь потому, что он был восхищенным ее слушателем, был живым существом того внешнего мира, для которого она выхаживала сына и перед которым как бы держала теперь ответ за него и за себя. Она как бы говорила всякий раз с восторженным умилением в сердце: «Вот видите, люди, я родила вам сына, а он заболел у меня, но я все сделала для того, чтобы он остался с вами в этой удивительной жизни. Я буквально все сделала для этого! Поверьте мне – все! Теперь я буду очень стараться, что-бы мой сын понравился вам. Примите же его с миром».