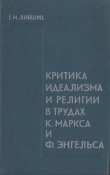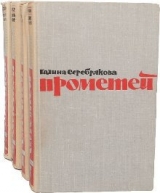
Текст книги "Юность Маркса"
Автор книги: Галина Серебрякова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 41 страниц)
Глава вторая
Трир
1Трир – одни из наиболее душных городов Рейнской провинции: скучный зеленый Мозель, густые леса, препятствующие набегу ветров, липкие испарения, туманы и тучи…
Омнибусы, дилижансы, кабриолеты и телеги спускаются в долину к Триру, либо взбираются на холмы, направляясь в сторону Кёльна. На почтовых станциях всегда есть ужин и ночлег для путников, овес и конюшня для лошадей.
Вдоль дороги, кое-где мощеной, встречается то распятие, то густо раскрашенная деревянная святая дева с младенцем на руках. В гуще деревьев прячутся католические монастыри.
В мае во всей провинции зацветают каштаны, акации и сирень, по нигде аромат цветущих деревьев не достигает такой пряной остроты, как в неподвижном воздухе затерянного среди холмов Трира.
Город живет строго размеренной жизнью: ровно в десять пустеют улицы, как бы ни пахли цветы и ни светили звезды.
…Два пешехода, вышедшие с Мясной улицы, ночной сторож да квартальный у полосатой будки были единственными живыми существами на площади Главного рынка в майский вечер 1834 года. Башенные часы укоризненно отсчитали четверть десятого и важно смолкли. Один из прохожих вынул золотую луковицу, проверяя время. Он подвинул стрелку длинным ключом.
Безлюдная прямоугольная площадь тускло освещалась керосиновыми фонарями.
На нескольких закрытых рундуках висели, как печати, огромные замки, под растянутым брезентом стояли стулья и корзины торговок. В центре площади возвышался фонтан, украшенный фигурой святого; четыре львиных головы по углам пьедестала равнодушно выплевывали воду.
Кое-где на мостовой валялись увядшие цветы и кожура фруктов. Площадь казалась мрачной, глухой.
Оживленно беседуя, прохожие обогнули площадь Главного рынка.
– Они обвиняют меня в превышении полномочий, – горячился один из них, размахивая черным, тщательно собранным зонтом. – Если вы помните, дело это касалось раздела изгородей общины Ирш. Сто четыре жителя остались мною недовольны и вот уже два года ведут тяжбу.
– Вам следовало бы апеллировать и добиться того, чтобы разбор дела перенесли из Трира в Кёльн, Генрих.
– Вы правы, этого я и хочу.
Приятели вошли в прихожую двухэтажного дома, освещенную керосиновой лампой, и аккуратно положили зонты и цилиндры подле множества других.
В низком, выкрашенном охрой зале, в густом табачном дыму, за газетой, чашкой кофе или кубком вина судачили десятка два мужчин в расстегнутых сюртуках. Эта комната и соседняя с ней, – где в полном безмолвии сидели игроки в вист, – были убраны с претензией на роскошь. На стенах висели литографии в дорогих рамах и портреты учредителей почтенного трирского «Казино».
Столы, как и стулья с высокими резными спинками, были из отличного дуба. На коричневом пианино покоились в футлярах две скрипки и кларнет: члены «Казино» ценили музыку. На этажерках вдоль стен лежали связки газет и журналов. С верхнего этажа доносились треск бильярдных шаров и споры игроков. Там же был зал, предназначавшийся для торжеств и банкетов по поводу прибытия знатных гостей или юбилеев наиболее почитаемых граждан и торговых фирм.
В большом зале нижнего этажа стояли подмостки и кафедра – на случай импровизированных концертов или деловых выступлений.
Жирная Эммхен – единственная женщина, постоянно прислуживающая в «Казино», – первая заметила пришедших и, приподняв поднос на уровень рогатого белого чепца, выговорила скороговоркой:
– Добрый вечер, господин доктор Шлейг! Добрый вечер, господин юстиции советник Маркс!
Вслед за Эммхен многие головы повернулись к дверям. Начались фамильярные взаимные приветствия.
Шлейг и Генрих Маркс заняли свои обычные места за столом возле кафельной печи. Оба они сидели на одних и тех же стульях, перед тем же столом едва ли не каждый вечер вот уже более десятилетия. Жители Трира отличались постоянством привычек.
Разговор в главном зале после девяти часов вечера обычно объединял всех присутствующих.
– Сегодня умерла старуха Рутберг и, вопреки надеждам родственников, оставила всего десять тысяч талеров. Из двух виноградников она завещала один своей горничной. Кто мог ожидать этого при ее скупости! – начал трирский нотариус.
Наследство госпожи Рутберг обсуждалось не более пяти минут.
– Положение в Париже остается тревожным: карлисты устраивают заговоры, на бирже сумятица, – сказал Шлейг, открывая газету.
– Мы в Германии, но крайней мере, не принуждены ежегодно ремонтировать города после пожаров и восстаний рабочих. А вот Лион отстраивается второй раз за последние три года. Признаюсь, я не поменялся бы теперь судьбою с самым богатым из тамошних буржуа.
– Вы предпочли бы стать гамбургским золотым мешком, – чуть улыбнулся Маркс.
– Еще менее того я, конечно, хотел бы быть лионским рабочим или владельцем тамошней мастерской, – продолжал Шлейг, не ответив на замечание друга. – Бедные люди просят хлеба, а получают пули. Опасная, однако, политика.
– Я имел удовольствие получить известие от многим здесь знакомого Бувье-Дюмолара, – начал мелодичным голосом судейский чиновник, встряхнув холеной, завитой бородой и приглаживая локон на лысеющем темени.
– Он кажется, служил у маршала Даву? – заинтересовался сидящий тут же пастор.
– Бувье-Дюмолар служил по соседству с Триром, в Кобурге, более двадцати лет назад и нередко бывал здесь. Я имел честь узнать просвещенного сановника в Кёльне, в превосходнейшем «Рейнском подворье», что на Сенной площади. Увы, он пишет, что даже смерть от холеры господина Перье не помогла ему вернуть утерянное благоволение короля. Л ведь в свое время, в дни первого Лионского восстания, он спас престол, предотвратив – уменьем и тактом – всефранцузскую революцию.
– Уход Дюмолара не доставил Ронскому департаменту спокойствия: восстания повторяются и префекты не задерживаются на месте, несмотря на то что угождают правительству, как только могут. Не много мудрости надо в наше время, чтобы править государством, но господин Гизо, видно, не имеет даже этой малости, – пробурчал Генрих Маркс, не выпуская изо рта трубки. – Кстати, что скажете, Шлейг, о заигрывании Луи-Филиппа с русским царем?
– К черту французов! – прервал юстиции советника патетический вопль, и учитель Хамахер вскочил на подмостки.
Доктор Шлейг, скользнув скучающим взглядом по суживающейся кверху фигуре, погрузился в чтение иллюстрированного журнала. Юстиции советник Маркс откинулся на спинку высокого кресла и медленно отпил красного вина. Его подвижные темные глаза, глубоко спрятанные под выпуклым лбом, иронически сощурились. Свободной рукой он механически поглаживал седеющую бороду. Здесь, среди светловолосых и белолицых людей, Генрих Маркс казался еще чернее и смуглее. Он будто сошел с висящей над пианино литографии, изображающей привал бедуинов у колодца в Сахаре.
Двадцатишестилетний учитель немецкого языка, самый молодой член «Казино», Вильгельм Хамахер, был неистовым патриотом немного, однако, устаревшей формации. Он все еще считал Францию главным источником бед и неурядиц на родине и не уставал предавать ее анафеме. В своих речах он неизменно воспевал значительно поблекший с годами «голубой цветок единения и свободы» и звал назад, к тевтонской культуре. Он носил старинное одеяние предков: бархатную блузу с огромным белым откидным воротником. Прическа, на которую учитель затрачивал не менее часа каждое утро, являла собой сложнейший беспорядок, который некогда – по его, Хамахера, предположению – царил на тевтонских головах, расчесываемых главным образом пятерней.
Хамахер, отчаянно жестикулируя, пытался утопить французов в бурных водах красноречия.
– Гнет чужеземцев преодолеете не вы, зараженные язвой века, а великий, ведомый королем, нетронутый народ, – кончил он, простирая руки к Эммхен, появившейся в дверях с неизменным подносом.
Мировоззрением своим многоречивый учитель был обязан Геттингенскому университету, где учился в середине двадцатых годов. С тех пор многое изменилось в Германии, – созрели и дошли до Трира новые идеи. Но Хамахер был непоколебим и упорен, как и надлежало древнему германцу: он никогда не имел обыкновения пересматривать то, что не без труда усвоила его узкая голова, закапчивающаяся тевтонским чубом.
Покуда Хамахер ораторствовал, юстиции советник Маркс, опустошая граненый графин, не переставал посмеиваться в бороду.
После Хамахера заговорил, не поднимаясь с места, заезжий гость – адвокат из Франкфурта. Он пытался возражать учителю, доказывая, что национальные идеи отныне сталкиваются уже не с французским гнетом, а с прусским деспотизмом. Как бы случайно оброненное слово «конституция» прозвучало в притихшем зале выстрелом.
Шахматисты, пробудившись, покинули столы и сгрудились в дверях, Предусмотрительная Эммхен закрыла окна, хотя улица была безнадежно пуста. Генрих Маркс приподнялся, перестал щуриться.
Франкфуртский адвокат напомнил про обещание короля дать конституцию.
– С тех пор прошло почти двадцать лет, но мы ждем, мы верим, что никто не решится нарушить слово короля.
– Это может сделать сам король, – резким, звонким голосом ответил Генрих Маркс и тяжело закашлялся.
Франкфуртский адвокат подозрительно оглядел зал и поспешил перейти к менее рискованным темам. Обсудили виды на урожай винограда и ожидающиеся гастроли кёльнской оперы.
Король Фридрих-Вильгельм III не только не исполнил клятвы, по подверг жесточайшим репрессиям всех, кто не хотел забыть то, что забыл он сам. Тюрьмы были переполнены, гонения усиливались. Отзвуки Июльской французской революции, лионских восстаний, борьбы за Польшу разъярили прусское правительство, старавшееся подмять под себя все тридцать шесть германских государств.
Мрачный, деспотический прусский король безжалостно преследовал малейшее проявление вольнолюбия.
За разговорами члены «Казино» успевали опустошать множество бутылок и графинов, наполняемых Эммхен в погребе.
Стук бильярдных шаров становился все громче, споры наверху усиливались, языки развязывались. Игроки в вист тихонько напевали песенку мозельских виноделов.
С конца двадцатых годов цены на вино стали падать: для мозельских виноградарей пришли времена жестокой нужды.
Мы живом в прекраснейшей из стран на земле,
благословленной богом.
Но проклятые таможенные пошлины сделают нас
нищими.
Ах, если б знать, кто виновник пошлин на наше
вино!
И даже если б то был пруссак, клянемся честью,
он очутился бы в Рейне, да, в Рейне.
Доктор Шлейг, сидящий в центре небольшого кружка друзей, потребовал черного кофе, которым обычно запивал майнский рислинг.
– «Он очутился бы в Рейне»… – подхватил он напев виноделов и вдруг, взглянув на большой календарь с портретом усатого, мутноглазого Фридриха-Вильгельма Прусского, хлопнул себя по лбу: – Двадцать седьмое мая! Вторая годовщина празднества в Гамбахе, когда, идя под черными знаменами, мы пели эту же песню! Я провел лучший день жизни вместе со старым ворчуном Бёрне, Друзья мои, это героическая, вечная в истории Германии дата.
Он замолчал, отдавшись воспоминаниям.
Генрих Маркс, старавшийся оживить свою помертвевшую, полную пепла, трубку, повернулся ближе к Шлейгу, который ему говорил:
– Должен сказать, торжество было проникнуто подлинным либерализмом, добрым радикализмом и, несмотря на близость Рейнской долины с ее романтическими развалинами, замутившими мозги наших поэтов, – безупречным реализмом.
– Не слишком ли много «измов», – сухо вставил Маркс.
– Генрих, вы недоверчивы, как греческий философ, – ответил за Шлейга гимназический учитель древних языков.
Шлейг, не обратив внимания на реплики, продолжал:
– Мысль о возрождении отечества преисполняла паши сердца. Зибенфейфер говорил как якобинец. Это смелый человек. После него выступали ремесленники. То было братание всех классов. Каким единством дышали призывы ораторов! Студент Вирт немного перехватил через край, когда поднял бокал за республиканскую Европу, но бедняга поплатился жестоко…
Эммхен принесла полный графин и посеребренные кубки с надписью: «Пей до дна во славу божию».
Никто не стал расспрашивать о Вирте, отбывавшем тюремное заключение.
– Торжество закончилось добрым веселием, – добавил Шлейг. – Я горжусь тем, что пил многолетие не только свободной Германии, но и Польши и Франции. Выпьем, друзья мои, за двадцать седьмое мая!
Несколько человек нерешительно пригубили кубки.
– Выпьем за франков! – предложил внезапно Генрих Маркс.
– За Германию, за Рейнландию! – закричали сразу несколько голосов.
Шлейг, перескакивая через столы, опрокидывая стулья, добрался до пианино. Генрих Маркс затянул «Марсельезу».
Полутрезвый Хамахер, разбуженный пением, пытался заглушить хор отчаянным «Позор!».
Франкфуртский адвокат и пастор вытолкали учителя за дверь. Почтенные трирские обыватели отсчитывали такт песни кубками. Генрих Маркс удачно дирижировал пустой бутылкой.
Все новые и новые голоса присоединялись, подхватывая гимн французов. Но едва хор начал второй куплет, по лестнице со страшным грохотом скатился бильярдный шар, а за ним – некто в расстегнутом мундире.
– Молчать! – заорал прусский офицер с головой голой и круглой, как бильярдный шар. – Кто здесь оскорбляет прусскую армию? Я вызываю всех здесь присутствующих на дуэль завтра же на горе Святого Марка. Моя шпага к вашим услугам! Если угодно – пистолеты, – я готов. Господа, позорное поведение ваше не останется тайной для короля.
В зале началось смятение. Кое-кто попытался спастись бегством. Франкфуртский адвокат многозначительно снял сюртук и засучил рукава.
В ответ офицер застегнул мундир на все восемь золотых пуговиц. Но драку предотвратили Шлейг и пастор.
Юстиции советник Маркс, казалось, не замечал происходящего и, повернувшись спиной к прусскому гвардейцу, продолжал петь «Марсельезу», размахивая бутылкой перед значительно поредевшим хором.
2Каролина фон Вестфален, сидя в беседке, обвитой виноградными лозами, вязала; это сызмальства было ее излюбленным занятием в сумерки. На зеленой скамье, прижав край шуршащей полосатой юбки, лежал томик грустных стихов Китса в коричневом переплете с золотым тиснением и баронским гербом. Из нарядной корзинки пушистыми птенцами вываливались мотки шерсти.
Каролина сидела, откинувшись на бархатную подушку, положив ноги, обутые в сафьяновые башмачки без каблуков, на низкую скамеечку. Если бы не равномерное движение спиц в узких руках, унизанных кольцами, она казалась бы спящей. Из открытого окна в сад лилась музыка.
Пасынок госпожи Вестфален, Вернер, доигрывал насмешливый менуэт Моцарта.
Выведенная из задумчивости треском гравия под тяжелыми шагами прислуги, Каролина спросила о дочери.
– Барышня Женни и господин Эдгар ушли на Брюккенгассе, – последовал ответ, и старая служанка укутала плечи госпожи кружевной шалью.
– Ушли, не спросив разрешения у матери! Таковы нравы нынешнего века, – заметила Каролина с притворной досадой.
До беседки докатился взрыв бодрого смеха.
Госпожа Вестфален встрепенулась, густо покраснела, торопливо расправила чепец в узких оборочках, лентами подхваченный ниже подбородка, и кокетливо спустила вдоль корсажа концы дорогой шали.
Людвиг фон Вестфален, в сопровождении двух сыновей, быстро шел к жене.
Советник прусского правительства в Трире только что вернулся из Берлина, куда ездил с докладом о положении подчиненных ему госпиталей, тюрем и благотворительных учреждений.
Это был рослый, крепкий пятидесятилетний человек с большой мужественной головой. Старший сын Вестфалена, шедший подле отца, казался одновременно его копией и карикатурой на него. Большие ясные глаза, умные и ласковые у советника, смотрели нагло и тупо у его сына; упругий добродушно-насмешливый рот старшего Вестфалена расползся похотливо и жестоко на чрезмерно жирном лице младшего. Даже в одинаковом рисунке и цвете усов сказывалось совершенное различие: тщательно подстриженные колючие усы Людвига вовсе не имели вызывающего чванства усов Фердинанда.
В 1812 году, в пору французского владычества, овдовевший субпрефект Зальцведельского округа в Эльбском департаменте фон Вестфален женился на Каролине Гейбель. Она попыталась сблизиться с четырьмя детьми мужа от первого брака, но только младший пасынок Вернер ответил ей нежным доверием.
Фердинанд не часто бывал в родительском доме, и отношения его с мачехой оставались всегда только вежливо-безразличными. Сводные сестры и брат были значительно моложе первенца советника Вестфалена.
Каролина слыла в трирском обществе надменной не столько из-за природной нелюдимости, сколько из-за видного в чиновничьем мире положения мужа и знатного происхождения.
Людвиг Вестфален своим умением ладить с людьми представлял полную противоположность жене.
Обаянию Вестфалена не легко было противостоять. Всесторонне образованный, легко разбирающийся в людях, он был страстным эпикурейцем, преклоняющимся перед античной культурой. Гомер с детства заменил ему Библию. Советник исчерпывающе знал греческую поэзию и философию.
…В беседке, обвитой виноградными лозами, Людвиг Вестфален с охотой передавал жене и сыновьям свои путевые впечатления. Он был в отсутствии более четырех недель. Каролина не могла удержать слез, вспоминая минувшую разлуку.
– Друг мой, какое счастье, что лошади не понесли! Спуск такой крутой, и дорога не везде мощеная… – прервала она мужа, согревая дыханием вышитый платок и утирая уголки глаз.
– Не беспокойся, дорогая. Я, как видишь, цел и невредим, да и, по правде говоря, не могло быть иначе. Мы проехали весь путь без каких бы то ни было осложнений. На обратном пути остановились в Оснабрюке, ночевали в гостинице «Кривого локтя». Так как положено было дать отдых лошадям, я имел время посмотреть ратушу, где заключен был Вестфальский мир. Комната небольшая, с выпуклыми изображениями на потолке. По стенам – портреты государей и министров.
– Отец оседлал любимого конька, – резко отчеканил Фердинанд.
Каролина негодующе посмотрела на пасынка.
Стемнело. Гулко ударяясь о беседку, пролетали жуки. На свежих виноградных листьях, на траве проступала роса. Семья Вестфален покинула сад.
– На прусской границе таможенный пристав, отставной унтер-офицер австрийской службы, – рассказывал советник, взяв под руку жену, – был очень учтив со мною, но зато он не пощадил дамы, прибывшей в следующей за мной карете. Ей пришлось открыть двенадцать сундуков и множество корзинок, полных разных безделушек. За три фунта чая, найденных там, пристав потребовал девять с половиной серебряных грошей пошлины. Дама засуетилась и дала целый талер, из чего я заключил, что главного-то у нее не отыскали. Как досаждают все эти таможни, когда пересекаешь границы между Триром и Берлином! Случалось мне проезжать государства величиной с наш виноградник. Острословие господина Гейне не лишено справедливости, когда он отмечает, что некоторые из наших княжеств легко унести на подметке башмака.
Приближение Женни, как и Людвига Вестфалена, сопровождалось сочным переливчатым смехом, невольно заставлявшим улыбнуться всякого, кто его слышал. Так было и в этот раз.
Нарушая, по мнению матери, все положенные приличия, молодая девушка ворвалась в комнату и, широко раскинув руки, побежала к отцу, опрокидывая стулья, уронив перекинутый через плечо шарф, теряя черепаховые булавки. Людвиг едва успел подхватить свою любимицу.
Женни в последние годы удивляла его своей четкой красотой. Эдгар, внезапно нырнувший под арку переплетенных рук, загородил сестру. Отец приветствовал его ласковым широким жестом. Вестфален считал унизительным поцелуи между мужчинами, а Эдгар был уже почти мужчиной, хотя голос его все еще звучал по-девичьи звонко и, разговаривая, он все еще надувал неоформившиеся пухлые щеки, как делал это в раннем детстве. Неуклюжий, с непомерно большими, болтающимися вдоль топкого тела, как плавники, руками, Эдгар выглядел моложе своих пятнадцати лет. Все в нем было в процессе формирования – тело и мозг.
Казалось, не будет конца разговорам в старом вестфаленском доме. Но стрелка часов угрожающе подступала к девяти.
Первой жертвой ее был Эдгар.
Мальчик сидел в эту минуту на ручке огромного кожаного кресла, заслушавшись монологом Юлия Цезаря, который вслух читал отец. Короткое, разделенное на два слога «Эдгар», произнесенное Каролиной, мгновенно развеяло образы шекспировской трагедии. Советник, улыбнувшись в усы, отложил книгу.
Женни сочувственно посмотрела вслед брату.
Трир дремал. В открытое окно гостиной видны были спокойные лесистые холмы. Между ними, как нож между ржаными хлебами, лежал стальной Мозель.