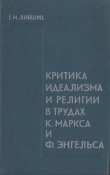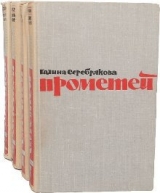
Текст книги "Юность Маркса"
Автор книги: Галина Серебрякова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 41 страниц)
– Довольно! Постыдитесь, Арнольд! Такой речи позавидует каждый филистер. Не брак, а любовь накладывает обязательства. Какое право имеем мы вмешиваться в сердечные дела Гервегов. Он не изменил своей идее и не продал своей лиры. Отчего же подняли вы такой шум?.. Гервег – большой поэт. Перед ним славное будущее. Я протестую против того, чтобы его обзывали люмпеном. Он не лицемерный ханжа, как иные, объявляющие себя на всех перекрестках крайними социалистами. Он смелый боец. Мы еще увидим его на баррикадах. Не знаю, кто будет с ним рядом. Избавьте же меня и Женни от подобной клеветы на друга. Мы не изменим своего отношения к Гервегам. Мы им не судьи.
Широкая складка легла на неровном лбу Карла. Подбородок его дрожал. Женни знала этот симптом накапливающегося гнева. Онемев от негодования, госпожа Руге выплыла из комнаты.
– Я понимаю, кого ты имеешь в виду, – сказал Арнольд. – Я считал тебя надежным, уравновешенным демократом, и в этом таилась моя ошибка. Ты – отщепенец, перебежчик. Бруно знал тебя лучше. Как я и говорил, ты катишься в бездну коммунизма, твои статьи и мысли начинены порохом, который взорвется, и я не поручусь, что, разорвавшись, он не уничтожит тебя раньше, чем ты направишь его против врагов. Одумайся, Карл!
– Ого, проповедь! Нужно ли все это? – сказала Женни, заметив, как мрачнеет Карл.
– Не мешайте мне говорить, госпожа Маркс, вы ослеплены любовью к нему, вы, конечно, не видите опасности. Остановись, Карл! Одумайся! Ты оставил кафедру профессора, чтобы стать влиятельным журналистом, теперь ты хочешь стать вождем. Приветствую. Но кого хочешь ты повести за собою? Кого? Ремесленников и пролетариев. Темную массу, которая страшна, когда просыпается. Променять прозрачные идеи великой демократии на муть коммунистического учения?
Руге вдохновенно поднял руку и с видом прорицателя смолк. Покуда он говорил, Карл спокойно надевал пальто, собираясь в библиотеку, где работал по утрам. С порога комнаты он сказал отрывисто и сухо:
– Я рад, что ты поставил точку над i. Подобный разговор был неизбежен. Твое уклончивое отношение к мировоззрению, которое кажется мне достойным глубокого изучения, твои недомолвки ставят перед нами не одну проблему. Жалею, старина, но мы, очевидно, вскоре похороним нашу дружбу. А жаль!
Короткая перепалка с Руге взволновала Карла. Он шел быстрее обыкновенного. Сколько раз приходилось ему терять навсегда друзей! Бауэры, Рутенберг… Кто виноват? Виноватых нет. Кто же прав? Об этом скажет время.
«Я боюсь, не иссушишь ли ты твое сердце», – вспоминалась Марксу давно отзвучавшая беседа. Сердце бойца, сердце революционера – оно из стали. Оно умеет жалеть, но не прощать.
«Что такое дружба? – спрашивает себя Карл. – Это борьба на одной баррикаде, это единая колонна, это руки, выковывающие меч, пишущие прокламации. Это глубокая убежденность и общее сомнение, это общее дело, жизнь и смерть». Обыкновенно, соскучившись, мысль Карла от маленьких частных дел быстро переходила к большим вопросам мира. Сердце… сердце… Сердцем освобожденного человечества явится пролетариат, головою – философия.
Презрительная гримаса сжала губы Маркса. Насмешка, холодная и непримиримая, мелькнула в глазах. Странное чувство легкости, свободы овладело им.
«С этими людьми мне некуда идти».
Сколько раз решал он подобным образом и сворачивал восвояси! Руге остался где-то далеко позади него, где-то в подворотне, смрадной и пустой.
В библиотеке, в зале чинной и покойной, горели свечи и лампы. Было тихо и торжественно. Храм мысли. Шуршали листы каталогов и книг. Точно вздохи. Карл глубоко втянул воздух, чуточку призакрыл веки. Он любил эту тишину, этот запах стареющей бумаги. Вокруг было столько знакомых. С полок они смотрели на него.
Четвертый, только что вышедший том «Истории десяти лет» Луи Блана ждал его со вчерашнего дня. В малахитовом переплете лежало несколько минувших лет.
Время, завернутое в бумагу. Карл читал невероятно быстро. В памяти оставались нужные, важные подробности недавнего прошлого. Иногда он выписывал что-то, отмечал страницы в принесенной тетрадке, условным значком обозначал прочитанное.
Ненасытная жажда знаний все еще владела его умом. Великая потребность обобщить все политическое, социальное и культурное многообразие жизни, охота подчинить его одной, всеисчерпывающей точке зрения гнала его от идеи к идее, к синтезу. В эту пору он зачитывался также мемуарами Левассера.
Книги, окружающее, люди были для Маркса лишь послушными помощниками. Зодчий стремился воздвигнуть здание, они поставляли ему необходимые камни. Неисчислимые часы мог проводить Карл в величественном молчании читального зала. Он не знал трудностей в научных изысканиях, не боялся строгой абстракции.
Пока Карл, позабыв обо всех заботах, склонившись над книгой, сидел в Национальной библиотеке, Женни и Елена занимались хозяйством. Роды близились. Женни была спокойна и счастлива. Как и Маркс, она нежно и терпеливо любила детей. Пока что рыже-серый котенок получал щедрую порцию ее нерастраченной материнской нежности. Кот был избалован и лукав. Он притворялся, что с трудом терпит ласку.
В полдень к Женни пришла Эмма Гервег. Она была очень некрасива сегодня. Покрасневшие от слез глаза, опухшие щеки и губы. Лицо под неровным слоем пудры серое, прыщавое. Едва сбросила мантильку, начала жаловаться и снова плакать. Говорила о том, как любит Гервега, как для него согласна всем пожертвовать. Ведь гении – трудные люди, црихотливые и деспотические.
– Хорошо вам быть подругою Карла. Он очень талантлив, конечно, но не Гервег, – заметила мимоходом Эмма.
Женни слегка улыбнулась и ничего не возразила. Поэтом Маркс не был.
– Моя любовь Гервегу необходима, – шептала между тем Эмма. – Без моего обожания он не может обходиться, как без зеркала. Я – его эхо. Графиня д’Агу так любить не сумеет. Я его избаловала. Кто будет думать об его уюте, кто сумеет подбадривать его, укреплять уверенность в его высоком жребии? Поэты – дети: то дерзкие, то плаксивые. Конечно, ему нужны разнообразие, игра чувств, переживания, но, ох, мне нелегко… нелегко уступать.
Тяжелое молчание.
– Разве я так уж некрасива?
Эмма вскочила и принялась вертеться перед зеркалом. Тугая амазонка хорошо облегала стройное тело. Под опущенной вуалью лицо казалось вовсе не отталкивающим. Черты его женственнее, мягче. Женни с интересом наблюдала за ней.
– Что ж, я пережду – он вернется. Только бы графиня не забрала, не околдовала его совсем. Она своевольна. Но, между нами говоря, ханжа. То мучает его холодностью, то чрезмерной требовательностью. Если Гервег заболеет, ей не простит этого история…
Эмма откинула вуаль с лица.
– Скажите, Женни, как отнеслись бы вы к измене возлюбленного?
(Слово «муж» она избегала употреблять, считая его вульгарным, недостойным ее возвышенно-сложных отношений с Гервегом.)
– Я? – удивлению Женни не было предела. Засмеялась Елена Демут. – К измене Карла?.. Измена, – сказала Женни медленно, – всегда либо фарс, либо нечто очень сложное. Измена – это трещина в любви, морщинка на сердце. Я не хочу думать об этом. Могла бы я изменить? Нет. Значит, не может и он. Мы равные в своем чувстве.
Женни встала. Надменная полуулыбка, назад откинутая голова.
Эмма торопливо начала собираться домой.
После ее ухода Женни долго сидела в раздумье, широко раскрыв глаза. Елена тщетно пыталась отвлечь ее от напряженных, строгих мыслей.
Бывают редкие минуты, когда человек как бы заглядывает в свое возможное будущее. Может быть, он находит его контуры среди затаенных желаний. Женни видела себя и Карла зрелыми, почти старыми. У них – дети. Но рука в руке, но плечо к плечу. Главное – быть всегда рядом, друг возле друга. Каково окружение – ей было все равно. Охватило предчувствие лишений, трудностей. Что ж! Удел Карла – ее удел. Было в этом предполагаемом будущем много забот, бедности, борьбы, поражений и побед, но не было боли разочарования, сожаления о потерянных годах.
И когда опить веселый, торопящийся поделиться с женой мыслями, Маркс пришел домой, Женни бросилась к нему и долго нежно обнимала. Но молчала, не спрашивала ни о чем.
2Женни родила первого мая. Карл в комнатке Ленхен подле кухни ждал исхода родов. Он курил не переставая. Дым пропитал его тело и одежду. Беспокойство гнало в коридор, на лестницу. Он метался. Стопы за стеной становились сильнее, переходили в крик. Ленхен, вся в белом, появлялась с ведрами, тазами и уходила вновь. Она не отвечала на расспросы.
Была чудесная весна. На улице Ванно зацветали каштаны, как в Трире. Бело-розовые тугие цветы засматривали в окна, раздражая Карла. Женни так страдала. Цветы были теперь некстати.
Наконец на свет появилась маленькая девочка. Карл, измучившийся, но счастливый, нашел дочь красавицей и сказал важно:
– Ее имя будет Женни, лучшего человечество не создавало.
Вечером явился Гейне, неловко передал госпоже Маркс смятые под плащом цветы. Вскоре зашли и Гервеги. Эмма трепеща целовала ножки и ручки новорожденной. Карл откупорил бутылку рейнвейна и поднял бокал в честь двух Женни.
При виде мастеровых, пришедших с поздравлениями, Руге, на мгновение задержавшийся на площадке перед входной дверью, сказал:
– Поздравляю Карла не только с дочерью, но и с толпой приверженцев. Полтора пролетария с тобой во главе, конечно, уничтожат реакцию и установят коммунизм. Надеюсь, вам это удастся не скоро.
Карл не удостоил недавнего союзника ответом. Изнуряющая вражда установилась в доме тридцать восемь на улице Ванно, скромной улице, примыкающей к многотысячному Сен-Жерменскому предместью.
В послеродовые дни Ленхен с утра выгоняет Карла из дому.
– Встречайтесь с вашими друзьями где-нибудь в кофейной. Здесь и так тесно. Женни нужен покой, – говорит она повелительно.
Возражать бесполезно, и Карл нехотя берется за шляпу. Ему жалко отрываться не только от работы, но и от плетеной колыбельки, где лежит нечто красное, маленькое, имеющее все человеческие признаки, издающее трогательные мяукающие звуки и уже сосредоточившее на себе огромную любовь двух людей.
Дела много. Нужно ответить на письма. Для этого лучше всего зайти в маленькое кафе возле почты. На мраморном столике легко пишется. Юнг в Кёльне занят распространением ввозимых контрабандой «Немецко-французских ежегодников». Как идет дело? Порывшись в карманах в поисках карандаша, Карл вспоминает о безденежье и материальных трудностях, на которые с первых дней обречена его семья. Скоро ли Юнг пришлет ему деньги? Маркс хмурится. Тяжелы эти поиски средств существования. Бедная Женни, как старается она экономить, не досаждать ему! Он чувствует свою ответственность перед ней и ребенком, страдает от невозможности дать им самое необходимое.
Упрямое, решительное «отобьемся!» срывается с его уст.
К делу, к делу!.. Обер-президиум в Кобленце дал пограничным властям приказ об аресте Маркса. Итак, год в Париже, статьи и выступления в клубах не прошли даром. Прочитав об угрозе немецких властей, Карл ощущает удовлетворение, приток новых сил. Значит, то, что он делает, нужно, важно, существенно. Значит, выпущенные снаряды попали в цель. Пусть на угрюмой громаде прусской монархии его перо образовало лишь одну видимую трещину. Пусть. Разве не из трещин образуется впоследствии пропасть!
«Мы не сдадимся!»
Карл вспоминает о дневном собрании немецких ремесленников на улице Венсен у Барьер-дю-Трон, о своем намерении побывать там.
После бурных споров, еще разгоряченный, он идет оттуда в Национальную библиотеку. Там ждут его книги. Горбатый дряхлый библиотекарь почтительно встречает Маркса. Этот немец – не обычный читатель. И библиотекарь благоговейно приносит ему книги. Он несет их впереди себя, и кажется, что горб его переместился. Адам Смит, Рикардо, Джемс Милль, Сей, Шульц… Француз кладет книги на стол так осторожно, как только может, и спешит за второй партией. Тут иные имена. Библиотекарь прижимает к сердцу памфлеты Марата, речи Робеспьера, Мирабо, Бриссо, отчеты Конвента, разрозненные номера газеты Демулена, мемуары мадам Роллан и Левассера.
– Какие это люди, какое время! Увидим ли мы таких героев, услышим ли мы подобное непревзойденное красноречие? – шепчет горбун.
Маркс вытирает перья, готовясь писать конспекты.
Не таких еще героев и не такое красноречие узнает мир!
Библиотекарь стар, Карл молод. Перед ним десятилетня жизни.
Каких-нибудь пятьдесят лет, чуть больше, отделяют его от французской революции. Не затихла с тех пор Европа. Неугомонная Европа.
Все может быть, и все будет. Кризисы, войны, революции.
Библиотекарь не верит. Настоящее кажется ему незыблемым…
Карл перелистывает книги. Он отмечает ошибки якобинских стратегов, и, однако, не это, по его мнению, определило тот, а не иной путь революции. Что же? И Рикардо и Адам Смит приходят на смену Робеспьеру. Но и экономическая наука не исчерпывает поставленного вопроса. Карл читает, конспектирует, ищет причин. История – как военная карта на столе полководца. Даты – как поля битв.
Тени великой революции окружают Маркса. Шаг за шагом он идет по ее следам. Он спорит с мадам Роллан, он обвиняет ее в слепоте и узости. Жирондисты говорят с трибуны Конвента.
– Чьи интересы вы защищаете? – допрашивает их Карл. – Вы, настойчивые предки нынешних буржуа у власти…
Марат, больной и раздраженный, принимает Маркса в своей каморке. Он в ванне, покрытой простыней. Он громит врагов народа. Революция в опасности, реакция наступает изо всех щелей республики. Справа и слева.
– Слева? – переспрашивает Маркс. Жак Ру, Леклерк, Клара Лакомб – люди предместий. Их тоже преследует язвительный вождь мелких буржуа, которого завтра пронзит кинжал монархистки-дворянки…
Карл идет мимо дома Марата на улице Кордельеров. Он торопится в Конвент. Но не пышные слова ораторов интересуют его. В комнате подле зала лежат списки верховного органа революции.
– Покажите мне их, – требует Карл.
Тонконогий писец в голубом кафтане подает ему нарядную тетрадь. Маркс смотрит в графу о профессии. Юристы, торговцы, солдаты. Он уже готов отложить списки.
– Неужели ни одного?
– Кого ищет гражданин?
– Рабочих.
Писец в затруднении.
– Есть, – говорит он, ударив себя по лбу, – есть один член Конвента, рабочий из Реймса. Есть и еще один. А вот это ремесленник…
Карл благодарит и уходит, едва заглянув в списки.
Девятого термидора – в ратуше. Вместе с Филиппом Леба выглядывает он на площадь. Не колебания Робеспьера волнуют его, не болтовня делегатов из секций, не смерть якобинцев. Безлюдная площадь кажется ему приговором. Равнодушие окраин страшно, как гильотина. Карл опускает голову в большом раздумье. Быстро бежит перо по узким листам. Дата за датой. Тетрадь за тетрадью.
Смеркается, когда Маркс отрывается наконец от книг и конспектов. Улицы вокруг библиотеки темпы, узки, невеселы, как в дни, когда тележка бравого палача Самсона провозила по ним на Гревскую площадь дань «народной бритве» – гильотине. На углу старик, помнящий Наполеона, продает газеты. На последней странице, между подробным описанием убийства из ревности и советами хозяйкам, – краткое сообщение о восстании ткачей в Силезии. Незыблемая европейская почва снова колеблется. Карл сорвал шляпу и помахал ею в воздухе. То был немой клич, бодрое приветствие. От Бреславля до Майнца, от Регенсбурга до Штеттина, над всей Германией шквалом пронеслись бунты и восстания. Силезцы не одиноки.
На улице Ванно Марксы читают стихи Гейне:
Без слез их взор, печальный и угрюмый,
Сидят у станка и скалят зубы:
«Германия, ткем мы саван твой,
Проклятье трехцветное ведем каймой, —
Мы ткем, ты ткем!..
Проклятье богу, кому сквозь голод
Молились мы, – сквозь голод и холод;
Напрасно мы ждали за часом час:
Он обманул, одурачил нас, —
Мы ткем, мы ткем!..
Проклятье королю, злому владыке,
Кого не тронули наши крики,
Кто выжал из нас последний грош
И дал нас, как скот, повести под нож, —
Мы ткем, мы ткем!..
Проклятье отечеству, родине лживой,
Где лишь позор и низость счастливы,
Где рано растоптан каждый цветок,
Где плесень точит любой росток, —
Мы ткем, мы ткем!..
Станок скрипит, челноку не лень:
Мы ткем неустанно ночь и день,
Германия старая, ткем саван твой,
Тройное проклятье ведем каймой, —
Мы ткем, мы ткем!..»
Под страхом ареста Карлу запрещен въезд в Германию. Маркс становится опасен, одно его имя грозит прочности трона, мешает спокойному пищеварению многоликих буржуа. Бывшие друзья, узнав от Руге, что шалый Маркс сошелся с немецкими подмастерьями-коммунистами в Париже, злобно напали на него. Неистовство политической вражды безгранично. Ненависть дезертиров и перебежчиков ядовита и зловонна.
Женни не всегда остается равнодушна к пасквилям, но Карл веселится от всей души, перечитывая смесь лжи и бессильной злобы.
– На войне как на войне, – говорит он. – Классовая борьба беспощадна. Это борьба не на жизнь, а на смерть.
«Спутанные волосы Маркса черны, как уголь, а цвет лица грязно-желтый, – пишет пасквилянт. – Наполовину закрытый лоб необыкновенно шишковат, причем особенно выдаются узлы над глазами, противовесом которым являются «органы разрушения» за широко расставленными ушами».
В этом месте чтения ярость Женни проходит. Трудно удержаться от смеха. Женин обнимает Карла и, тщетно разыскивая «органы разрушения», целует его виски.
«Всему его лбу, как и чертам лица, недостает элемента благородства и идеальности. В маленьких темных близоруких глазах, прикрытых упомянутыми шишками, играет огонек, представляющий собой смесь ума и злости…»
– Какой силой надо обладать, чтобы вызывать столько злословия… и любви! – замечает Женни с гордостью.
Иоганн Сток жил в конце улицы Вожирар, возле шлагбаума. Женевьева выбрала эту улицу. Привлекла ее сельская простота, но главное – квартирная плата была на окраине доступна. Длинная Вожирар примыкала к сырому пригородному лугу. В непросыхающих лужах копошились гуси и утки. Маленькому Иоганну казалось, что он все еще в Медоне.
Сток предпочитал жить подальше от немецкой колонии, где тесное общение порождало частые ссоры. Несколько десятков тысяч изгнанников едва перебивались со дня на день, терпели злую нужду, бранились друг с другом, изнуренные лишениями, безысходностью. Иоганн не доверял людям, чуждался их. Тот, кто не бился с ним бок о бок на баррикадах и чьи мужество и преданность идее он не имел случая самолично проверить в тяжкие минуты, – был ему чужд.
– Не в час победы, а в миг поражения выверяются люди, – говаривал он.
После ареста и процесса бланкистов Стока выгнали из мастерской на улице Мира.
Как некогда в Дармштадте, он повесил на бревенчатом желтом заборе самодельную вывеску и сел у окна латать старье окружных ремесленников. Пахло дегтем и навозом. Скрипел болт на колодце, проезжали, как когда-то на Церковной улице, тяжелые телеги. Сток больше не поет у окна гессенских песен, а если затянет «Марсельезу», Женевьева бледнеет, просит перестать. Дни проходят ровной чередой. Слишком ровной. Иоганн томится. Ждет. Чего? Соратники его в заточении. Бланки, Барбес, Флери навсегда вырваны из жизни. Страшные слова – «пожизненное заключение». Они – как крест на могиле. Но Сток не боится этих слов. Как знать, когда падут оковы? Было же в одно десятилетие столько восстаний. Разве всегда неизбежно поражение! Но пока надо терпеть, надо ждать, стиснув кулаки, тренируя нервы и волю.
Нелегко это – всегда быть сильным и спокойным. Сток тоскует по родине, и все чаще, как когда-то в заточении, настигают его слабость и отчаяние. Тогда он клянет покорность немецкого народа. Тогда он запил бы, если б не твердая маленькая рука Женевьевы, ее отрезвляющий голос. Она – его совесть. Приступ безволия кончается с приходом злобы. Там, где ненависть, нет слабости.
– Стадо! – кричит Иоганн. – Овечья покорность, сладкие надежды! Но кто испытал горечь знания людей, тот отравлен. Неужели у немецкого народа нет будущности и он ткет себе саван?!
Женевьева отводит сына к соседке и поручает его ее заботам, потом упрямо требует, чтоб Иоганн пошел с ней в город. Она знает, как помочь ему в трудную минуту. На перекрестке улиц, чванно выпятив грудь, выставив большую, тучную ногу, стоит полицейский. С майских дней тридцать девятого года Сток впадает в ярость при виде несокрушимой стражи монархии.
Под высокой полицейской фуражкой Сток видит одно и то же лицо – лицо Штерринга, Георги, лейтенанта Друино, который стрелял в него подле ратуши.
– Гиены, человеческие отбросы, предатели! – шепчет Иоганн. Полицейский олицетворяет для него подлость утвердившегося строя, продажность и низость человеческого сердца. – Бюджет Парижа равен шестидесяти миллионам, из них свыше двенадцати стоит полиция. О, она преуспевает! – говорит Сток.
Близ площади Согласия портного и его жену оттесняет толпа. Король едет на открытие палаты пэров и депутатов.
– Король! Да здравствует король! – кричит выстроившаяся под бой барабанов Национальная гвардия.
Батареи Дома инвалидов возвещают, что король отбыл из дворца. С ним принц Немурский, принц Жуанвильский, герцог Монпансье. Королевские кареты окружены генералами и адъютантами, едущими верхами. Конница цепью окружает кортеж. Впереди, в глубоком трауре, жена и сын умершего наследника трона.
– Да здравствует династия! – кричат полицейские, спинами оттесняющие опасную толпу.
С открытием палат начнется зимняя жизнь столицы. Откроются двери министерских зал. Оживут гостиные аристократов. Модные художники выставят картины. Модные актрисы переменят богатых любовников. Легитимисты вернутся из Англии. Произойдут сенсационные дуэли. Увеличится смертность обитателей подвалов и чердаков. Усилится дороговизна. Начнется голод среди рабочих.
Сток и Женевьева не успели еще дойти до намеченного места, как шустрые продавцы газет вынесли на улицу едва просохшие листы «Монитора» с описанием открытия палат и речью короля. В президенты выбран хитрый Созе; король говорил о необходимости предохранить народ от постороннего влияния и призывал к единению вокруг трона. Все было так, как всегда.
Париж исстари славится вышиной своих домов, теснотою и неопрятностью улиц. Идет дождь, мостовая покрыта клейкой грязью, но которой нелегко ездить. Вонь и смрад невыносимы. Из подворотен и домов на улицы изливаются и выкидываются всякие нечистоты. Хромой Иоганн шагает с трудом, но Женевьева с неповторимой французской грацией ловко обходит лужи и умудряется не испачкать туфель.
Несмотря на несносную сырость, улицы запружены народом. На столах торговцы разложили свои товары.
– Пользуйтесь счастливым случаем только сегодня, завтра не будет! Дамы, кавалеры, просим! Бокалы, ящички, брошки!..
Покупатели сговорчивы. Один тащит кипу книг, другой, нагрузив обе руки пакетами с орехами, то и дело оглядывается, не тянут ли у него платок из заднего кармана.
С порога полуосвещенной лавчонки востроглазая продавщица зазывает прохожих. В самых изысканных выражениях она расхваливает свои парики, фуляровые платки, запонки. По ничто не может сравниться с огромными витринами магазинов, торгующих погребальными принадлежностями. Какие великолепные гробы, какие пышные венки ждут богатых покойников! Ничто не забыто. Здесь торгуют печалью. И витрины наперебой зазывают вдов, сирот и друзей, предлагая им креп, траурные шляпы, перчатки, чулки, подвязки, веера и темные фланелевые панталоны. На черных вывесках серебряные соответствующие названия: «На пути к бессмертию», «У саркофага», «Вечное блаженство».
Свернув на улицу Сент-Оноре, Сток и Женевьева входят в большой скромный ресторан, который вот уже несколько лет служит фактически клубом для немецких изгнанников. Здесь находят они густое баварское пиво, газеты с родины, здесь встречаются, ищут поддержку, получают советы, обсуждают события дня, слушают речи случайных ораторов, устраивают собрания. Женевьева за одним из столов узнает приятельницу и подсаживается к ней. Они говорят, перебивая друг друга, о своих детях; каждой кажется свой самым лучшим, одаренным, красивым.
Сток прислушивается к разговорам. Два слесаря-берлинца и молодой студент спорят о том, что следует понимать под трудными словами «социализм» и «коммунизм».
– Чем спорить, – говорит один из слесарей, – приходи, когда будет здесь Кабе. Я верю в его учение и поеду, как только накопим деньгу, в страны Нового Света. Там мы осуществим коммунистический строй в жизни.
Сток бросает презрительно:
– Зачем бежать в несуществующую Икарию, когда Франция достаточно несчастна, чтоб нам позаботиться и о ней? Фантазер твой Кабе, а не учитель.
– Да я готов хоть на луну влезть, чтоб попасть в Икарию. Шутка ли – там торговля, промышленность, даже устройство празднеств будет в руках правительства!..
– А я, – разозлившись, прервал Сток, – буду бороться за нее здесь. – Иоганн залпом выпивает кружку пива и, условившись с Женевьевой встретиться позднее, выходит на улицу.
Неподалеку был зал «Валентино», который сдавался под народные балы и собрания. Сток пошел туда. Луи Блан должен был в этот вечер читать там лекцию. Наличие полицейского патруля у входа убедило портного в том, что собрание состоится. В квадратном зале, освещенном газовыми рожками, было немноголюдно. С большой эстрады говорил маленький, тщедушный человечек, сутулый, почти горбатый, весьма, однако, щеголевато и пестро наряженный.
– Право, – говорил оратор, – отвлеченное понятие. Оно должно значить – сила. Как же сделать сильными тех, кого обрекли на бессилие? Первое, за что надо бороться, – отмена имущественного ценза в избирательном праве. Какой-нибудь кретин, получив наследство, становится избирателем, разбогатевший мошенник – мало того, что обобрал сотни семей, – получает в придачу право голоса.
– Старые прибаутки, – пробормотал Сток. Он перестал слушать речь Луи Блана.
«Где же человек, который, не заговаривая зубы и по предавая наше дело пустой болтовней, разъяснит мне, в чем сущность борьбы, как борьбу вести, как дойти до истины?»
Луи Блан кончил под аплодисменты. На трибуне появился молодой человек.
– Братья по родине, немцы, – вас здесь большинство, – и вы, французы, взгляните! – начал он дрожащим голосом. – Вот плащ, он разорван, он в крови. Его пробили пули английских жандармов, его обагрила кровь ваших братьев на Британском острове. Кровь, всюду кровь обездоленных! Я – сын немецкого фабриканта. Я ушел из дома, чтобы вместе с вами пойти походом на мир богатства, эксплуатации, несправедливости, на дворцы патрициев…
– Ба! – вскричал Сток. – Да ведь это Пауль!
Он ринулся вперед, но так же внезапно остановился. Разом расхотелось говорить, спрашивать Пауля и отвечать ему. Прошло столько лет. Давно схоронили вместо Бюхнера… Не хотелось тревожить прошлое, вызывать исчезнувшие тени. Далеко вперед ушел Сток. А Пауль… Он повторял все те же фразы, точно заклиная время, удерживая его на месте… Не то! И Сток понуро вернулся в свой ряд. Только бы Пауль не заметил его, не отыскал в толпе. Пусть его развлекается, как хочет. Может быть, он и искренен, да что в том толку!
А оратор на трибуне продолжал:
– Немцы-пролетарии, вы – божественные посланцы! Вы осуществите великий лозунг: свобода, равенство, братство. Придите же! Мы, бескорыстные, заинтересованные в вас немецкие интеллигенты, носители социалистических идей, мы вас поведем к победе!
Громкий смех раздался подле портного. Раскатистый, сочный смех, к которому присоединил Иоганн свой, отрывистый, резкий. Смеялись оба, как старые друзья, повернувшись друг к другу. Сток затих и внимательно уставился на соседа. Львиная голова, худое темное лицо, выпуклый могучий лоб и незабываемые глаза: тысяча выражений в них, тысяча мыслей. Иоганн не успел опомниться, как черноволосый коротконогий гигант оказался на трибуне. Вскоре ему дали слово.
– Пролетарии – но боги, – сказал оп, – они обыкновенные люди, поставленные, однако, в такие социальные условия, что поневоле должны со временем взяться за эмансипацию человечества. Пролетариату но на кого надеяться, кроме как на самого себя. Освобождение его в том, чтобы уничтожить условия своего существования. Но изменить условия своего существования рабочему невозможно, не уничтожив предварительно всех бесчеловечных условий современного общества…
Маркс говорил долго. Ни единый звук не прервал его.
– Кто это, кто? – спрашивал Сток, тыча пальцем в говорившего.
Ему не сразу ответили.
– Кажется, немецкий ученый или редактор какой-то газеты. Немец, как и ты.
– Маркс, Карл Маркс из Трира.
Иоганн проталкивался к трибуне. Маркс кончил. Иоганн схватил его крепкую, узкую, властную, жесткую руку.
– Я давно вас искал, Карл Маркс, я читал ваши статьи. Вы не пустомеля, – вы человек, которого рабочие ждут. А я, я – портной из Дармштадта, Иоганн Сток… Почему, доктор Маркс, вы так удивлены?
– Хорошее простое имя, – пробурчал Маркс, но глаза его заискрились. – Вы бежали из Германии, пошли к Бюхнеру?
Пришла очередь изумиться Стоку. Они стояли друг против друга, дружелюбно улыбаясь. Сток перешагнул за тридцать лет, Карлу минуло двадцать шесть. Портной был изнурен и худ. Маркс крепок, широкоплеч.
Оба они были еще молоды. Юность их прошла вместе с юностью их класса, вместе с наивностью его первых представлений, вместе с неуверенностью его первых восстаний. Юность пролетарских революций кончалась. Это была и их юность. Теперь они чувствовали себя зрелыми.
Собрание в вале «Валентино» окончилось. Разочарованно уходили полицейские. Погасли у входа фонари. Карлу не хотелось расставаться с соотечественником. Вместе с Женевьевой, терпеливо дождавшейся мужа в условленном месте, и Стоком он шел по оживленной Сент-Оноре.
– Зайдем, – попросила несмело Женевьева, когда они поравнялись с большим гулким домом, где происходил народный бал.
На улицу вырывались звуки музыки, хохот, притоптывание сотен ног.
Сток недовольно дернул жену за руку: ему было стыдно за нее перед этим мудрым, столь удивительным человеком, который без труда подчинил его, недоверчивого, настороженного, своей воле, своему ясному слову.
Но, к удивлению Иоганна, Карл присоединился к желанию Женевьевы. Он всегда рад был в свободную минуту потолкаться в толпе, понаблюдать, подурачиться.
– Жаль, что Женни осталась дома, мы бы славно поплясали, – сказал он, входя в жаркий зал, где мелкий торговый люд, ремесленники и студенты безудержно веселились.
В шальной кадрили, доведенной до крайней степени вольности, носились из конца в конец пары. Время от времени кадриль сменялась стучащим галопом, плавным вальсом и только что вошедшей в моду изящной полькой. Танцоры в маскарадных костюмах из бумаги и дешевой кисеи, нотные, радостные, развязные, – неутомимы. Хохот, шутки, свист не умолкают. Лица многих расписаны: кто намалевал себе подбитый глаз, кто выставил номер квартиры на щеках. Но особенно неугомонны студенты. Они окружают Карла, тормошат его и Женевьеву. Хромой Сток прижимается к стене. Вырвавшись из круга молодежи, Маркс пробирается к выходу.