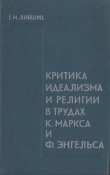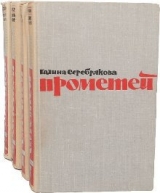
Текст книги "Юность Маркса"
Автор книги: Галина Серебрякова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 41 страниц)
С юга к Дармштадту примыкает деревня Бессунген. От нее берет начало кратчайшая дорога на вершину Господней горы. Поднимаясь дугой мимо пруда, мимо горбатого валуна, прозванного Когтем дьявола, тропа теряется в ложбине, поросшей густым кустарником. Горный выступ образовал над впадиной глубокий, укрытый свод. С гладкой квадратной площадки над пещерой – традиционного места встреч дуэлянтов, – как с корабельного мостика, на все четыре стороны видны бескрайные, переменчивые просторы Рейнской долины.
На вершине Господней горы, в пещере, затерянной в ельнике, назначен был ночной сбор членов «Общества нрав человека».
Остерегаясь полиции, Иоганн и Войцек решили идти порознь.
Женевьева проводила мужа до деревни. Обо всем догадываясь, но не расспрашивая, вернулась она домой, полная тревоги. Хотелось быть одной, но Маргарита, обеспокоенная исчезновением Гюркнера, тотчас вызвала подругу во двор.
– Мужчины, – шипела трактирщица, угрожающе размахивая ведром с пенящимися помоями, – рождаются лгунами и притворщиками. Эти деспоты считают жен ночными колпаками, которые можно по прихоти надеть на голову либо засунуть под подушку. Вот ушел муженек, а куда? Точно дома нет пива и бабы.
Женевьева смотрела на огромное, перекатывающееся волнами жира тело, на ведро, судорожно раскачиваемое большой, неженской, переплетенной венами рукой госпожи Гюркнер, и думала о своем. Кислая вонь помоев отравляла воздух. В сарае уныло хрюкали проснувшиеся свиньи.
Иоганн свернул с дороги и лесом медленно подымался в гору. Перекличка деревьев, хруст костлявых сучьев под сапогами, горьковатый аромат хвои тревожили его, нагоняли разрозненные думы и воспоминания. Что, если свернуть в еловую чащу и, зарывшись в сухие, пахучие, ржавые иглы, лежать до рассвета? Он лениво опустился на гниющий светящийся пень. Выросший в перекошенном домишке сапожного подмастерья, в пыли городских улиц, Сток робел перед безлюдьем природы, как крестьянин перед шумным городом. Лес подавлял его, усыплял.
Иоганн превозмог дурман. Бессвязные мысли оседали в мозгу.
«Гниет, а сияет, – думал, тронув крошащиеся останки дерева. – Оттого ленюсь идти, что не нравится Бюхнер». Представил себе грустное женоподобное лицо студента. Пошел в гору.
Приблизившись к пещере, Сток услыхал знакомый звонкий голос. Прислушался.
– Попытки, которые делались до сих пор, совершить переворот в Германии, – говорил Георг, – покоились на детском расчете. Революция может, должна совершиться лишь посредством широких масс народа. Нужно привлечь не только ремесленников и рабочих, нужно добиться участия крестьянина. Это возможно с помощью все разъясняющих прокламаций, толкующих не о Венском конгрессе, свободе печати, а о материальной нужде и причинах, ее вызывающих. Нужно доказать крестьянам числовыми выкладками, что с их земель взимается несоразмерно большая доля налогов, в то время как капиталисты освобождены от платежей, что законодательная власть, распоряжающаяся их жизнью и собственностью, – в руках дворянства, богачей и чиновников. Каждый из нас должен понять, что умелое соединение материальных интересов народа с общими политическими целями революции обеспечит взрыв нынешнего строя в Германии.
Иоганн подошел ближе и огляделся. Бюхнер говорил, стоя на сером угловатом камне. Мутный чадящий факел освещал пещеру и два-три десятка людей в ней. Тени прыгали но стенам. Стока неприятно поразило присутствие Гюркнера. Несмотря на добрые отношения с владельцем подворья, Иоганн не считал его достойным подобного доверия.
«Выдаст или нет?» – пронеслось в подозрительном мозгу портного.
– Как тебя зовут, брат? – внезапно спросил Стока рядом стоящий юноша.
Иоганн пытливо оглядел его и буркнул:
– Не твое дело.
Спросивший ответил смехом.
– Я не так труслив, как ты: меня зовут Конрадом Куль.
– Иди к черту, Конрад Куль! – процедил сквозь большие темные зубы Иоганн.
Он был решительно не в духе. Случай с Кулем, самодовольное лицо Гюркнера, присутствие в пещере неожиданно большого числа незнакомых лиц раздражали портного.
Но причина его досады была в неожиданной правильности слов Бюхнера, в невозможности высмеять, осудить их. Стоку не хотелось признаться самому себе в том, что не разгадал «поэта». Он упрямо боролся с новым чувством к Бюхнеру, не хотел сдаваться. Изнеженный двадцатилетний барич с лицом девицы, пришедший из другого мира, чужой, начиненный неведомыми Иоганну знаниями, холодный, замкнутый, годен ли он быть его соратником, более того – вождем? Сток плутал в чаще новых, темных, нагроможденных, как стволы деревьев, сырых мыслей.
Он протискался к Войцеку. Поляк сидел на траве. Запахи леса мучили его, как призраки; мечты перенесли далеко, в Лазенковскую еловую чащу по-над Бугом. С двадцатью тысячами таких же солдат, как он сам, ушел Войцек с родины. Как знать, с каким полчищем вернется он назад? Может быть, сейчас в этой пещере рождается та сила, что опрокинет, истопчет, уничтожит деспотизм, даст миру и, значит, Польше, свободу, счастье. Как предугадать? Думал ли он тогда, в лесу под Варшавой, о том, что спустя один только день вся Польша восстанет. Может статься, завтра подымется Германия либо Франция. Войцек сжимает губы, чтоб удержать безумный, ликующий вопль.
На камне-трибуне вместо Бюхнера – толстый резчик по дереву, в вязаном колпаке с кисточкой, болтающейся над открытым сизым ухом.
– Добро должно восторжествовать, – говорит он грозно. – Я здесь среди вас, друзья, потому, что нашей религией является убийство тиранов и всеобщее равенство… Я знаю наверное и надеюсь, что и вы, дорогие братья, верите, что скоро совершится нечто необыкновенное, знаю это из верного источника, от поляков и французов. Революция, говорю я вам, революция свершится, а с нею – всеобщее уничтожение…
Войцек, отталкивая Стока, бросается в пещеру.
– Революция свершится! – кричит он, весь во власти мечты.
– Браво! – единодушно подхватывают собравшиеся. – Революция свершится!
– Мы едины, пусть прольется паша кровь во имя революции! – кричит Август Беккер, разматывает шарф и обнажает тонкую, нежную шею. – Если нужно, пусть надет за дело свободы моя голова, насытив кровью злодеев!
Бюхнера и Вейдига оттеснили в темноту. На сером камне – Войцек.
Он говорит на родном языке и кончает песней: «Еще Польша не погибла».
Польский гимн довел до восторженного исступления членов «Общества прав человека». Гюркнер плакал.
Сток протолкался к заветному камню.
– Я был во Франции вскоре после июльских дней и видел, как обманули король, банкиры и фабриканты народ, – говорит он, обращаясь более всего к Бюхнеру, – Там, как и в Германии, страх заставил богачей бросить нам объедки. Мы поверили и получили, но что… шиш? Нет, хуже того. Я не умею говорить, а то я рассказал бы вам, братья, как лионские рабочие справедливо требовали работы, а добились смерти, тюрьмы, голода.
Сток не мог продолжать от волнения.
Холодный зеленый рассвет охладил собравшихся. Возбуждение сменилось усталостью. Гюркнер, зевая, спрашивал Войцека, как избежать гнева Маргариты. Кое-кто прикорнул на мокрой траве.
Бюхнер попытался перейти от слов к делу.
– Мы отпечатаем прокламации, и каждый из вас возьмет на себя доставку их в деревню.
Вместе с солнечным светом в пещеру ворвался Конрад Куль. Сток едва узнал его. Вместо учтивости и подобострастия, подмеченных ранее портным, Куль олицетворял чудовищный страх.
– Полиция!.. Шпионы!.. Спасайтесь! – судорожно дергаясь, выл он.
Поминая бога, Гюркнер бросился в кусты. Бывший караульщик шлагбаума не претендовал на мужество. Вейдиг и Бюхнер ни единым движением не выдали тревоги.
Помахивая неразлучной дубинкой, Беккер вышел на разведку. Люди в пещере обнажили оружие, готовые к обороне.
– Дуэль, – разочарованно сообщил вернувшийся Август.
Позвав Войцека, Сток пошел домой. Подле пещеры их окликнул владелец «Гессенского подворья». Его клетчатые брюки были перепачканы землей. Сюртук порван.
– Вояка! – сквозь зевоту буркнул добродушно Войцек, помогая Гюркнеру встать.
– Старый Буври, – сказал Иоганн, позабыв, что имя это незнакомо в Дармштадте, – седой и дряхлый, а пошел: в тюрьму, а ты… – портной красноречиво оборвал фразу и сплюнул.
На вершине Господней горы, на выступе, образующем пещерный свод, секунданты тщательно отмеривали дистанцию. Дуэлянты, в черных плащах поверх мундиров, отвернувшись друг от друга, с видом беспечнейшего равнодушия прогуливались между елями…
Рейнская долина и Дармштадт спали вдали под плотной периной – предутренним туманом.
11Вокруг ратуши дармштадтские улицы, стиснутые высокими остроконечными домами из серого шифера, узки и темны, как колодцы. Летом тут пыльно и жарко, в остальные времена года сыро и грязно.
Маленькие лавчонки в переулках центра, пахнущие плесенью, торгуют предметами роскоши, производимыми на городских окраинах в мастерских ремесленников.
Столица Гессенского герцогства славится производством мебели, посуды, музыкальных инструментов, дорогих безделушек.
Сток в тщательно заплатанном сюртуке, оставшемся в наследство от отца, в картузе расхаживает по торговому кварталу, что тянется от герцогского управления вплоть до театра. Портной присматривает подарок Женевьеве ко дню рождения и не пропускает потому без внимания ни одной витрины. Все, что в них выставлено – бисерные кошельки, бархатные молитвенники, фарфоровые, украшенные амурами, цветками, голубками табакерки, коробочки и флакончики, шкатулки с деревянной или перламутровой мозаикой, чувствительного и поучительного содержания гравюры, пояски и косынки, – вовсе недоступно по цене жителю Церковной улицы. Да многие из продающихся здесь вещей и не для чего ему.
Иоганн улыбается, представляя себе хибарку в гюркнеровском дворе и Женевьеву, которой на подводе привезли бы этажерки с золочеными шишками по бокам, кресла, обитые переливчатой тафтой, диваны, украшенные львиными головами и небывалыми листьями. Но кровать из золотистого ореха портной купил бы, будь деньги.
«Наша жизнь легка, вся укладывается в котомку», – решает он. В открытую дверь лавки Стоку видны сундуки, окованные железом, мягкие кожаные чемоданы, добротные скрипучие соломенные корзины.
«Женевьеве не пришлось взять заветный сундук с приданым из Лиона, – вспоминает портной, – не до того было в вечер бегства из осажденного города. Не присмотреть ли ей сундучок? Но что ей туда класть?»
Ни фарфоровые маркизы и звери, ни тем более картины, на которых блюда полны фруктов и мертвой дичи, ни драгоценные кружева не нужны немецкому мастеровому. Круглый серебряный медальон с трилистником и колечко с подковой он купил бы, но ювелир не отдает их за два гульдена.
В переулке, где босые мальчишки играют на мостовой, Иоганн забрел к часовщику.
Здесь пусто и прохладно. Маятники движутся ровно, как игла в руках портного.
Создатель круглых, многоглазых неуемных существ, висящих по стенам, расставленных в шкафах и на прилавке, маленький хромоногий человечек появляется из-за шерстяной портьеры, бережно держа в руке тонкие косточки – части разобранного механизма. На нем – передник до самой шеи, рукава рубахи засучены, как у хирурга.
Сток успевает заметить за портьерой женщину, баюкающую ребенка в убогой клетушке. «Часы тоже не кормят, видно», – удивляется он про себя.
Часовых дел мастер оглядывает покупателя, стараясь определить его достаток и вкусы.
Длиннополый сюртук Стока обманывает.
Продавец достает с полки деревянного Лютера с Библией под мышкой. Вместо пьедестала – часы. Портной насмешливо отказывается от Лютера, от аллегорической Германии – полуодетой толстой дамы – и от фарфоровой розы с венчиком в виде циферблата.
Его выбор падает на небольшие часы в зеркальной оправе, наигрывающие два такта вальса. Поговорив о налогах и трудных для Дармштадта временах, Иоганн прощается с часовщиком и возвращается домой милю лавок, торгующих музыкальными инструментами. Он замедляет шаг и смотрит жадно в окно. Там – недоступная давнишняя мечта – скрипки. У дверей музыкальной мастерской с зеленой вывеской в виде плоского фортепиано, болтающегося подле фонаря, сидит на раскладном стуле старик Ерке в красном жилете и круглой шапочке. Сток вспоминает, что видел его несколько дней назад в пещере на Господней горе, кланяется единомышленнику и подходит, рассчитывая приторговать подержанный инструмент. Старик словоохотлив. Он выноси г две скрипки и перебирает их струны дряблыми голубыми пальцами, Иоганн поднимает одну из них к плечу и неуверенно подбирает мотив «Что для немца родина». Старик испуганно озирается.
– Не бунтуй на улице, – говорит он просительно.
Сток смеется и переходит на «Прощание Бертрана».
За эту мятежную песню вчера арестовали нескольких вольнодумствующих студентов. Старик вырывает скрипку у портного.
– Играл бы что-нибудь церковное, мальчик, – добавляет он наставительно.
На узкой мостовой мальчуганы, играя в войну, разбившись на два войска, теснят друг друга в подворотни. Их оружие – кулаки, их снаряды – зеленые, в шипах, незрелые каштаны.
Разметая пыль, проезжают, грохоча, экипажи и телеги. То и дело между лавок попадаются кабаки, из которых несутся брань и музыка.
На базаре лоточники предлагают свой товар, зазывают:
– Вишни, вишни!
– Щетки, пуговицы!..
Тут же примостились подмастерья.
– Чиню обувь дешево!..
– Шью, крою, латаю, белю, крашу!..
Сток пересекает рыбный рынок и добирается до широкой деревенской Церковной улицы, заканчивающейся фонтаном и кирхой.
Портной прижимает к жилету коробку с часами. Тесный сюртук мешает движениям. В голове назойливый вопрос – зачем Гюркнеру и Ерке «Общество прав человека»?
12Маргарита по ночам превращается в пилу. Так говорит Гюркнер. До утра она мешает ему спать руганью, допросами и карканьем.
– Невозможные налоги… герцог – мот, – передразнивает она мужа, – одичание Германии, помещики – коршуны… мужики – рабы… Польша в аду, чиновники – подлецы, рабочий люд дохнет… Пусть так, но при чем тут ты, Гуго? А если нагрянет полиция, если полезет в клеть, что за свинарником, если перероет бумаги тихони в мансарде, схватит пастора и спросит: «Гюркнер, не пора ли тебе в тюрьму, а семье твоей с сумой на дорогу?» – причитает трактирщица, выпучив немигающие, как у совы, глаза. – Сколько лет я жертвовала всем ради нашего дела, любовью, потому что – к чему скрывать! – после почти двадцатипятилетнего супружества не могла ведь я с моим воспитанием полюбить караульщика шлагбаума. Не разорись папенька, офицер или чиновник был бы рад на мне жениться. Ах, тысяча восемьсот семнадцатый год похоронил мои надежды. Я была идеальнейшей женой и хозяйкой, отказывала себе во всем, чтобы теперь потерять все нажитое. Почему? Потому, что «налоги, и герцог – мот, а рабочему человеку преждевременная смерть, и Войцек страдает из-за русского царя». Я всегда знала, что судьба изменчива, однако женой арестанта быть не хочу!
Гюркнер натягивает колпак на уши, но голос просачивается сквозь ткань. Гюркнер зарывается в подушку, но не находит покоя.
Маргарита в топорщащейся ночной рубахе сидит над ним, требуя ответа. Молчание мужа доводит женщину до неистовства. Она сотрясает супружеское ложе. Перины вздымаются валом.
Гюркнер вылезает из-под укрытия.
– Я покажу полиции клеть за свинарником и дом на пустыре, где вы устраиваете по ночам шабаши, спорите о чепухе, орете как безумные, – грозит жена.
– Ведьма! – отвечает владелец «Гессенского подворья», раскидывая подушки. – Подглядывала! ..Утопись в своем жиру, губи нас и себя.
Маргарита всхлипывает, сдается.
– Дьяволы принесли Бюхнера с этим грешником пастором! Сатана тебя тянет в пропасть…
Гюркнер примирительно смеется.
– Вот глупая баба, – шепчет он.
Клеть позади свинарника, преследовавшая во сне и наяву Маргариту, была отдана пастору Вейдигу для дел самых секретных.
Трактирщица, приложив однажды глаза к щели, увидела нечто столь страшное и неблагонадежное, что отпрянула с криком, перепугав свиней.
Ночью она объявила мужу, что пастор – фальшивомонетчик. Но Гюркнер посмотрел на нее с выразительной скукой, уничтожив последнее предположение. С точки зрения Маргариты, фальшивомонетчики были менее опасны, нежели революционеры.
Больше госпожа Гюркнер не пыталась подглядывать. Пугавший ее стук печатного станка, доносившийся из клети, удачно заглушало хрюканье свиней. Кроме владельца подворья, о том, что делал Вейдиг, знали Сток, Войцек да еще два-три человека, привозившие во двор тюки, которые принимал Август Беккер.
По-прежнему в трактир захаживали студенты, ремесленники, полицейские, заезжали в подворье крестьяне. Гюркнер был весел, деловит, все так же болтлив. Маргарита, хмурая, бранчливая, стряпала на кухне. Сток шил, Женевьева работала по дому.
Реже появлялись в раскаленном июньским солнцем дворе чистенько одетый Вейдиг и Беккер в перепачканной рубахе, с суковатой дубиной. Завидя их, Сток покидал табуретку у окна. Разговаривали они тихо, торопливо, – долго не задерживались…
Как-то знойным утром Иоганн и Войцек вышли из клети с кипами бумаг. Во дворе под новым навесом стояло несколько распряженных крестьянских телег. Хозяева их закусывали в трактире, покуда лошади отдыхали, жуя овес в привязанных к сбруе холщовых мешках.
Оглядев безлюдный двор, друзья сунули под сено и поклажу принесенные с собой узкие серые листы в черных точках букв и поспешно скрылись.
Они повторяли то же в течение нескольких дней.
На троицу портной предложил жене погулять за городом. Они вышли на рассвете, направляясь в сторону Оппенгейма.
По озабоченности Стока Женевьева догадалась, что прогулка на этот раз будет иная, чем в минувшие времена, когда они строили шалаши на Господней горе. В поле Иоганн снял мешок с плеча и осторожно положил на траву.
Он, нерешительно поглаживая волосы, хмурил широко разметанные брови, не находя слов, которыми хотел бы начать разговор с женой.
– Дай, – сказала Женевьева, поняв его, как всегда, с полуслова, и потянула мешок, – ты, верно, хочешь поручить мне что-то важное.
Сток на мгновение усомнился, насторожился.
«Не женское дело. Риск большой. Вейдиг был бы недоволен, но…» – Он неопределенно махнул рукой: не то с сомнением, не то с уверенностью в собственной правоте.
– Нужно, чтоб воззвание, – Иоганн впервые назвал так то, что было в сумке, – попало к крестьянам поскорее. Сегодня – праздник, люди в церквах, на площадях, окна домов отперты… Поняла?..
– Еще бы…
Они расстались на перекрестке.
Прежде чем зайти в деревню, Женевьева по лугу прошла к узкой зигзагообразной реке. Дно и берега Дарма были красные, глинистые. Ястреб кружил в небе. Кругом было безлюдно и тихо.
Жена Стока развернула сложенный вшестеро землистого цвета лист и попыталась сложить в слова первые попавшиеся ей большие печатные буквы. Вот уже два года она училась грамоте.
«Жизнь знатных – бесконечный праздник. Они живут в роскошных хоромах, носят красивую одежду, у них выхоленные лица и особенный язык. А народ валяется перед ними, как навоз в поле.
В 1789 году народ Франции устал быть волом, с которого дерут три шкуры»…
«Вот что писал Бюхнер, выставив спину в окно», – удивилась Женевьева.
Она пропустила несколько абзацев.
«В великом герцогстве Гессен жителей 718 373, – по складам читала, водя пальцем под буквами, Женевьева. – Из них 700 000 людей мучаются, стонут и голодают. Они платят шесть миллионов гульденов государству. Эти деньги – кровавая «десятина», высасываемая из тела народного. Их вымогают во имя государства. Вымогатели ссылаются на правительство, последнее заявляет, что это необходимо для сохранения государственного порядка. Что же это за всесильное чудовище – государство?
Что такое конституция в Германии? Не что иное, как пустая солома, зерна из которой вымолотили себе князья. Что такое наши сеймы? Не более, как тяжелая на ходу, громоздкая телега, которой изредка можно загородить путь разбойничьим нашествиям князей и министров, но с помощью которой невозможно построить неприступной твердыни немецкой свободы. Что представляют собой наши избирательные законы?»…
Голова Женевьевы шла кругом.
– Трудно понять, – сказала она и, развернув лист, заглянула на обратную сторону.
«Но если бы даже гессенский сейм и обладал достаточными правами и если бы великое герцогство имело действительную конституцию, то и в этом случае быстро настал бы конец благополучию.
Хищные коршуны в Вене и Берлине очень скоро протянули бы свои когти и задушили бы свободу маленькой страны. Весь немецкий народ должен завоевать себе свободу, и это время, дорогие сограждане, недалеко. Скоро исполнится предсказанное пророком, – близок день воскресения Германии.
Раскройте глаза и сосчитайте ваших угнетателей, которые сильны лишь кровью, высасываемой из вас с помощью армии, состоящей из ваших сыновей и братьев»…
Женевьева устала. Нужно скорее идти в деревню. Благоговейно и робко она сложила развернутое воззвание. «Может быть, они и поймут, а не легко», – мелькнуло в ее усталом мозгу.
Лист был наконец сложен.
Жена портного внезапно увидела начало прокламации и не удержалась, снова прочла:
« К ГЕССЕНСКИМ КРЕСТЬЯНАМ
Этот листок должен возвестить правду гессенской стране. Но кто говорит правду, того вешают. И даже кто читает правдивое слово, может быть осужден клятвопреступными судьями. Поэтому те, которые получат этот листок, должны соблюдать следующее:
1. Они должны заботливо хранить этот листок вне дома от полиции.
2. Они могут давать его на прочтение лишь верным друзьям.
3. Тем, кому они не доверяют, как самим себе, они могут лишь тайно подбрасывать его.
4. Если все-таки листок будет найден у кого-либо из читавших его, надо заявить, что как раз хотел отнести его в окружной совет.
5. Кто не читал листка, который у него нашли, тот, конечно, невиновен.
Мир – хижинам! Войт – дворцам!»