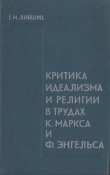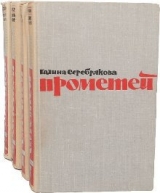
Текст книги "Юность Маркса"
Автор книги: Галина Серебрякова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 41 страниц)
– Женщина дерзнула, а мы выжидаем, как мыши иод полом! – гневно говорил он.
Суд приговорил Лауру к пяти годам тюрьмы.
Сток мечтал напасть на везущую ее в заточение стражу, вырыть подкоп под ее камеру, вырвать героиню из рук французских Штеррингов. После Женевьевы Лаура Грувель стала самым дорогим для него существом на свете. Он преклонялся перед ней.
В то время как Иоганн вступил в члены «Общества времен года», из крепости на волю проникли первые вести о том, что молодая заговорщица сошла с ума, не выдержав тюремных истязаний. Сток призывал своих братьев по обществу к отмщению.
– Мы отомстим сразу за всех, за миллионы, – сказал ему Флери, думая о своем обезглавленном отце.
Лаура Грувель… Сток оплакал ее, как Женевьеву.
– Недостаточно убить тиранов, надо уничтожить тиранию, – сказал Флери в ответ на предложение портного проникнуть во дворец и подложить бомбу под королевскую спальню. – Король вреден, лишь когда опирается на всякую аристократическую и банкирскую сволочь. Без них он – петрушка из кукольного театра. Он – ничто. Восстание – вот наша прямая цель.
«Общество времен года» деятельно готовилось испробовать свои силы в уличной борьбе. Ждали Бланки для окончательного решения. Барбеса Сток со времени церемонии на Рю Оноре но встречал, но познакомился с его ближайшим другом, Мартеном Бернаром.
Мартен Бернар происходил из семьи, где профессия наборщика передавалась из поколения в поколение. В свободную минуту он любил вспоминать свою жизнь, и Сток отдыхал, слушая его рассказы. Еще в эпоху реставрации, почти незнакомую немецкому портняжьему подмастерью, Мартен Бернар стремился сразиться с деспотами.
Робеспьер и монтаньяры были его религией. В жажде сразиться за свободу он пытался пробраться в Грецию.
– Весь мир – моя родина, – повторял он часто.
Как и Сток, он увлекался учением Сен-Симона, но оправдание неравенства, проповедовавшееся Сен-Симоном, оттолкнуло Бернара.
– Они осветили мне цель жизни. И за то спасибо, – пояснил Мартен Бернар.
Зарабатывая пропитание за типографским станком, он вернулся к пролетариату и занялся теоретической и практической политикой. Он был неутомимым руководителем стачек. Он побуждал рабочих объединиться для борьбы с «промышленным феодализмом».
– Печальным доказательством того, что республиканское чувство еще недостаточно развито у рабочих, – говаривал Мартен Бернар с тех пор, как, разочаровавшись в сен-симонизме, начал склоняться к коммунизму, – служит то, что они понимают под словом «освобождение» возможность самим обратиться в буржуа: приобрести мастерскую и инструменты. Этот путь – проклятый и опасный, ради него не стоило проливать кровь. Один буржуа заменит другого.
Никто лучше Мартена Бернара не ориентировался в политической неразберихе и интригах, установившихся вокруг трона. Он терпеливо и пространно объяснял Стоку и его товарищам положение дел в стране, происки банкиров, интриги Гизо, комбинации парламентской коалиции. Сток в шутку прозвал его за это «вельможей».
– Как только Молле получит отставку, начнется министерский кризис, который значительно ослабит и поколеблет правительство, – заявил как-то в начале 1839 года на собрании «недели» Мартен Бернар. – Это и будет подходящей, дарованной самой историей, минутой для действия.
– Пусть мужество наше будет поддержано мыслью о наших английских братьях, более двух лет добивающихся хартии. Ни пули, ни тюрьмы не заставили их сдаться, – добавил Флери, однажды побывавший в Англии.
– Протянем же им руку и пойдем сомкнутыми рядами на бой с деспотизмом промышленников и королей.
– Ждать более мы не можем, – заявил решительно Сток; ему не терпелось. – Мы тащим на своих горбах правящие классы. На французском знамени еще явственнее, чем во времена проклятой реставрации, выписаны наглые слова: «Да здравствует французский банк!» Наше терпение истощается. И если ты, Мартен Бернар, и вожди «года» будете далее медлить, мы сами выйдем на улицу, как восемь лет назад в Лионе.
Ко времени возвращения Бланки в Париж «Общество времен года» насчитывало свыше тысячи проверенных, готовых пожертвовать собой борцов-пролетариев.
Патроны были готовы, порох, закупленный постепенно, малыми количествами, свезенный в надежные хранилища, ждал взрыва. В Париже росло недовольство. Изо дня в день возрастали цены на хлеб и зерно. Лавчонку пустовали, и лавочники негодовали и грозили правительству 1789 годом. Заработной платы рабочих едва хватало им на пропитание. Палата была распущена, король тщетно пытался составить кабинет и примирить враждующие буржуазные партии. Бланки мобилизовал свое войско.
На 12 мая руководящий штаб назначил выступление. Сток и Мартен Бернар ночами разрабатывали маршрут, по которому должен был двигаться их отряд.
До позднего вечера Иоганн в портновской мастерской пришивал пуговицы и подшивал подкладку к щегольским жилетам. Скроенные из бархата, шелка, тонкой шерсти, однотонные и узорчатые, с искрой, в полосочку, в клетку, они лежали перед ним на деревянном столе грудой панцирей. Какие сердца будут биться под этими кармашками, предназначенными для часов, для цепей с брелочками, для надушенного дамского локона? Сердца трутней, эгоистов, жуликов, казнокрадов, ожиревшие, вялые сердца все испытавших скряг и торопливые, нервные сердца честолюбцев, без устали пробирающихся к власти, к деньгам, к пресыщению. Иоганн пришивал за пуговицей пуговицу и напевал. Как знать, не прострелит ли он вскоре этот жилет, целясь в грудь врага?
В воскресенье, 12 мая, Иоганн встал на рассвете. Он был совершенно спокоен. Пистолет с вечера вычищен. Сток мечтал о ружье. Оно будет. Лавка оружейника Лепажа на улице Бург-Лаббэ намечена к разгрому. Подле нее назначен сбор заговорщиков. «Неделя», к которой принадлежит Сток, пойдет в наступление на пустующую префектуру полиции, на ратушу, на палату и, наконец, на дворец супостата, короля торгашей, Луи-Филиппа. Сток наизусть знал дороги. Он несколько раз предварительно обошел позиции, последний раз – на рассвете намеченного к выступлению дня.
Женевьева обычно встает на заре. В подвале, в комнате служанок, темно. Одеваясь при свете огарка, застегивая на ходу глухой фартук, горничная поднимается но лестнице. Метла, тряпка для пыли и ведро ожидают ее на обычном месте, в углу черной лестницы. Небо еще мутное, неопределенное, как глаза новорожденного. Но оно прояснится сегодня, будет ясным, голубым. Не всегда в мае выпадают такие дни. Женевьева метет лестницу. Два лакея, зевая, бредут мимо. Они говорят негромко о сегодняшних бегах на Марсовом поле, куда обещал прибыть сам король. Они завидуют господам и спорят о том, какая лошадь придет первой. На дворе моют и чистят карету. Конюхи старательно расчесывают гривы рысакам, чистят попоны с гербами и коронами. Генерал и виконтесса Дюваль едут в полдень на бега. Азартная Генриетта будет ставить на всех фаворитов, будет сердито рвать пальцами, затянутыми в перчатку, кончики кружев на зонтике и вздыхать у финиша отрывисто, страстно, как в любовном экстазе. Жорж Дюваль проводит короля в его ложу и будет прохаживаться в первых рядах, выставив грудь в орденах и аксельбантах, красуясь, как самый породистый и тонконогий жеребец.
Большой день – бега на Марсовом поле. Предвкушая волнения и радости, Генриетта не спала всю ночь в своей раковине из перламутра. Она не приготовила розового конверта, надушенного жасмином, с письмом очередному любовнику, она позабыла встретить день зевотой и укоряющим: «Скучно!» Платье, нежное, как незабудки, его украшающие, с вечера лежит наготове, разложенное на двух атласных креслах, покрытое недлинной испанской мантильей – плетением монахинь; перед ним стоят черные туфельки. На столе, возле зонтика и перчаток, голубая шляпа.
«В таком вооружении я выйду победительницей», – думает генеральша, поглядывая на кружевные и шелковые свои доспехи. Бега были состязанием не только великолепнейших иноходцев, полукровок и чистокровных коней, – бега были турниром, где незримо боролись десятки чувств, и первым из них было тщеславие.
В полдень дом Дювалей опустел. Опустел центр города. Толпы нарядных праздных буржуа устремились на Марсово поле вслед за колясками, фаэтонами, шарабанами знати.
Женевьева лениво перетирает в большом будуаре, выходящем окнами на улицу, фарфоровые статуэтки на тонких этажерках. Ярко размалеванные маркизы и пастушки улыбаются ей игриво и вызывающе. Ягнята и цветы цепляются за их юбки. Китайские божки корчат миру злобные гримасы или издевательски смеются. Женевьева побаивается их. Эти чужие боги так легко ломаются, несмотря на свою кажущуюся прочность. В воскресенье после полудня горничная Дювалей могла бы отпроситься в Медон, к мальчику, растущему у толстой огородницы, но бега – всему помеха. После возвращения с Марсова поля Дювали дают бал. Ведь лучшие призеры-лошади – их собственность. Все слуги обязаны быть на своих местах. Даже Пике.
Женевьева старается представить себе, что делает в эту минуту ее маленький Иоганн. Собирает ли хворост в темном медонском лесу или роется в сыром огороде. Как хочется и ей зажить наконец своим домом, заботиться не о бездушных фарфоровых безделушках и скользком паркете, а о родных, своих людях. Штопать, чинить, стряпать, выхаживать детей, холить мужа, – унылые заботы матери и жены. Горькие мечты вдовы.
Со священным китайским божком из нефрита Женевьева подходит к окну. Что это? В конце улицы, к большому плоскому магазину оружейных дел мастера сходятся люди, сотни похожих друг на друга людей. Горничная открывает окно. На улице ноют, кричат. Как выстрел, падает под ударами толпы железная штора лавки. Ломаются стекла витрины, по магазин еще цел.
Откуда-то выплывает красное знамя. На нем священное слово: республика. Женевьева прижимает руку к сердцу. Ей душно. Китайский божок из нефрита надает на мраморный подоконник. Голова его катится по полу. Но то, что в другой час повергло бы горничную в отчаяние, как потеря месячного жалованья, сейчас ей безразлично. Жажда разрушения овладевает ею. Она прислушивается. Наконец выстрел. Первый выстрел, тот, который всегда остается загадкой. Вслед за ним залп. Значит, это правда, значит – восстание.
В кафе, что напротив оружейной лавки, сумятица. Женевьева высовывается из окна. Кто-то вскакивает на железный зеленый стол и, жестикулируя, говорит, обращаясь к затихшему народу.
– Да здравствует Бланки! Вперед, братья! – отвечают ему.
Толпа размахивает ружьями, ножами, пистолетами, к которым прикреплены красные клочья материи и развевающиеся ленты. Человек соскакивает со своей «трибуны» и бросается на штурм оружейной лавки.
– К оружию!
Рушатся двери и рамы. На улицу выволакивают ящики патронов, связки ружей и груды сабель. Революция! Женевьева соскакивает с подоконника. Горничная бежит из будуара в холл, по лестнице наверх, в один из кабинетов Жоржа Дюваля. Над тахтой, покрытой тяжелым персидским ковром, висит старое оружие; два всегда заряженных пистолета с серебряными рукоятками лежат на курительном столе рядом с кальяном и резной коробкой для сигар. Женевьева вскакивает на диван. Вытянувшись вдоль стены, она срывает кинжалы, охотничьи и военные ружья. Едва не оглушив ее, падает сверху большой рыцарский щит, и в ту же минуту чьи-то руки тянут Женевьеву с тахты на пол. Она успевает обернуться. Пике, в дорогом малиновом жилете, в коричневом костюме, только что вернувшийся из церкви, стоит позади нее.
– Наконец, – шепчет он осипшим от волнения голосом, – наконец я поймал тебя, якобинская сука, подлая тварь!
Он не может продолжать. Вместо языка говорят его руки. Пике хватает Женевьеву и душит ее, пригибая к полу. Он бьет ее по лицу и груди. Извиваясь и шипя, она впивается зубами в его локоть и, улучив минуту, свободной рукой хватает пистолет с опрокинутого на тахту столика.
Дуло приходится в уровень с жилетным карманом мажордома, тем карманом, под которым бьется злое маленькое сердце. Взвизгнув, Пике выпускает посиневшую шею своей жертвы и пятится в глубь комнаты, прикрывая худой живот рукой. Женевьева преследует его до маленькой глухой уборной Дюваля и загоняет туда. Щелкнул замок. Затянута портьера. Крики Пике но могут пробить толстых стен и тканей. Со странной торжествующей улыбкой Женевьева собирает оружие, которое кажется ей пригодным, и бежит, никого не встречая, по устланной коврами лестнице вниз, к выходной двери. На улице, прижимая холодную ношу к груди, она спешит навстречу повстанцам. Она присоединяется к ним, подхватывает куплет революционной песни, которую они поют. Раздав оружие, она размахивает над головой пистолетом и саблей Дюваля.
– Женщины! – кричит Женевьева встречным, – Идите за своими мужьями и сыновьями! Вооружайтесь! Какую жизнь мы влачим? Мы продаем свое тело за кусок хлеба для наших детей, мы – рабыни богатых! Наше молоко вскармливает поработителей, наши руки украшают их жилища!
Великий гнев революции говорит устами жены Стока. Она хватает знамя. Она ведет за собой отряд на королевский дворец.
Как светит над Парижем солнце! Белые, чуть зацветающие акации задевают нежными ветками багровые полотнища. Песня – громче. Старая «Карманьола» опять грозит аристократам.
Тень Горы падает на французскую столицу, расстилается знаменем.
Мадам Ветто постановила.
Мадам Ветто постановила
Перерезать весь Париж!..
На фонарь врагов народа!
За нами, пролетарии,
За нами, за Свободу, в бой!
Но Париж безмолвствует. Бланкисты – одиноки. Их подвиг – изрыв, за которым воцаряется молчание.
– Кто эти люди? Откуда они идут, чего хотят? – спрашивают мастеровые, выглядывая с чердаков и из подвалов.
– Мы их не знаем… Да и лучше хозяйская корка хлеба, чем пуля.
Чаша терпения рабочих не до краев еще полна. Бланки переоценил недовольство масс. Раны недавних поражений еще не зажили.
Бланки во главе небольшого отряда бросается на ратушу. Патрули не оказывают ему сопротивления. С пением «Марсельезы» заговорщики врываются внутрь узкого высокого здания. Бегут по лестницам, по коридорам, опрокидывая скамьи, грохоча прикладами, выбивая на бегу стекла на случай обороны.
– Победа, победа, победа!
Солнце заливает большой главный зал, и сукно столов рдеет, как бланкистские знамена.
– Победа, братья!
Бланки бросается в кресло. На мгновение он закрывает глаза. «Неужели действительно закрепимся, удержим власть?.. Должны! За нас справедливость, за нас народ…»
– За дело! – кричит Бланки, вскакивая и ногой отбрасывая кресло.
Часовые стерегут выходы и входы. Вместо оружия в руках вождей заговора теперь острые перья. Чернильницы становятся пороховницами. Время не ждет.
– Воззвание к населению, – диктует Бланки. Одновременно он намечает командующих республиканскими дивизионами. Сам он будет отныне главнокомандующим.
В это время Сток идет с отрядом на полицейскую префектуру, что близ суда. Рядом с ним – высокий мощный Шаппер. Он менее спокоен, чем портной, и напряженно вглядывается в пустоту блещущих солнцем и весной улиц. Как всегда, два друга добродушно бранятся.
– Не рассуждай, – смеется Иоганн, – не сомневайся. Даже и сейчас точит тебя неуверенность. Так ли надо поступать? Правильно ли? Поддержат ли массы? Выйдут ли на улицу рабочие? Выйдут! Как могут не выйти? Мы плоть от их плоти, мы их, они наши. Ура, вот и они!
– Это отряд Мартена Бернара, – угрюмо отвечает Шаппер. – С ним наши немцы. А вот окраины не шлют людей. И не думаю, чтоб дали. Нет, Сток. Рабочий хочет точно знать, за что рискует головой. Хочет знать, кто его поведет… Да и время пришло ли?..
– Вперед! – вместо ответа зовет Сток.
Навстречу отряду повстанцев мчатся конные полицейские. Шаппер мгновенно вскидывает ружье. Целится. Полицейский валится наземь. Коротко перекликаются пули.
– Победа!
– Вперед!
Они идут с песней навстречу безлюдному городу. Солнце салютует тысяче героев. Город по-весеннему наряден.
– Ратуша в наших руках, займем префектуру, потом… – Сток от волнения смолкает, – королевский дворец. Монархия объявлена свергнутой. Республика объявлена в воззвании Бланки. Рабочие идут на помощь братьям. Кровь их скрепит победу.
– Георг Бюхнер всегда мечтал о таких днях. Хотел умереть на баррикаде, – говорит вдруг Шаппер.
– Пусть память о нем будет с нами сегодня! – говорит портной торжественно.
Сток впервые слышит это имя из уст наборщика. Он хочет расспросить, где и когда встречал Шаппер вождя «Общества прав человека», но взвизгивает пуля. Шальная. Нет. Предательство! Шаппер поднимает голову. Опытный боец проверяет улицу. Всматривается. Невинно покачивается кисейная занавеска в окне нарядного барского дома. Из-за ветки толстого фикуса, как из лесной чащи, нацелилось дуло.
– А ну-ка, Генрих, – говорит Шаппер тихо и повелительно, – ты лучше стреляешь, чем я.
Генрих Бауэр, коротконогий атлет, не ждет повторного приглашения. Круто повернувшись, он замирает с ружьем на плече. Готово. Занавеска вздрагивает. Фикус упал.
Бланкисты подходят к зловещей, полупустой полицейской префектуре близ суда. Ружья вяло поднимают дула. Застигнутый врасплох командующий постом лейтенант Друино, приподняв руку к козырьку, вглядывается в подошедших. Разобрав, в чем дело, он делает знак полицейским приблизиться и потирает руки.
– Мерзавцы! – кричит он и бросается с обнаженной шпагой вперед, на предводителя рабочих.
Опасность подтягивает ряды повстанцев. Пуля бланкиста укладывает лейтенанта наповал. Озверевшие полицейские бросаются на революционеров. Перестрелка, бессвязные крики, беспорядочное движение, бой.
Женевьева тщетно пытается заставить нарядный пистолет Дюваля выстрелить. Сабля тяжела для нее, но жена Стока не хочет в этом сознаться и ослабевшей рукой тащит ее за собой. Упрямо дергает курок. Осечка. Кто-то отбрасывает Женевьеву к стене дома. Стрельба повсюду. Падают раненые. Редеют отряды полицейских.
В ратуше Бланки и Барбес дописывают прокламации. В это время из близлежащих казарм стягиваются войска. Окраины и предместья в растерянном молчании взирают на трагедию обреченного восстания. Рабочие не знают заговорщиков, не знают, за что они борются.
Шаппер прав, и Сток чувствует это. Париж равнодушен.
На Марсовом поле в разгаре празднество. Лошади отчаянно борются за первенство. Толпа криками встречает победителей. Генриетта Дюваль досадливо обрывает третью оборку на кружевном зонтике. Ее лошадь отстала.
Вокруг ратуши пусто. Не встречая сопротивления, в обход с тыла, переулками подходят правительственные войска. Бланки призывает инсургентов пасть или победить. Но силы так неравны. Бесцелен героизм, бесцельны жертвы. Гвардейцы короля подкрадываются к ратуше.
– Да здравствует революция! – с этим возгласом бросаются в бой заговорщики.
Барбес спасает Огюста из осажденной ратуши.
– Беги и постарайся скрыться понадежнее. Ты еще нужен. Будущее за нами, – говорит он, обнимая Бланки.
Ратуша сдалась.
Смеркается. На улице Сен-Мартен несколько десятков человек еще защищают баррикады от гвардейцев, высланных на усмирение восставших. Среди них Иоганн Сток. Но и его мужество, как и отвага тысячи других, но может решить исхода восстания. Он хочет по крайней мере отстоять знамя.
Бессвязные, разорванные мысли проносятся в мозгу отстреливающегося бойца.
«В Англии, может быть, сейчас рабочие, как мы, умирают на баррикадах… Лучше смерть, чем плен, чем тюрьма. Нет, жизнь! Нет, победа! Не сегодня, так завтра…»
Ничто в этот день не удивляет Женевьеву. Все так, как должно быть. И эта встреча со Стоком – тоже. В такие дни стирается грань между возможным и невозможным. На глазах Женевьевы Сток падает раненный. Они на смежных баррикадах.
– Иоганн! – зовет она, но в схватке, в бою не слышен отдельный человеческий голос.
С помощью Флери она пробивается к мужу, вытаскивает его из-под пуль и уносит в винную лавку надежного республиканца, чтоб промыть и перевязать рану. Стоку кажется, что он бредит.
– Как странно, – говорит он, улыбаясь, – мне все время чудится, что эта женщина – моя умершая жена. О Флери, это, видно, смерть подступает.
Женевьева не может ни говорить, ни плакать. Прежний подъем сменился бессилием. Она гладит руку мужа. Часы проходят. Последняя баррикада в квартале Сен-Мерри пала. Затихли выстрелы. Какая глубокая, могильная тишина – тишина поражения.
– Почему не слышно залпов? Почему так тихо? – возбужденно спрашивает Иоганн.
Тишина страшна, как и канонада. Кровь из раны заливает ему глаза. Он теряет сознание. За стеной дома раздается конский топот. Это гвардейцы возвращаются в казармы победителями. Они поют королевский гимн. Все кончено! Восстание бланкистов разбито.
Ночью в фиакре Женевьева и Флери перевозят больного Стока из винной лавки старого республиканца в надежное место, где его, быть может, не найдет полиция. Может быть. Слабая надежда. Барбес и Мартен Бернар уже арестованы. Бланки скрывается. «Общество времен года» более не существует.
В сухой зимний день Иоганн и Женевьева вышли за парижскую заставу. Прошло несколько недель со времени процесса группы обвиняемых по делу двенадцатого мая. Свыше трехсот человек вместе с Бланки предстали перед судом. В их числе был и портной Сток. Обвиняемые отказывались от показаний. Стоку не в чем обвинить себя. На суде он вел себя стойко. «За отсутствием улик» ему вынесли оправдательный приговор. Но Бланки приговорен к смертной казни, которая заменена ему пожизненной каторгой. Мартен Бернар – выслан, на каторге – Барбес. Местом заключения вождей общества назначена тюрьма св. Михаила. Страшная скала – выступ в море, увенчанный крепостью. Решетки, железные брусья, толстые стены, двери на замках, море и небо – вот все, что будет отныне окружать узников.
«Нет бесцельных жертв во имя революции. Нет поражений. Мы – воины революции, и на войне как на войне. Сегодня побежденные, мы победим завтра», – таковы мысли Стока.
Женевьева пытается развеселить мужа, затеять шутливый разговор, но Иоганн упрямо, тягостно молчит. Немного больше года назад он был у Бланки в сельском домике на берегу Уазы. Как мирно текла жизнь в Жанси, сколько планов и надежд зародилось там! И вот – опять поражение. Опять в прахе лежит мечта о республике и равенстве.
Дорога в Медон поднимается в гору. Спокойно дымят позади трубы города, безразличного к геройской горсточке отважных.
– Помнишь, как лазили мы на Господнюю гору, как строили шалаши и спали на мокрых листьях до рассвета?
Женевьеве хочется ласки, и Сток, угадывая, гладит ее так нежно, как только могут его огрубевшие, жесткие руки.
– Конечно, не забыл, хозяюшка.
Он впервые так называет вновь обретенную подругу. И обоим становится весело и смешно – так мало подходит это слово к Женевьеве. Они все ещё живут врозь, и у них нет своего, общего дома.
– Ты – моя хозяюшка, – повторяет Иоганн.
Прихрамывая, он ведет под руку жену. Дорога нелегкая. Изредка путники задерживаются и отдыхают на камнях. «Как, однако, постарела Женевьева!» – внезапно замечает Иоганн. И, глядя на непоправимо скорбное, щедро помеченное горем лицо жены, он думает о себе. Но грусти, жалости не пробуждается. С прежней верой в свои силы он ждет завтрашнего дня и с ним радостей и победы. Без этого нельзя жить.
– Я уверен, – говорит он внезапно, – что Бланки и в тюрьме думами с нами, в своем Париже. И это лучшее ему утешение. Пожизненная каторга в наши дни – чепуха! Мы вырвем его на волю.
Впервые после встречи Иоганн долго, подробно рассказывает жене о своей жизни в тюрьме. О норке молчит. Никогда никому не говорил он об этом.
Только в сумерки перед пешеходами вырисовывается на холме зеленый красавец Медон. Женевьева оживилась. Проверяет, целы ли в корзинке гостинцы. Забеспокоилась: как встретятся впервые отец и сын.
На большой сельской улице тихо, навевая дремоту, звенят колокольчики проходящего стада коз. В трактире горит зазывающе камин. У окна кюре и лавочник играют в домино. На боковой улочке, упирающейся в оголенный, пустой бор, под плетнем играют деревенские дети.
– Вот он, наш Иоганн, – говорит Женевьева с гордостью, указывая на сына в группе мальчуганов.
Сток останавливается и рукой задерживает жену.
– Постой… Странно, – говорит он раздумчиво, – я не мог бы сам узнать, который же из этих детей мой сын. Не значит ли это, что мы значительно преувеличиваем наши чувства? Нет, кровь не говорит. В будущем наши дети будут детьми всех, и все мы будем их родителями. И дети будущего будут несравненно счастливее. Им но нужны наши жертвы.
Ему хочется рассказать жене о многом, вычитанном из книг и продуманном в годы одиночества, но лицо Женевьевы подернуто таким страданием, что он смолкает. Они стоят на краю улицы чужие, не понимающие друг друга.
«Сток ожесточился, он больше никого не любит, ни меня, ни сына», – обиженно думает женщина. Нет больше прежнего Иоганна. Изменилось все, изменились оиа, он. При первой встрече Женевьева едва узнала в рассудительном, сдержанном исхудалом мужчине прежнего беспечного ткача и портняжьего подмастерья, которого так часто высмеивала старая Катерина, которого она, Женевьева, решалась обзывать «бревном». Новый Сток внушал ей боязнь – она его не могла разгадать.
Слезы пробились на глаза Женевьевы. Ей припомнились страшные недавние годы голода, унижения, мытарств, страшная жертва, принесенная однажды ради сына, который, казалось ей теперь, вовсе не был нужен Иоганну. Захотелось сказать Иоганну, как исстрадалась за эти годы, рассказать о случившемся ночью в гадком ресторане ради шести франков для сына. Крепко-накрепко сжала руки, чтоб не проронить ненужного признания, не выдать того, что считала погребенной в себе тайной.
Портной не замечал выражения лица жены. Вдруг один из мальчуганов обернулся и, узнав мать, побежал ей навстречу. Это был здоровый ребенок, с обветренной исцарапанной рожицей.
– Пока что, хоть и много детей на свете, а каждому все-таки хочется своего, – улыбнулся широко, неуклюже, как когда-то, Иоганн, желая развеселить жену. И ему это мгновенно удалось.
На крыльце сама огородница поджидала гостей. Женевьева горячо обнялась с нею. Несмотря на скаредность, эта ниспосланная ей случаем толстуха оказалась отличной опекуншей маленького Иоганна. Любовь ее к воспитаннику достигла с годами таких размеров, что она нередко сама предлагала отсрочить очередной платеж и баловала мальчика, чем и как могла.
Быстро стемнело. Маленький Иоганн, привыкший засыпать вместе с курами, ушел в дом; огородница растапливала печь. Рука в руку с женой Сток вышел во двор; остановились у плетня. Надвигалась прозрачная холодная тихая ночь. Вдали горели огни столицы. Иоганн смотрел на Париж, далекий и яркий, как звездное небо.
– Сколько мы пережили за эти десять лет! – заговорил он шепотом.
– Сколько пролилось крови!..
– Это и есть жизнь, – думая не о том, отозвался Иоганн.
– С горы Фурвьер Лион такой же далекий и низкий, как отсюда Париж.
Слова Женевьевы мгновенно перенесли обоих на берег Роны.
– В Лионе, – живо заговорил Сток, – мы боролись за тариф. Нас было много, сотни тысяч. Мы оказались побежденными. Двенадцатого мая в Париже нас была горсточка, но каких! Все – люди одной цели. И мы боролись за власть, за республику, за всю рабочую Францию. И снова оказались побежденными.
– Значит, не судьба, – сказала Женевьева.
– Судьба? Эх, бабья дурь! Судьба?!
Сток жестко рассмеялся, и опять его жена болезненно ощутила, как далек он от нее.
– Судьба – утешение дураков. Рабочий сам себе судьба. – Он помолчал. – А вот Шаппер, видно, видел дальше меня, когда сомневался, правильно ли действуем. Что, если бы нас была сотня тысяч в Париже? Что, если б мы боролись в Лионе не только за тариф, но и за нашу власть? Победа! Тогда – победа!
– Но когда она будет? – нетерпеливо и насмешливо спросила Женевьева.
Сток развел руками.
– Не знаю, – признался он смущенно, – но будет, будет – это я знаю.
Он принялся говорить то, что слыхал от Флери, от Шаппера об Англии, где каждый день проливается кровь за хартию, о Германии, тюрьмы которой не вмещают революционеров, о России, страшной стране, где медведям на растерзание бросают восставших рабочих, где до смерти засекают крестьян, но они не сдаются, – и мир показался Женевьеве огромным, залитым кровью нолем битвы. Два войска сражались. Одно состояло из Стоков, и она, Женевьева, шла в его обозе с мешком маркитантки, другое возглавляли чудовища с холеными, сытыми лицами Дювалей, Броше, господ В. Д. …
– Мы их побьем, иначе быть не может!