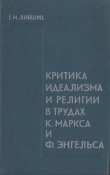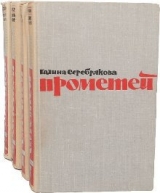
Текст книги "Юность Маркса"
Автор книги: Галина Серебрякова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 41 страниц)
Фридрих Энгельс-младший к конторе своего отца подъехал на великолепном жеребце. Юноша был безукоризненно сложен, отлично одет, задорно-весел. Старый Джон, несмотря на свою настороженность к людям богатым, залюбовался молодым человеком, когда тот спешился и подошел к дверям дома.
– Сэр, верно, был офицером? – спросил старик, принимая плащ и высокую шляпу Фридриха.
– Как же – солдат! Артиллерист.
Энгельс, шутливо смеясь, выпятил грудь и гусиным шагом промаршировал от стены к стене прихожей.
– Оно и видно, что сэр ходил под барабан.
– Хочешь сказать: «кажетесь болваном»? – засмеялся юноша так звонко, как смеются только очень здоровые люди.
В этот вечер Фридрих Энгельс, против обыкновения, поздно засиделся в конторе. Джон дремал на скамье в прихожей.
Перенимающие всякое техническое новшество, компаньоны «Эрмен и Эпгельс» первыми провели в своей конторе газовое освещение.
Под прозрачным полушаром у самого потолка горел ярко-белый газовый рожок. Свет в изобилии падал на комнату. У старого Джона болели глаза. Он сравнивал немигающий яркий фонарь со стальными ножами, которые оттачивал в Бирмингеме.
Свет горящего газа мешал ему заснуть, покуда неутомимый Фридрих читал и писал в соседней комнате.
Когда забившийся в угол Джон смежил наконец веки и задремал, его разбудило осторожное прикосновение. Рядом стоял хозяйский сын. Он казался смущенным.
– Я разбудил тебя? – сказал он, готовый отойти.
Но Джон вскочил, как вскакивал всегда, заслышав обращение хозяина. К этому раз и навсегда приучили его в детстве. Тщетно пытаться менять привычки в шестьдесят два года.
– Зайди ко мне, старина.
– Но дверь, сэр…
– Запри ее.
– Слушаю, сэр.
Джон поплелся за молодым человеком.
В знакомом кабинете, вещи которого давно наскучили сторожу, – одной из обязанностей Джона было вытирать по утрам пыль со столов и шкафов, – Фридрих предложил старику сесть. Джон растерялся. Он до тонкостей знал здесь каждый стул и кресло, знал, где не смыто чернильное пятно, какая ножка шатается, какая кожаная пуговица готова вот-вот отвалиться. Но он никогда не пользовался этой мебелью. Поэтому нелегко было ему сейчас решиться сесть на стул, за которым он приставлен был ухаживать.
Фридрих но понимал его колебаний и подвинул ему кресло. Затем нажал одну из кнопок глухого шкафа и открыл нижнюю дверцу. Вместо бумаг, вместо денег, книг, – словом, вместо всего того, что предполагал увидеть в шкафу старик, там оказались рюмки и пыльные, крепко закупоренные бутылки.
Фридрих Энгельс достал одну из них и осторожно наполнил два бокала.
Джон отказался от вина, предпочтя ему неразбавленный, жгучий джин. Беседа завязалась.
Фридрих нравился Джону больше всех встречавшихся доныне иноземцев. Они разговорились, как старые приятели. Розовощекий веселоглазый хозяйский сын знал все из того, что казалось Джону его личной тайной. Он знал подробности бирмингемских происшествий, тяжелые перипетии борьбы за хартию. Он знал, как умер Меллор, и говорил о луддитах так, точно сам был в их рядах во время разрушения машин.
Джон растерялся перед его осведомленностью.
Узнав, что старик в раннем детстве был продан на фабрику, Энгельс оживился и, казалось, обрадовался, точно работал некогда с ним вместе, точно встретил земляка.
– Сколько же сэру лет? – не вытерпел Джон.
– Двадцать два.
Они допили бутылку.
– Сэр знает все, точно был одним из нас…
– Я знаю лишь то, о чем говорят документы и еще более того – жизнь. Видишь ли, по-разному можно прожить свой век, когда свободен и богат, но у рабочего, у раба нищеты и эксплуатации, выбор невелик.
Давно отошла полночь, давно спал Манчестер.
Осторожно Фридрих подвел Джона к его прошлому. Старику казалось, что, пятясь, он отступает в темноту, натыкается на что-то, плутает, проваливается в овраги и карабкается снова, но все напрасно. Он не хотел оборачиваться лицом к тому, что осталось в его жизни далеко позади. И воспоминания его были, как блуждания в потемках. Старик хоть и беспокоился, что рассказ его скучен и бессвязен, но не мог остановиться и замолчать, точно в последний раз собирал развеянные ветром времени листы своей жизни. Фридрих слушал, чуть нахмурив красивые брови. Лицо его вовсе не улыбалось.
Для Энгельса не было ничего нового в исповеди старого ткача, ножовщика и сторожа, луддита и чартиста. Это была еще одна проверка того, что́ знал он по синим отчетам фабричных инспекторов, по исповедям других рабочих.
То, чего Джои но умел сказать, Фридрих угадывал и досказывал вслух или про себя.
Джон Смит родился в крестьянской лачуге. Деревня, где жила его семья, состояла из дюжины каменных, глухих, как ласточкины гнезда, хижин. Деревня находилась у въезда в помещичью усадьбу. Владелица имения повелела выстроить зубчатую стену и посадить вдоль нее кустарник и деревья, чтоб крестьянские избы не портили красоты пейзажа. За ограду барской усадьбы деревенских жителей не пускали.
Люлькой Джона было корыто. Одновременно оно служило для кормления двух сивых, всегда несытых свиней. Джон делил его с ними. Горбатая Мери дважды в день вытаскивала стиснутого до синевы вонючим повивальником братца из корыта и наливала туда пойло. Свиньи кормились преимущественно отбросами, за которыми охотились вне дома. Когда они, неудовлетворенно поводя рылами, отходили от корыта, Джон снова возвращался на свое место, и люльку ставили на скамью. Мать боялась, как бы голодные домашние животные, которыми кишмя кишел дом, но съели ребенка. Но когда Джон высвободился из тряпок и научился ползать по земляному полу, свиньи, бараны и гуси стали его лучшими друзьями. Он усвоил их язык, и первыми словами, которые он выговорил, были не «ма-ма» и «дэ-ди», а «хрю» и «мэ». Значительно позже в сознание мальчика вошли двуногие животные – люди. Он долго боялся их и прятался от них. Отец его был молчалив и жалок, когда трезв, и страшен, когда напивался.
Тщетно попытавшись выжать из неплодородной земли не только арендную плату помещице, но и прокорм семье, Джон Смит-старший горько запил. Спьяна он бил жену; жена, обозленная нищетой, била нелюбимую горбатую дочь, а та вымещала обиды на отданных ей под надзор меньших членах семьи. Вокруг Джона жили люди, родившиеся, как и он, чтобы неустанно один на один сражаться с голодом и умирать, проигрывая это, заранее обреченное на неудачу, сражение.
Мир, где жили иначе, был отделен забором, колючим кустарником, высокими деревьями. Джон его не знал.
– Помер бы ты лучше в детстве, чем висеть на наших шеях камнем, – беззлобно говорили ему близкие.
Смерть была благодетельницей обнищалых деревенских домов. Прихода ее ждали. Горбатая Мери завидовала умиравшим сверстницам. О них жалели, говорили с нежностью. Церемония похорон казалась такой величественной. Горбунья повязывала лоб лентой, влезала на стол и закрывала глаза.
– Я покойница, плачь обо мне, – говорила она Джону мечтательно.
Смерть, по-видимому, прекращала ноющее, как рана, чувство голода, первое чувство, которое испытал Джон. На кладбище было красиво, уютно. Сама владелица имения велела посадить на могилах цветы. Она жертвовала также кресты умершим арендаторам.
Не смерть, а рождение нового человека было, по мнению деревни, несчастьем. Женщины плакали над новорожденными. Мужчины били жен по беременным животам.
Когда Джону минуло четыре года, случился неурожай. Родители продали свиней, баранов, гусей. В лачуге стало тихо и просторно, как будто смерть пронеслась над ней. В тщательно заплатанной рубахе, которую надевал в дни крестин и похорон, отец ушел за ограду, в мир, который, как пожар, был страшен деревенским детям. Он робко пробрался в поместье цепных собак, огромных слуг в ливреях, суконных всадников и леди, выезжающих на охоту под вой рога.
Помещица отказалась помочь Джону Смиту-старшему отсрочкой платежей. Это решило судьбу Джона-младшего. После свиней пришла очередь быть проданным и ему. Мать ушла в город. Там, в прокуренной сигарами конторе по найму рабочих, она упала на колени перед человеком в красном бархатном жилете, в белом камзоле и коротеньких черных штанишках. Он отказался купить Джона.
– Нам выгоднее, – сказал он строго, – брать сирот и подкидышей из рабочих домов и приютов.
Крестьянка заплакала, застонала. Принялась целовать холодные пряжки туфель и нитяные чулки на ногах, бугристых и кривых, как оплывшая восковая свеча.
– Сжальтесь, сэр! – умоляла она. – Джон, право, силен и вынослив, как баран. Он послушный, кроткий мальчик. Мы будем все молиться за вас… Ребенок заменит двух мужчин. Господь благословит ваш дом, если вы снимете с нас этот груз!
Наконец господин брезгливо отнял свои ноги и согласился.
Вслед за тем мальчик покинул навсегда деревню. Она осталась в его памяти большой грязной ямой, в которой дети и животные дерутся за съедобные отбросы.
Мысль о родительском доме всегда впоследствии вызывала у Джона щемящее, почти болезненное ощущение голода.
Связь с семьей для него оборвалась. Он встретил мать лишь спустя тринадцать лет. От нее Джон узнал, что отец давно исчез, – верно, умер на какой-нибудь из добротных английских дорог; что горбунья Мери дождалась смерти. Во время эпидемии таинственной горловой болезни она умерла вместе с четырьмя младшими детьми. Только два брата остались в живых и работали в лондонском порту грузчиками. Но Джону не довелось встретить их.
Самостоятельная жизнь Джона Смита началась в фургоне, обтянутом серой пятнистой рогожей. Вместе с двадцатью мальчиками и девочками он ехал в Манчестер. Фургон бежал по незнакомым дорогам. Дети радовались разнообразным картинам, открывающимся перед ними, не знали и не думали о том, что ждет их завтра и зачем их везут.
Самому старшему мальчику, Майкелю, не было еще девяти лет. Сбившись в кучу, маленькие рабочие выглядывали из-под рогожи, защищающей фургон от дожди.
Красива Англия. По обе стороны ее дорог всегда разбегаются ярко-зеленые луга, коричневые перелески, серые холмы. Легкая дымка заволакивает горизонт. Луга сливаются с блекло-зеленым небом.
Богата Англия. Сквозь колючие ограды с вплетенными гербами, щитами и коронами виднеются замки, устремляющие к облакам острые шпили башен. Огороженные парки тянутся на многие километры. Оголенные, лишенные тени, они – как бассейны, собирающие лучи солнца.
Статные всадники и всадницы со сворами псов обгоняли фургон, исчезали за холмами. Из замков на дорогу доносился пронзительный бой металлических гонгов, сзывающих к завтраку, к обеду, к ужину. Дети вздрагивали, недоумевали.
Фургон безостановочно мчался на восток. Дважды за день возница выдавал пассажирам по куску хлеба и позволял им напиться воды из жестяного бидона.
Чем ближе к Манчестеру, тем ровнее и печальнее открывающаяся глазу местность. В низинах густой туман, как ватная гардина, отгораживает дорогу. В нем исчезают очертания холмов и леса. Смотреть больше не на что. Глаза беспомощно бьются в паутине из влаги. Кутаясь в лохмотья, прижимаются друг к другу дети. Джон задремал на худеньком плечике своей ровесницы – соседки. Девочка исподлобья поглядывает на него, но старается не шевелиться, чтобы не разбудить. Дети мало говорят. Как маленькие недоверчивые зверьки, они то заигрывают друг с другом, то огрызаются. Девочку, к которой доверчиво прижался Джон, зовут Пэгги. Она – подкидыш. Десять лет, из которых складывается вся ее жизнь, она провела в приюте и на дорогах Уэльса. Пэгги не говорит по-английски. Ее гортанное произношение, незнакомые уэльские слова вызывают непрерывные кривляния и насмешки английской детворы. Тщетно стараясь объясниться с ними и получая в ответ издевки, Пэгги вдруг вспыхивает, принимается рьяно плеваться по сторонам и показывает язык.
Маленькая белесая до седины косичка сердито скачет на ее затылке. Девочка готова пустить в ход ногти, но внезапно замечает, что голова спящего Джона упала с ее плеча на холодную перекладину фургона. Осторожно, с недетской лаской укладывает она мальчика и прикрывает его подолом своей длинной рваной юбчонки.
В Манчестере фургон останавливается у длинного кирпичного дома. Когда дети проходят по двору, несколько женщин бросаются к ним с проклятьями:
– Издохните этой ночью, змееныши! Из-за вас голодают ваши матери и отцы! Рожаем вас на свою погибель, проклятые!..
Джон не понимает, чего от него хотят. Ненависть женщин пронизывает детей, колет, как ядовитый туман текстильного города. Джон бежит к двери дома, всхлипывая. Он тоскует по горбатой Мери.
В конторе прибывших малолетних рабочих пересчитывают, выкликают и ставят в ряд. Три спокойных, неулыбающихся джентльмена осматривают рабочих. Так приехавший в деревню мясник отбирает, покупая у крестьян, свиной и телят.
Детей поднимают, ощупывают, дергают за уши, щелкают но зубам и оттягивают им челюсти, заглядывая в рот.
Джон нравится покупателям, и два фабриканта оспаривают его друг у друга. Спор кончается жеребьевкой. Вместе с сироткой Пэгги и еще пятнадцатью детьми Джон попадает к мистеру Джорджу Б. Страйсу.
Тот же, обтянутый изрядно намокшей рогожей фургон увозит юных рабочих на фабрику их нового хозяина, расположенную между Ливерпулем и Манчестером.
Ночь непроницаемо томна. Воздух влажен. Фургон бросает на проселочной дороге из стороны в сторону, как лодку.
Майкель, выросший на западе Англии, у моря, говорит удивительные слова:
– Мы в океане. Это пираты погрузили нас в шлюпку, и она несется неизвестно куда. Разве это не правда?
Никто не возражает. Всем становится еще страшное. Джон, никогда не видевший моря и не понимающий слов «пираты» и «шлюпка», благоговейно слушает Майкеля. Тот продолжает завораживать товарищей чудесными, феерическими вымыслами о рыбах, разбойниках, морях.
– Мой дед-рыбак утонул, мой отец-рыбак утонул, мой брат-рыбак утонул. И я буду рыбаком и утону, – говорит он чванливо под конец.
Под рассказы маленького рыбачонка фургон подъезжает к фабрике Джорджа Б. Страйса. Сострадательный туман скрывает понурое уродство деревянных фабричных сараев и гладкой черной, как сковорода, окружающей местности. Потрясенные слышанными от Майкеля чудесами, полусонные дети валятся спать по команде хозяина в темном сарае у ворот. После тряского долгого пути, новых впечатлений подстилка из соломы кажется им ласковой периной. Они засыпают в эту первую ночь рабства счастливые и беспечные. Что знают они о жизни? Младшему из них четыре года.
Джордж Б. Страйс – текстильный фабрикант, ни злой, ни добрый, ни безобразный, ни красивый, почтительный сын своих родителей, исправный налогоплательщик, верный слуга парламента и короля, – считался примерным хозяином и знатоком фабричного дела. Ему предсказывали в Манчестере и Ливерпуле, что он далеко шагнет по пути преуспевания и но торопясь обгонит многих. Начал Страйс с пустяков, с грошей, кончит, пожалуй что, миллионом.
Сам Джордж Б. Страйс относился к жизни, как к делу серьезному. Он считал, что жизнь – ответственное поручение, данное человеку богом. Количество отложенных в банк прибылей было для него мерилом выполнения заданного свыше, и Джордж Б. Страйс не тратил на земле времени даром.
Родители оставили ему наследство. Но фабрика ко времени прибытия Джона была еще невелика, как и даваемая сю прибыль. Самому владельцу приходилось ведать всем, жить всего лишь на фабричном дворе и пользоваться услугами жены и сыновей.
Миссис Страйс сама управляла кухней, на которой варилась пища рабочим. Дети, взятые фабрикантом на десять лет, получали от него заработную плату натурой. С помощью дешевых детских мускулов семейство Страйс рассчитывало разбогатеть, расширив дело. Тогда наконец можно будет перебраться на виллу где-нибудь за Манчестером.
На рассвете звон колоколов будил фабрику. Джордж Б. Страйс, основательно побрившись, надевал сюртук малинового сукна с голубым воротником и обшлагами и большими медными пуговицами, брал поярковую шляпу и выходил к столу. Перед едой вся семья читала молитву. День начинался у фабриканта поучением, обращенным к трем, безучастно моргавшим безволосыми веками сыновьям.
– Не следует, – сказал Страйс в это утро, – задавать себе вопросы, когда ответы на все сомнения давно даны Библией. Не следует пускаться в путь, но отыскав заранее найденных другими, испытанных дорог.
Сыновья отупело молчали. Миссис Страйс, которой разглагольствования мужа мешали не больше чем стук дождя за окном, подсчитывала в уме, на сколько дешевле обойдется ей репа для фабричной похлебки. Скупость этой высокой и костлявой дамы могла конкурировать разве только с ханжеством мужа. Главным огорчением миссис Страйс было то, что солома, несмотря на все ухищрения, все-таки оказалась несъедобной.
Покончив с наставлениями сыновьям, мистер Страйс принялся за словесное истязание своей беспомощно озиравшейся в поисках спасения дочери.
– Я хотел бы услышать от вас, Мери, что именно нам говорил Иисус, сын Сирахов?
Мери трепетала.
– «Дочь для отца, – с торжественной печалью изрек фабрикант, – тайная, постоянная забота, и попечение о ней отгоняет сон: в юности ее – как бы не отцвела, а в замужестве – как бы не опротивела».
– Вы говорите неприличные для ушей невинной девушки истины, – вмешалась миссис Страйс, но муж взглянул на нее так, что, если б глаза жгли, она мгновенно обратилась бы в пепел.
– Это говорю не я, а Иисус, сын Сирахов. Итак, мой друг Мери: «Над бесстыдною дочерью усиль надзор, чтобы она не сделала тебя посмешищем для врагов, притчею в городе и упреком в народе и но осрамила тебя перед обществом. Ибо, как из одежд выходит моль, от женщин – лукавство женское».
Вторичный призыв колокола освободил Мери из-под словесной пытки.
Прежде чем уйти из дому, Страйс ежедневно перелистывал памятную книгу, которую называл «книгою мудрости» и завещал детям.
На первой странице, после цитаты из Экклезиаста, было написано:
«Рост мистера Страйса – 5 футов.
Вес мистера Страйса – 14 стон.
Капитал мистера Страйса – см. банковский счет № 1937 и завещание у нотариуса Пирнера (вскрыть после моей смерти).
Великие люди, которых рекомендую моим сыновьям для подражания: Соломон Мудрый, Питт-старший, Генрих VIII, мистер Ситри – пастор нашего прихода, а также Джон Лоу, если бы не обанкротился и не был шотландцем».
Опираясь на палку, фабрикант выходил на фабричный двор. Под навесом, где лежали тюки шерсти, ждали его малолетние рабочие. Их было свыше трех сотен. Страйс многозначительно размахивал тростью и усаживался на приготовленный стул. Начинался урок богословия.
– Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, но сидит в собрании развратителей, – вяло тянули дети; голоса их дрожали и обрывались.
Разрывая туман, моросил дождь.
Старое тряпье, в прорехах и дырах, едва прикрывало худенькие детские тела. Босые ноги почернели от грязи. Распевая псалмы, дети не переставали почесываться. Почти все болели чесоткой. Красные, слезящиеся глаза их говорили о свирепой трахоме и золотухе.
«Я разорюсь, если они снова начнут дохнуть, как вздумали это делать в прошлом году», – думал Страйс, поглядывая на подозрительно вспухшее лицо и лихорадочные глаза одного из мальчиков в первом ряду. Он подозвал ребенка к себе и брезгливо прикоснулся мизинцем к его лбу. Не оставалось сомнения в том, что мальчик в жару и болен. Мысль об оспе перепугала фабриканта.
– В сараи! – заорал он неожиданно громким голосом. – В сарай! Никто из вас не смеет подходить к больному.
Урок богословия прекратился. Дети поплелись на работу. Джордж Б. Страйс пошел в контору в крайне раздраженном состоянии духа. Удивительно, до чего трудна жизнь фабриканта! Того и гляди, оступиться. Повсюду препятствия и подвохи. Когда же наконец машины освободят его от рабочих, которые осмеливаются болеть и тем нарушать все планы!
– А! – сказал, немного повеселев, Страйс, увидев в конторе за перегородкой несмело жавшихся у стены мальчиков. – Что скажешь, Боб?
Боб шмыгнул вслед за хозяином. Он быстро, шепелявя, нашептывал все подмеченное и подслушанное на фабрике за истекшие сутки. Это был рыхлый рослый мальчуган с маленькими светлыми, шныряющими глазами. Страйс давно высмотрел Боба – и не ошибся. Из того выработался выдающийся шпион. Трое других, исполняющих такую же роль, мальчуганов были несравненно менее опытны в этом тонком деле.
Фабрикант выслушал утренние донесения маленьких лазутчиков, узнал все необходимое о замыслах и поступках фабричных ребят и отпустил Боба и его помощников после краткого наставления.
– Хотя я благодетель сирот и спаситель многих семей от голодной смерти, – сказал им фабрикант, – хотя я учу, кормлю вас и вам подобных, – сердца детей ещо менее, чем взрослых рабочих, способны испытывать чувство благодарности к своему спасителю. Я знаю, что нелюбим на фабрике. Даст бог, придет время – и прозреют незрячие, и устыдятся темноты душ своих. Ты, Боб, ты, Джемс, ты, Вильям, и ты, Поль, – единственные, исполненные преданности, мои рабочие. Верьте, Джордж Б. Страйс не забудет этого. В новом году вы получите куртки, штаны. На своей фабрике я – как на войне. Вы, верные разведчики, несете почетную службу и спасаете своих братьев, заранее предупреждая их преступные намерения, искореняя зло. Ступайте, дети мои, и будьте такими же добрыми сынами порядка и справедливости, как доныне.
Мистер Страйс остался весьма доволен своей проповедью и даже пожалел, что господь бог направил его на стезю торговли и промышленности.
«Если бы я отдался склонности к богословию, то был бы уже епископом», – решил он. Но приятные эти размышления были прерваны младшим сыном фабриканта, исполнявшим обязанности клерка. Он сообщил, что более двадцати детей оказались не в силах сегодня работать.
Но первому впечатлению, они все заболели оспой.
– О проклятье, они вгонят меня в гроб! – завопил Страйс и приказал изолировать больных в деревянном сарае.
Врача из города решено было покуда не вызывать.
– Пусть приедет, когда несколько из них помрет, что неизбежно. Это сократит расходы, так как все равно надо оформить их погребение и предать их земле по-христиански.
Джои легко разобрался не только в несложном ткацком станке, которым отныне управлял, не только в большом, обнесенном кое-как сложенным забором дворе, не только в нестройных, разбросанных домишках, называемых, однако, корпусами, но и в Джордже Б. Страйсе, своем хозяине. Мальчик очень скоро инстинктивно возненавидел фабриканта. В первый же день он почувствовал на себе его мягкую царапающую руку. Страйс надрал Джону уши за ничтожное упущение в работе и пригрозил оставить его без обеда.
От грязи на голове у Джона появился лишай, который постепенно покрывал все большую поверхность кожи, уничтожая на ней волосы и мучая нестерпимым зудом. Мальчик расчесывал пораженные места до крови. Но это было лишь началом испытаний. В первый же месяц работы на текстильной фабрике Джон свалился в оспе и оказался в переполненном больными сарае, предназначенном для хранения дров.
Зуд лишая был легким щекотанием по сравнению с тем, что принесла с собой оспа. Джон метался в жару, скрежеща зубами, разрывая скрюченными пальцами гнойные волдыри на лице и теле. По мнению миссис Страйс, изредка посещавшей своеобразную больницу, мальчик должен был обязательно умереть. Но наперекор всему Джон выздоровел. Его спасла сиротка Пэгги. В бреду Джон не узнавал хлопотливо ухаживающую за ним и приносящую ему еду девочку. Он звал ее именем сестры Мери.
– Я – Пэгги, – поправляла его маленькая работница, но Джон был слишком болен, чтобы понимать смысл ее слов.
Вопреки строгим наказам фабриканта, Пэгги по ночам и в короткие дневные перерывы пробиралась в дровяной сарай. Она оправляла тюфяк Джона, обмывала больного мальчика и, разжав его пылающие, обметанные лихорадкой губы, поила его бульоном или молоком, украденным на кухне у миссис Страйс.
Примерное поведение, незнание английского языка и потому невольная молчаливость помогли вкрадчивой девочке попасть в судомойки господского дома. Пэгги угождала дочери хозяина, пресмыкалась перед его сыновьями и женой и снискала у них такое доверие, что долго могла воровать все необходимое для маленького больного, которого обожала.
В свои неполные десять лет сиротка была насторожена и утомлена, как старушка. Ничего детского не осталось в выражении ее сморщенного зеленоватого личика, обрамленного прямыми волосами, пепельный цвет которых казался почти седым.
Пэгги имела о жизни, о людях, о земле свое особенное, но вполне законченное представление. Восьми лет она бежала из приюта от побоев, молитв и непосильного труда. В течение полугода удалось ей скрываться от полиции и попрошайничать у дверей кабаков и церквей. Пьяный дворецкий помещика, едущий за провизией в город, подобрал девочку на дороге и растлил ее в лесу близ Кардигана. В городе дворецкий – весьма религиозный человек – поспешно сдал беглянку полиции. Ее высекли, препроводили обратно в приют и вскоре продали на фабрику.
В десять лет эта девочка воспринимала жизнь, как большое незаслуженное горе. Люди в лучшем случае не замечали Пэгги. И только Джон отнесся к ней доверчиво и нежно, как некогда к горбатой, вырастившей его сестре. Этого было достаточно, чтобы все помыслы одинокого жалкого ребенка сосредоточились на Джоне. Краденая еда и уход Пэгги спасли мальчика от смерти. Но Пэгги за эту помощь Джону жестоко поплатилась.
На очередном утреннем докладе Боб сообщил Страйсу о проделках судомойки. Пэгги вызвали на допрос. Тщетно она ползала в хозяйских ногах и отчаянно ревела. Суд и расправу взяла на себя сама миссис Страйс. Подсчитав количество унесенного бульона, молока и кусков сахару, жена фабриканта впала сначала в оцепенение, потом в бешенство. Она самолично таскала Пэгги за волосы до тех пор, пока мягкая прядь из узенькой косички но осталась в ее руке. Потом девочку заперли в чулан и обрекли на суточную голодовку. И лишь после того, как мистер Страйс в утреннем наставлении объяснил жене, что они терпят потери, раз пара рук обречена на бездействие, Пэгги была возвращена на работу. Девочка недолго пробыла в промывочном цехе, где жара и холод попеременно тиранили детей.
Пэгги умерла в день, когда Джон оставил дровяной сарай. Со смертью Пэгги из жизни Джона ушло навсегда наиболее полное беззаветное чувство, которое он испытывал к людям.
Смерть маленькой работницы была мучительна, как ее коротенькая жизнь.
Подобно всей фабричной детворе, девочка спала на том же месте, где проводила день: мистер Страйс считал слишком большой роскошью и транжирством постройку барака для рабочих. С них довольно было и того, что разрешалось на ночь стлать солому тут же, подле станков. На день солома сгребалась к стене почерневшего в вековой грязи полутемного строения. На рассвете отсыревший колокол поднимал рабочих на ноги, но никто не проверял, все ли разбужены, все ли встали. Пэгги очень устала. Нелегко вертеть ручку прядильной машины. Прежде чем уснуть, девочка долго плакала от обиды и боли. Жалкая тощая косичка долго вздрагивала на ее затылке. Земляной пол был таким холодным, что девочка, желая согреться, полезла со своей охапкой соломы под чан и зарылась между дровами. Утром рабочий, ведавший топкой, не заглянув в заготовленный костер, разжег пламя. Доски и солома вспыхнули. Неповторимый крик живьем сгорающего ребенка пронесся над цехом.
Пэгги вытащили полуживой. Сгорела косичка, почернело лицо, пластами отваливалась кожа. В полдень, когда колокол сзывал детей на молитву и скудный обед, Пэгги скончалась. Ее поспешно отнесли за фабричную ограду и зарыли на маленьком кладбище, которого боялись, как привидения, дети.
Мистер Страйс, умело выполнив все пасторские обязанности, водрузил над могилой деревянную дощечку с надписью:
ПЭГГИ ПОДКИДЫШ, ИЗ СОСТРАДАНИЯ ВЗЯТАЯ. ОПЕКАЕМАЯ С ХРИСТИАНСКИМ МИЛОСЕРДИЕМ ФАБРИКАНТОМ ДЖОРДЖЕМ Б. СТРАЙСОМ.
Прими, господи, ее грешную душу.
Джон ни за что не решился бы бежать, если бы не его закадычный друг Майкель. Джон никогда не задумывался над тем, что мир вмещает не только огороженный фабричный двор, кладбище за оградой и речку, куда сгоняли детей купаться в теплые дни, но и нечто за пределами владений Страйса. Майкель всегда помнил о море, о рыбачьем поселке, о городах, которые пересекал крытый фургон, везший в Манчестер проданных детей.
Где-то в морс, напротив Англии, находился, по сведениям мальчика, большой пиратский остров Америка. Туда следовало бы удрать от розог и псалмов фабриканта, от нудно скрипящих машин, от тошнотворных похлебок миссис Страйс.
По воскресным дням фабрика останавливалась. Но чтоб дети не озорничали и не привыкали к безделью, Джордж Б. Страйс заставлял их работать весь день не покладая рук. Праздники предназначались для уборки двора, корпусов и машин, для молитв и подведения итогов минувшей недели. В субботу вечером фабрикант учинял суд над провинившимися. После недолгого разбирательства проступков маленьких невольников начиналась порка изобличенных в нерадении, лени, ничтожном воровстве. Так как мистер Страйс считал, что люди не могут быть безгрешны, то все дети поголовно получали по тумаку.
– Если ты не изобличен, то это вовсе не значит, что не виноват, – приговаривал при этом в назидание хозяин.
Особенно доставалось Майкелю. Ни Боб, пи другие ябедники не могли поймать его с поличным, но Страйс неизменно подозревал мальчугана в бунтарстве и мучил с особенным удовольствием.
Однажды в субботний вечер, когда Джон укладывался спать под прядильной машиной, на которой работал днем, к нему подполз Майкель.
– Надоело! – сказал мальчик, подвернув рубаху и показывая синяки. – Надоела эта жизнь! Надо бежать в Лондон, а если там не устроимся, то поплывем в Америку. Хуже, чем здесь, нигде не будет. Я слыхал, что пираты хорошо едят…
Утром, ползая на четвереньках с тряпкой и метлой, друзья продолжали говорить о побеге. Джон твердо верил в то, что Майкель знает свет, что на него вполне можно положиться. Было условлено – в тот же вечер, после церковной службы, бежать в Манчестер и оттуда в столицу.
– Не пропадем! – убежденно повторял Майкель, разгоняя сомнения товарища.
Мальчики преодолели все препятствия и ушли незамеченные. Под утро добрались до Манчестера. Они удачно выпрашивали милостыню, надеясь набрать необходимую сумму, чтобы купить билет в почтовой карете. Но для этого нужны были месяцы нищенства. Боясь преследования, мальчики под проливным, не останавливающимся дождем, обычным для Манчестера, как солнце для тропиков, как снег для Ледовитого океана, направились в Лондон. Им предстояли многие дни тяжелого пути. Но дорожные стражники избавили беглецов от голода и сырой стужи. Их заметили, арестовали, вынудили сознаться во всем и под конвоем вернули мистеру Страйсу.