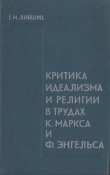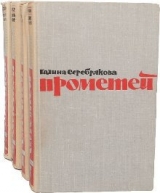
Текст книги "Юность Маркса"
Автор книги: Галина Серебрякова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 41 страниц)
– Вы едете в Англию? – вежливо заметил Маркс. – Мы бы очень хотели получать от вас подробные сообщения о происходящем в стране, о рабочих волнениях, о новых измышлениях парламентских кретинов. Преинтересный остров! Не правда ли? Значит, договорились?
Глаза Энгельса слегка подобрели.
– Охотно. Я вам сотрудник. До свидания, доктор Маркс.
– Счастливого пути, господин Энгельс.
«Так вот он какой, неистовый трирец, надменный, злой. Нет, нам с ним не по пути…» – в крайнем, необъяснимом раздражении думал Фридрих, спускаясь по лестнице. Не зная, как поправить разом испортившееся настроение и растворить досаду, он согнул дорогую отцовскую трость с такой силой, что, хрустнув, она сломалась надвое.
Глава пятая
Встреча
1Женевьева жила в Париже. Старый Буври и Иоганн были все еще в тюрьме. На месте ткацкой мастерской в Круа-Русс высился теперь кирпичный корпус новой фабрики Броше.
Выискивая работу, жена Стока вспомнила, как в дни недавней юности, примостившись на заветном сундуке, из лоскутов делала фиалки и маргаритки. Их охотно покупали магазины близ Лионской ратуши. Женевьева решила вернуться к этому ремеслу.
На улице Вожирар она отыскала мастерскую искусственных цветов. Толстая, большеглазая, большегрудая бретонка, госпожа Столь, нуждалась как раз в опытных работницах. И Женевьева осталась в сыром подвале, стены которого разрисовала вода, протекающая с улицы.
Не всегда цветы растут в тщательно оберегаемых садах, в темных лесах, на солнцем обласканных лугах. Не всегда разноцветные пышные розы распускаются на тучных газонах, фиалки ловят тень кустов. Гнойно-серые болота и липкая топь помойных ям вскармливают нередко прекраснейшие растения.
Мастерская искусственных цветов на улице Вожирар не была ни светлой оранжереей, ни пушистым лугом, ни даже скромною поляной. Тяжелая, гнилостная вонь заставляла вспомнить скорее о болоте или свалке.
Улица Вожирар, нарядная близ центра, возле сената, уходя на окраину, теряла городские очертания. Густые сады богатых особняков и монастырей чередовались с пустырями и с низкими провинциальными домами, бестолково вылезшими на немощеный тротуар. Улица Вожирар была степенная, тихая, сытая.
В маленькое оконце подвала засматривали низкий бурьян да густая крапива, не часто приминаемые блестящими сапогами, узкими, плоскими, без каблучков, туфельками, щеголеватыми штиблетами с вызывающими ушками да стоптанными суконными шлепанцами – этими самыми торопливыми и болтливыми из всех представителей французской обуви. Экипаж или телегу, изредка появлявшиеся на улице Вожирар, летом провожали смерчи пыли, по осени и весне встречала жидкая хлюпающая грязь.
Так как внешних впечатлений у мастериц, с утра до вечера запертых в подземелье, было немного, женщины радовались каждой паре ног, каждому мелькнувшему в окне подолу юбки и не уставали строить догадки о людях, которых не видели.
– Какая кайма, девицы! Видно, богатая дамочка спешит в церковь.
– Вот глупости! Кто же увидит в церкви, чем подбита ее юбка. Нет, она, конечно, торопится на свидание.
– Смотрите скорее! Каков фат! Штаны с оборочкой, а ботиночки с улицы Мира! Как выворачивает он носы! Клянусь, они жмут ему мозоли. Он норовит пролезть в зятья к господину Эверу.
– Ну, того не проведешь! Видно гадину по походке…
Каких только ног не видали мастерицы, поднимая глаза от проволоки и кусков ткани навстречу свету.
Толстые и тонкие, прямые и кривые – ноги были такие разные. Одни были грубы, наглы, другие жалки в своей неуверенности и поспешности. Одни льстиво, несмело касались земли, другие приминали ее уверенными хозяевами. Были ноги скаредные, сухие, подобранные, как губы ханжи, пухлые и ленивые, похотливо выгнутые и равнодушно, уверенно красивые.
В грязи, под болтовню, незаметно переходящую в свару, под смех, превращающийся в слезы, рождались между тем чудеснейшие цветы из бархата, шелка, батиста, муслина и коленкора. Вырастали на стеблях из проволоки. Так зацветают кувшинки на водах омутов…
Цветы с улицы Вожирар славились в Париже. Их вычурная, небывалая красота посрамляла королевские цветники. Оранжереи Версаля и Тюильри не смели состязаться в краске и рисунке с творениями подвальных художниц. Придворный садовод тщетно бился над тем, чтоб окрасить белую живую розу в нежно-голубой тон шелкового цветка, пленившего королеву. Английский посланник в Париже признал себя побежденным: его орхидеи казались только скверным подражанием тончайшим цветам из мастерской госпожи Столь.
С тех пор как законодатели мод, стремившиеся получить нечто превосходящее красками и запахом недолговечные земные цветы, начали опрыскивать духами творения цветочниц из мастерской на улице Вожирар, – к госпоже Столь потянулись экипажи заказчиц. Мода на искусственные цветы поработила парижанок. Госпожа Столь копила деньги, зная, как изменчив женский вкус.
Покупательницы, подобрав пышные платья, спускались в подвал. Так упорные ботаники в поисках редких цветов взбираются на вершины гор, проникают в ядовитые южные леса и переплывают реки.
Женевьева считалась искуснейшей из мастериц госпожи Столь. Ей дозволялось выдумывать цветы, каких нет в природе. И она страстно отдавалась своей фантазии. Это она первая создала черную тафтяную розу с серебряными бутонами и листьями, – траурный, но величественный цветок, сразу же нашедший сбыт на рынке. Он нравился красивым светлоглазым вдовам и дамам, желавшим прослыть роковыми в любви.
После черной шуршащей розы Женевьева сделала букетик из странных пестрых мелких цветов. Его рисунок был сложен, как узор африканских змей. Необычна была гамма его красок: из резко-желтого она переходила в пунцово-красный.
Женевьева никогда не была в зоологическом саду. Змей она суеверно боялась и при упоминании о них молитвенно складывала пальцы. Едва ли слыхала она что-нибудь о Сахаре – и, однако, у жаркой пустыни, у опасных хищников брала она краски, подобно тому как берет их кочующее племя для своих ковров и тканей.
Женевьева любила также белые пухлые бутоны. Они были нежны и пушисты, как цветущий хлопок.
Как гаремные затворницы воплощают мечту свою в вышивках и уборах, воплощала она в цветах свою тоску.
Но наибольшее одобрение хозяйки и покупателей заслужил большой пламенный цветок из бархата. Он очень нравился черноволосым смуглым женщинам и продавался в недоступнейших лавках под названием испанского цветка.
В память дармштадтских дней, навсегда ушедших, Женевьева сделала букет из увядающих листьев. Такие листья шуршали под ногами Стока, когда он поднимался на Господнюю гору. Такие листья свешивались с ветвей шалаша, и на них в часы рассвета смотрела тогда Женевьева. Иоганн спал на ее руке, и его волосы были цвета облетающих листьев.
Графиня де Рампри, в день своего пятидесятилетия отставившая любовника, переменившая обивку мебели и будуара, появилась в лиловом платье с букетом листьев Женевьевы на корсаже. И они мгновенно вошли в моду среди дам, «чей возраст напоминает прекрасные тона заката».
Госпожа Столь, женщина неопределенного возраста и незлобивого характера, весьма ценила Женевьеву, но платила ей гроши. Цветы Женевьевы придавали товару госпожи Столь необходимый шик. Одни добросовестные батистовые маргаритки, коленкоровые фиалки и полотняные ландыши не могли привлечь богатых клиентов. Не хватало изысканности. Они годились провинциалкам.
Тем более решение, принятое Женевьевой и объявленное ею хозяйке мастерской, явилось для госпожи Столь тягостным ударом.
– Не может быть! Как это могло случиться?.. Ни одной пары штанов… никогда… – в отчаянии и злобе выкрикивала госпожа Столь, снова и снова оглядывая с ног до головы требующую расчета мастерицу.
Но сомнений не оставалось.
Эти груди, распирающие блузку. Да что груди! Живот. Острый, выдающийся живот, приподнимающий юбку…
– Женевьева! – едва вымолвила госпожа Столь и вышла в большие подвальные сени, где стояла миска с водой и разогревался в печи клей.
Оскорбленным жестом хозяйка отодвинула проволоку, связанную снопами и уложенную вдоль стены.
– Женевьева! – она ткнула ее пониже груди. – Мало того, что тебя раздуло, что тебя обрюхатили, ты хочешь уйти в разгар работы, оставить меня…
Вдруг какая-то мысль отвлекла владелицу мастерской. Оживившись, госпожа Столь спросила:
– Кстати, когда и кто?.. Ведь этакая с виду тихоня!
Женевьева густо покраснела. Со дня на день ждала она этого неприятного объяснения.
– Я вам уж говорила о том, что у меня есть муж… в Германии, – сказала мастерица.
Госпожа Столь выразительно захохотала.
– Муж?! В Германии?! – Она уперлась ручищами в огромные бока и продолжала смеяться. Ни одной веселой ноты не слышалось, однако, в этом смехе.
– Но клянусь святой девой, я…
– Не будем говорить об этом! Ясно, что не святой дух наградил тебя ребенком. Это был мужчина и, видимо, способный.
Она имела в виду свою непоправимую бездетность. Удача Женевьевы вызывала в госпоже Столь тревожную зависть.
– Когда же тебя угораздило? – она принялась считать, загибая пальцы. – Раз, два, три, четыре, пять… Ты у меня пять месяцев. А ему сколько? – она шлепнула Женевьеву по животу, но голос ее смягчился.
– Восемь.
Госпожа Столь оттопырила пальцы и угрожающе замахала рукой.
– Потаскуха! Коза!.. Да как же ты смела поступить ко мне, не признавшись во всем?! Ах, ты… Вот теперь, когда мастерская завалена работой, ты решила разродиться. Ах, неблагодарная девчонка!
Женевьева понуро стояла. Напрасно спорить с госпожой Столь, когда она бранится. Все равно что лить воду в продырявленное корыто.
Неделю упрашивала хозяйка цветочной мастерской Женевьеву остаться, обещала помочь ей скрыть роды и сбыть, когда понадобится, ребенка.
Несмотря на ханжеские правила католической Вожирар, госпожа Столь не была особенно строга в отношении морали. В существование мужа Женевьевы она не верила, да и та не слишком упирала на это. Сообщение о том, что Сток в тюрьме, принесло бы жене его еще большие огорчения и трудности.
В конце концов не столько доводы Женевьевы, сколько ее все возраставшие вялость и слабость в работе убедили владелицу мастерской в необходимости расстаться с Женевьевой.
– Когда очистишься, – сказала с презрительной гримасой госпожа Столь, – приходи опять. Конечно, после того как сплавишь куда-нибудь младенца. Наша улица добродетельна, она не потерпит позора.
На улице Вожирар не значилось ни одного дома терпимости. Редкая улица…
На прощание, в сенях, госпожа Столь сунула Женевьеве узелок с тряпьем. Обрезки батиста, полотна и коленкора могли пригодиться в будущем.
Женевьева покинула улицу Вожирар. На скопленные деньги она наняла угол на окраине Парижа, близ Венсенского леса. Начались грустные дни.
Хозяева домишка жалели многочисленных своих постоялиц и не досаждали им расспросами. Мало ли девушек в Париже прячут свои животы! Закутавшись в платок, выходила под вечер жена Стока на улицу и шла, не выбирая дороги, устало глядя перед собой.
Как ждали Иоганн и Женевьева ребенка! Пять лет ждали напрасно. Втихомолку она плакала, обвиняя себя в бесплодии. Годы шли, детей не было. И вот теперь… Зачем? Иоганн так и не узнал о ее беременности… Женщина осторожно прикасалась к животу. Ребенок бился, как рыбка, под ее рукой, под платьем. Она чуть улыбалась той странной, беспокойной и рассеянной улыбкой, которой улыбаются беременные. Это не улыбка в ответ на мелькнувшую мысль. Нет. Это улыбка в ответ на уловленное биение еще одного сердца. Женевьева шла осторожно, инстинктивно сторонясь прохожих, огибая рытвины и камни. И в том, как она оберегала свое тело, была забота матери, страх не за себя. Мысль ее работала вяло. Несмотря на свое полное одиночество, безденежье, неустроенность, Женевьева, казалось, нимало не тревожилась. Беременность притупляла беспокойство. Природа требовала выполнения долга. Животное спокойствие чувств и мыслей необходимо было для того, чтобы творить, создавать нового человека. Великая задача! Женевьева редко думала о предстоящем и вовсе не боялась родов.
В последние недели до родов иногда по ночам она просыпалась в тревоге. Что-то надвигалось на нее. Ей хотелось бежать, спрятаться от предстоящего, от неминуемой боли. Но она несла в себе источник предстоящих страданий. Иного выхода не было. Надо найти мужество и подчиниться. Роды подойдут неожиданно и некуда будет уйти, некуда бежать, как от смерти.
В такие минуты злоба поднималась в беременной женщине, злоба против мужчины.
И она отводила душу в болтовне с женщинами, охотно хулящими своих мужчин.
– Им легко. Им – что! Разве они могут понять наши страдания? Для них – удовольствие, для нас – горе: сперва брюхо, потом коровья участь. Носи, корми своей кровью, своим молоком. Что они знают о детях? Своего от чужого не отличат. Дьяволы! Обманщики, кобели!..
Женевьеве становилось стыдно. Она забивалась в угол и сидела, тупо уставившись в живот. По ночам он мешал ей спать. Не могла поворачиваться на бок, задыхалась. Днем он мешал ей ходить, тянул книзу, как мешок камней.
Будь с ней Сток! Как гордо шла бы она с ним под руку но улицам! И это обезображенное тело, в котором дышит, растет их ребенок, – с какой гордостью несла бы она его! Пусть все видят и почтительно сторонятся.
«Распахнула бы платок и шла бы медленно», – думала Женевьева и тотчас же сжимала и без того узенькие плечи. Так бы это могло быть. Но Стока нет. Сток, может быть, мертв. Торопливо, пряча беременность, старается пройти Женевьева по улицам. И хотя никто не дразнит ее, она боится насмешек и еще более – игривого подозрения в глазах старух и жестоких пригородных мальчуганов. У нее нет мужа. Оиа вынашивает сироту. Что сказала бы старая Катерина Буври? Женевьева плачет по своей матери. Мать так нужна теперь.
Роды наступили иочью.
Две женщины – торговка и проститутка – вывели роженицу в сарай и устроили ей ложе на соломе. Жена Стока была рада и тому, что могла хоть стонать и корчиться не в общей комнате, где жили и мужчины. В полдень с последней разрывающей тело потугой кончились боли. Торговка с Мясного рынка приняла ребенка, отрезала старым ножом пуповину и перевязала пупок белой тесемкой, которую оторвала от ворота рубашки.
– Сын, толстый и красный, фунтов на девять. Отличный кусочек, – сказала она одобрительно.
Женевьева слегка пошевелилась и попыталась привстать. Не было сил и не было чувств. Торговка поднесла ребенка к материнской груди. Он не сразу научился сосать. Женевьева скорее с любопытством, чем с нежностью заглянула в мутные, неосмысленные глазки. Вчера еще он был частицей ее тела. Память о болях была еще так свежа. Женевьева вздрагивала.
Как подкралась любовь к ребенку, она не подметила. Пришло это сразу – и беспокойство и боязнь: здоров ли, сыт ли? Пробудилась нежность, большая, гнетущая, как страдание.
– Дорогой! – шептала Женевьева, невольно возвращая этому слову его первоначальный смысл.
Разве не дорого дался он ей? Безработица, унылые, голодные месяцы ожидания и эти страдания, ни с чем не сравнимые, страшные, как агония.
Она все крепче привязывалась к нему животной привязанностью, по мере того как удлинялся список ее жертв и мук. Но вот появились и радости. Прикосновение мягких губ к соскам, ласка слепой ручки, шныряющей по груди, кривенькая попытка улыбнуться. В день, когда Женевьева поняла, что жить уже не на что и ее сыну угрожает голод, в этот день он впервые взглянул на нее, скашивая рот, улыбаясь. Может быть, ей показалось.
Женевьеву выгнали из дома, где она три месяца занимала угол. Хозяйка взяла в залог тряпье и золотой перстенек – одни из двух, подаренных Стоком. Второй тотчас же оплатил ночлежку. Цепь сжималась вокруг Женевьевы. Ей подсказал это голодный крик мальчика. Что делать? Она вышла на улицу. Но не смогла протянуть руку. Какая-то женщина дала ей несколько су. Женевьеве казалось, что все это – только кошмар. Но пробуждение не наступало. С ребенком, озябшим и несытым, бродила она по Парижу. Никому не было до нее дела. Город двигался навстречу, жуткий в своем равнодушии.
Безгранично мучительно одиночество в толпе. Пытливо и алчно заглядывали люди в витрины лавок, оценивали наряды встречных и проходили слепые мимо Женевьевы. Мимо… Человеческий эгоизм истязал ее. Не отдавая себе в этом отчета, она страдала, она боялась, заблудившись в непроходимом человеческом бору, попять неизбежность гибели.
Зажглись газовые светильники вдоль Сены. Зажглись огни на богатых каретах, на подъездах театров и ресторанов. Женевьеву инстинктивно тянуло на окраину. Там она не чувствовала себя такой затерянной. Там она была если не дома, то ближе к нему.
Может быть, укрыться на ночь в ночлежном доме? Нет, только не в этот смрадный ад! Прошлой ночью на паре рядом с Женевьевой умерла тряпичница. Как незабываемо боролись с темнотой, со смертью ее руки! Они, как и губы, хватали воздух. Всю ночь Женевьева смотрела на эти тощие грязные руки, и до утра проплакала она о Стоке, о минувших днях счастья. Во время беременности что-то, чего она не понимала, отвращало ее от печали и отчаяния. То был спасительный инстинкт. Но после рождения маленького Иоганна с еще большей силой вернулось горе. От слез и тоски портилось грудное молоко, и ребенок судорожно плакал и корчился от болей.
Женевьева но могла больше управлять собой. Силы изменяли.
«Только не в ночлежку!» – думала она. Ночь не была холодной. Женевьева провела ее под навесом пригородного рынка, на груде стружек между ящиками и рундуками. Это вовсе не была худшая ночь в ее жизни. Прежде чем она забылась, к ней пришло столько дум и воспоминаний… На рассвете она и ребенок крепко заснули.
Их разбудило сонное мычание коров, которых вели на бойню. Солнце золотило стружки. Ветер отгонял тошнотворный запах неубранных рыбных рядов.
Случалось вам видеть, как просыпается на рассвете окраинный рынок, слышать скрип подъезжающих возов? Их встречают писк фонтана, добродушная брань ночных сторожей. Утренний воздух подвижен. Пляшут над рундуками увядшие листья, перья ощипанных накануне кур и гусей, вялые лепестки деревенских цветов; переваливаются, хромая по пыльной земле, забытая репа, обгрызенная морковь.
Женевьеве показалось, что она проснулась в деревне на гумне. Рядом с ней гоготали гуси и визжали поросята.
Впереди, скрыв убежище бездомных, стоял воз с прекраснейшими овощами. Их пестрота превосходила все, что видала доныне Женевьева.
Среди салатных листьев синела свекла. Репа лежала клубками солнечных лучей. Морковь и редиска пылали, как июльские маки и пионы. Тут были также лягушечье-зеленые артишоки, пушистый укроп, кружевная петрушка и мертвенно-серая спаржа.
Увядая, овощи одуряюще пахли, точно выдыхая поглощенный на огородах аромат полей, лесов, солнца и рек. Женевьева вглядывалась жадно в неожиданно открывшееся перед ней великолепное умирание овощей.
«Чем цветы красивее овощей? – думала она. – Я сделаю из зеленого муслина листья салата, стебельки петрушки, стручки гороха. Госпожа Столь…» Она вдруг вспомнила, как далека и недосягаема была для нее мастерская на улице Вожирар. Привычно расстегнула кофточку, взяла, присев, сына на колени. Задумалась. Минуты жужжали стаей налетевших мух. Возле воза кто-то сипло ругался. Рынок зашевелился, исчезло обаяние утра.
– О, стерва, чтоб из твоего жира сварили мыло, а на твоих кишках сушили белье!
Рынок начал деловой день.
Внезапно с вышины морковной насыпи высунулось лицо красное, как редис, и две грозные руки. Женевьева съежилась. Ее открыли.
– Господи! – вскричала женщина и скатилась с воза к ногам Женевьевы. – Мое добро! Мои милые стружки смяты, изгажены поганой бабой!
Женщина – богиня овощей – выражала свое отчаяние не только лицом, руками, ногами, но и огромным животом. Он дрожал от негодования, надувался, колыхался, наступал на Женевьеву. Юбка крестьянки топорщилась и шумела. Несчастная посягательница на чужую собственность закрылась рукой, ожидая побоев.
– Мой ящик, мои стружки!..
Вдруг, перепуганный бурей, заплакал на коленях Женевьевы ребенок. И случилось неожиданное. Владелица стружек стихла, разжала кулаки, усмирила живот и опустилась коленями, большими, как кочаны капусты, на стружки.
– Да тут имеется цыпленочек! – сказала она ласково и засмеялась. Трескучий сиплый смех успокоил и мать и ребенка.
Спустя час Женевьева смотрела, как огромная торговка укладывала ее сына на злополучные стружки, уже погруженные на опустошенный воз.
– Будь спокойна! – кричала могучая баба, подбирая вожжи доброго першерона. – У моей коровы побольше молока, чем в твоем вымени. Благодарение богу, в моем курятнике давно не водится цыплят. Мальчишка будет сыт, как принц, – конечно, в том случае, если до субботы ты доставишь мне деньги.
– Медон… Медон, госпожа Гросс… Дом за собором, дом с огородом… Я принесу деньги в четверг, – отвечала Женевьева.
Оставшись одна, жена Стока направилась к статуе мадонны и помолилась, как молилась в детстве подле старой Катерины.
«Иоганн, – думала она, целуя измазанный подол шелковой юбки статуи, – прости! Но, как знать, не гневу ли божьему мы обязаны нашими страданиями? И если не веруешь ты, то, может, хоть я своей молитвой покрою твои грехи и примирю с нами небо. Святая дева, ты сама знаешь, в чем счастье, – пошли мне его хоть немного!»
Из храма она поплелась на улицу Вожирар. Отныне Женевьева была одна. Госпожа Столь может теперь быть довольна узкой талией своей мастерицы.
Но за три с лишним месяца мастерскую искусственных цветов постигли неудачи. Прихотливые модницы Сен-Жерменского предместья, а за ними и расточительные содержанки с Елисейских полей охладели к искусственным цветам. Платья украшались отныне лентами, перьями, кружевами. Госпожа Столь рассчитала одну за другой работниц, заперла подвал и уехала к брату в Бретань, предполагая торговать вместо цветов креветками и устрицами.
Женевьеве остался лишь один маршрут – в ближайшую контору по найму прислуги.
Антуанетта Кирару, по прозвищу «Жирафа», содержала свое учреждение более двадцати лет, с тех самых пор, как приехала в Париж из Марселя, где прогорел дом терпимости, перешедший к ней по наследству от матери. Впрочем, о сомнительной профессии Антуанетты не знали на улице Бак, и контора по найму женской прислуги легко приобрела солидную репутацию.
Наиболее аристократические и богатые дома прибегали к помощи Жирафы и полагались вполне на ее рекомендацию.
Женевьева не без робости вошла в полутемный холодный зал и неуверенно присела на кончик скамьи. Вокруг нее было множество женщин, молчаливо дожидающихся решения своей участи. Только толстогрудые крестьянки в платочках и сарафанах простодушно хихикали и перешептывались. Это были кормилицы, принесшие, кроме сильных, удобных, как люлька, рук, на рынок рабочей силы также сочные груди. Спрос на них был особенно велик. Женевьева подсела поближе.
Женщины переговаривались о детях, оставленных в деревнях. Некоторые из окруживших Женевьеву уже служили кормилицами и хвастались теперь крепостью своих сосков и именами вскормленных ими знатных детей. Они свысока поглядывали на соседок, чьи груди были пусты, на всяких горничных, судомоек, прачек и даже на поварих, наиболее привилегированных во всем сословии женской прислуги.
– Ты вот поди, сумей выкормить дитенка, добудь-ка молока! – говорила одна.
– Тоже заслуга! На каждом углу я могу найти это добро.
– Ну, дудки! На проторенной дорожке трава не растет, – хихикала дюжая баба, пятый раз пришедшая в город продавать свои груди.
– Продажная тварь!
– Сука!
Началась перебранка. Прежней почтительной тишины как не бывало. Разговор грозил окончиться потасовкой, как вдруг все утряслось, все смолкло. В дверях появилась сама Жирафа, в очках на злом лице. Нитка толстенного янтаря болталась, как хомут, на ее бесконечно длинной тощей шее.
Жирафа грозно оглядела женщин и, вдруг подскочив с неожиданной ловкостью к одной из них, отвесила ей тяжелую пощечину. Не успокоившись, она наступала на жавшихся к стенам женщин. Она размахивала руками, как плетями.
– В моем заведении, в моей конторе! О, срамницы, я вас!.. Да я вам!.. – шипела она. Более двадцати лет назад с помощью одного марсельского нотариуса, поделившегося с ней некой старинной болезнью, Жирафа лишилась звонкого голоса.
Порядок восстановился, и прием продолжался. Пришел черед жены Стока.
Антуанетта Кирару была болезненно тщеславна, и слава ее учреждения была для нее дороже франков, которые она копила и носила под набрюшником.
Поэтому она долго и тщательно изучала своих клиенток и действительно безошибочно распознавала их свойства и характер.
Женевьева тотчас же была ею мысленно внесена в разряд слабовольных, несварливых, добросовестных в труде существ.
– Покажи грудь, – сказала Антуанетта, приняв вымысел Женевьевы о смерти мужа и новорожденного ребенка.
– Мне все равно, как и откуда произрастает колос, был бы хлеб.
Молока в груди Женевьевы было много. Никакие лишения и недоедание не могли погубить, иссушить чудесный материнский родник.
– Не пройдет и четырех дней, как ты будешь на месте, в довольстве и почете, – сказала Жирафа и перечислила свои условия.
Но Женевьеве было не до торга. Три четверти жалованья первого месяца… Да хоть все, скорее бы только получить место!
– Но я не могу ждать ни одного дня. У меня нет и двух сантимов, а завтра четверг, я должна…
Женевьева чуть не проговорилась о сыне, о медонской огороднице.
Лицо Антуанетты было непреклонно. Она вытолкнула Женевьеву. Три другие кормилицы заискивающе кланялись в дверях.
– В понедельник приходи за адресом.
В понедельник… Женевьева вышла из конторы покачиваясь, точно получила отказ.
А вдруг от голода, вдали от ребенка пропадет молоко?
«Хорошо бы пойти в Медон и напоить мальчика, – мечтала мать. – Но деньги? Без них нельзя идти. Сегодня среда. Завтра четверг. Что делать?»
Опять и опять вставал перед ней этот неразрешимый вопрос.
Впервые за последние месяцы она шла по улицам, свободная от своей постоянной ноши. Ей была непривычна легкость собственного тела, свобода рук. Мужчины по-иному смотрели ей вслед. Она перестала быть неразличимой, как камни мостовой, как серые тумбы.
Женевьева опять стала женщиной, к тому же привлекательной, трогательной в беспомощности, которую не могла укрыть. С ней заговаривали. Она негодовала и бежала прочь от недомолвок, от приглашений. Так было с шести до восьми вечера, покуда голод и отчаяние не сыграли, наконец, свою извечную роль провокаторок. Женевьева устала. Идти было некуда. День уходил. Надвигался четверг. Он висел, как нож гильотины, над ее сознанием. Что, если торговка из Медона, не получив вовремя условной платы, заморит голодом ее ребенка?
Лапах еды из встречных ресторанов действовал на Женевьеву, как алкоголь. Она пьянела. Покалывало грудь, переполненную соками. Какой-то мужчина давно наблюдал за колебаниями женщины. Они сказывались на ее походке, отражались и на лице, которое он видел в профиль и одобрил. Она то сгибала плечи, то со вздохом отчаяния бросалась вперед, шагая широко, как человек, принявший решение.
Хищный инстинкт подсказал прохожему минуту, когда Женевьева внутренне сдалась, отступила сама перед собой. Она не убежала, когда в темноте он заговорил с нею, не огрызнулась и слушала без удивления его зазывания. Ей предлагали ужин, только ужин.
– Мы оба одиноки, моя дорогая, – сказал мужчина, взяв ее за покорный локоть.
Он повел ее в третьеразрядный ресторан с отдельными клетушками, называемыми, впрочем, кабинетами. Возле стола, покрытого несвежей скатертью, с застиранными пятнами, стоял плюшевый диван нестерпимо желтого цвета. Женевьева одеревенело смотрела на зеркало у окна, на портьеру. Может быть, она убежала бы прочь, но рядом с вешалкой, на которую оба повесили свою верхнюю одежду, висел прошлогодний календарь, и по странной случайности на нем был только один листок – четверг. Это решило колебания женщины. Она опустилась на стул подле дивана и принялась ждать. Ее спутник с удовольствием отметил, что имеют дело не с профессионалкой.
Женевьева страдальчески перебирала край старой шали, не зная, что сказать, как следует себя вести. Колени ее дрожали.
Хрупкая надежда еще жила в ней. А что, если этот незнакомый человек попросту накормит ее ужином и даст взаймы денег? Взаймы?.. Эта мысль вернула ее к жизни.
– Послушайте, мосье, – начала она страстно, – умоляю вас, помогите мне! – Она вкратце рассказала, для чего ей нужны деньги, всего пять франков. – Клянусь, я верну их вам через месяц! (Деньги первого жалованья принадлежали Жирафе.)
Женевьева хотела прибавить что-то о молитве, которую будет ежедневно произносить в его здравие, но почувствовала, что бог слишком далек от нее и что святая дева подвергает людей чрезмерным испытаниям.
Уже подали еду, вино, а жена Стока все говорила, и одна мольба сменялась другой.
Незнакомец не прерывал ее. Он деловито раскладывал по тарелкам мясо и овощи и разливал по бокалам вино.
Женевьева внезапно поняла его молчание.
– Нет? – спросила она дрожа.
– Я этого не сказал, моя курочка. Но зачем тебе брать взаймы то, что ты можешь получить в собственность?
– Но я не могу, мосье…
– Почему же?
– Я не люблю вас, я вас не знаю.
– Я не в претензии… Что же? Любишь мужа? Мужа, который пустил тебя по миру одну?
– Я этого не сказала, мало ли какие обстоятельства случаются в жизни, мосье…
– Значит, боишься согрешить, нарушить клятву верности? А знаешь, кто выдумал верность, кто и для какой цели?
– Не знаю.
Мужчина погладил бакенбарды и подлил Женевьеве вина. Она пила, пьянея, но не отдавая себе в том отчета.
– Мы, мужчины. Верность – это тончайший и надежнейший пояс целомудрия, который мы надеваем на наших женщин на время, когда они уходят из-под нашего надзора.
Женевьева не понимала. Страх и тоска стискивали ее мозг. Она догадалась лишь, что ей отказывают.
– Верность? Какая чепуха! Она противоречит человеческой натуре. Мы, мужчины, поняли это давно, но боимся разъяснить это женщине. Невыгодно. Хлопотно. Обидно… – Он хмелел и подсаживался ближе. – Я дам тебе шесть франков. Ты мягка и нежна, моя уточка.
Чужая мерзкая рука лезла за корсаж, мяла грудь. Кровь прилила к лицу Женевьевы. О, с каким наслаждением она укусила бы эту руку, избила эту пьяную розовую морду – морду приличного зажиточного парижанина!
– Я могу, стоит мне захотеть, выбрать себе любую женщину своего круга, каждую из подруг моей жены. Им будет лестно… они будут говорить мне истасканные нежности.
– Жены? Вашей жены?..
– Не смей произносить этого слова! Моя жена – лучшая из женщин. Более того: она святая! – Он замолчал на мгновение, жуя сигару. – Я могу привезти в это гадкое логовище лучшую из парижских недотрог, и, однако, я выбираю тебя…