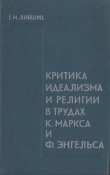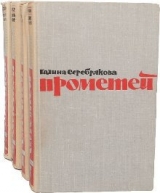
Текст книги "Юность Маркса"
Автор книги: Галина Серебрякова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 41 страниц)
– Ручаюсь, что министерский кризис разрешится в ближайшие дни. Все шансы на стороне Гизо, – говорит в толпе мужчин видный парламентский деятель.
Его прерывают.
– Тем хуже. Нам нужен человек рассудительный и отважный, как Тьер.
– Нет, господа, мы, провинциалы, предпочитаем Молле. Трезвость и нюх его проверены в палате, – авторитетно возглашает Броше.
Женевьева пробирается в холл. Пике командует в столовой. Женевьева прячет корзину за колонну и бежит в подвал, в узкую сырую комнату, отведенную шести горничным. Сверху доносится музыка. Женевьева плачет неудержимо, как плачут в раннем детстве.
3В прохладный, пахнущий зацветающими вербами, тающим в горах снегом, птичьими гнездами день похоронили Георга Бюхнера. Сток долго смотрел на умершего поэта. Кто сказал, что смерть красива, что она величественна? Ложь! Смерть отвратительна!
Лицо Бюхнера опало, посинело. На мертвых щеках еще продолжали расти волосы – последыши жизни. Несомкнувшийся, тронутый гниением рот был страшен. Из-под неопущенных век блестели фарфоровые чужие белки. Смерть поспешно стерла индивидуальные черты. Закоченевший труп был жалок и безличен.
Иоганн внезапно со всей силой понял: все кончено, Георга нет, – и все-таки не мог оторваться от того, что было некогда телом человека.
«Вот каким буду я, все мы… – думал Сток, невольно вздрагивая. – Нет, черт возьми! Прочь эти мысли! Они не прибавляют сил, а силы нужны, чтоб жить. Жить и биться».
Сток проводил гроб Бюхнера на уютное цельтвегское кладбище и положил букетик цикламенов на сырую землю.
Рядом с Паулем и Минной Иэгле он долго стоял над новой могилой. Пауль уже пресытился приключениями и думал с облегчением о том, что скоро вернется в Берлин. Минна перестала плакать. Она не любила бесцельных, бездеятельных часов. Она знала, что слезы не помогут. В Страсбурге ее ждали отец-пастор, благотворительные заботы.
«Грустные воспоминания об умершем не должны останавливать течение нашей жизни, – говорила себе девушка. – Он будет жить всегда в моей памяти».
Сток тоже размышлял об отъезде. Куда ехать? Он и сам точно не знал. В Париж, пожалуй. Может быть, там отыщет он следы Женевьевы. Но только прочь из Швейцарии, тихой, сытой, самодовольной Швейцарии! Вон из Цюриха, уютного города с красивым кладбищем!
Нет, не дело Стока сидеть сложа руки, жрать жирную похлебку, запивая пивом, и возиться в навозе ссор и неурядиц вялых немецких изгнанников.
«Нет, не мое это дело! – сказал себе Сток над могилою Бюхнера. – Мы еще молоды, мы не сдадимся».
В том же феврале, поставив ограду вокруг могилы жениха, Минна уехала в Страсбург, Пауль нанял карету и отправился в Берлин, а вслед за ними сел на империал дилижанса и Иоганн. Вскоре Сток прибыл в Париж.
И нигде он не мог найти Женевьеву. Один из свояков Буври сообщил Иоганну в письме из Лиона, что жена его умерла от родов. С некоторых пор Сток стал доверчив к дурным вестям. Личная жизнь его складывалась все время столь неудачно. Он поверил в смерть жены и впервые запил.
В течение нескольких месяцев Сток не хотел бороться с нахлынувшей печалью. Он находил даже своеобразное наслаждение в постигших его бедах и заливал боль вином в дешевых грязных винных лавках.
Время проходило. Сток днем шил в мастерской на Рю Оноре, вечером слонялся по городу, отупевший, покорный тому, что он отныне трепетно называл таинственным словом «судьба».
Однажды он встретил на площади земляка, подмастерья, ушедшего из Германии. Изрядно выпив, они просидели всю ночь на берегу Сены возле Лувра, вспоминая Дармштадт, Гюркнера, польского изгнанника Войцека, перебивая и не слушая друг друга.
Поутру Сток пошел опохмелиться. Он был впервые весел и спокоен. С этого дня началось просветление. Портной нанял каморку на улице Бак, купил книг, стал меньше пить. Совсем перестать – не смог. Но алкоголь больше не побеждал его. Сток обрел себя.
Его излюбленное «Мы еще молоды, мы не сдадимся» зазвучало снова бодро, как клятва. Горько оплаканная Женевьева отошла в прошлое и утвердилась там как самое нежное и мучительное, потерявшее реальность воспоминание. Звала жизнь.
Зная хорошо французский язык, Сток вернулся к газетам и книгам. Он упивался ими снова, как недавно вином.
Чтение помогло ему вернуться к действительности, от которой он бежал в траурные дни слез и пьянства.
Он читал «Националы), ежедневную газету, которая казалась весьма смелой французским консерваторам, но вызывала раздражение Стока. Он прозвал ее газетой господчиков и просматривал только для того, чтоб быть в курсе парламентских дебатов.
В каморке на улице Бак Сток чувствовал себя одним из депутатов палаты. Он спорил, брал слово, чтоб разбить доводы министров; чтоб высмеять их; чтоб требовать прав беднякам и отмены тяжких налогов. В статьях изощренные политики отвечали ему. Так спорил с газетами, сам с собой Сток.
С тех пор как редактором «Националя» стал Марраст – в июльские дни отчаянный забияка воинственного республиканского листка «Трибуна», теперь ожиревший, умеренный и осторожный либерал, – газета удачно угождала армии и тщательно заигрывала с теми, кого она называла «пролетарии». Но Сток не верил Маррасту. Читал портной и «Журналь дю пепль», который редактировал изящный болтун, завсегдатай салонов и театров – Дюпота. Осторожный, как Марраст, Дюпота, однако, принужден был чаще «Националя» касаться рабочих вопросов. В числе сотрудников газеты были также и сами пролетарии. Сток внимательно прочитывал статьи парижского сапожника Савари и руанского ремесленника Нуарэ.
Эти ребята, как про себя называл их портной, писали и гладко и умно, а уж нужды рабочих знали получше вооруженных гусиными перьями баричей.
Любимой газетой Стока стала «Интеллижанс», которую редактировал Лаппоннорэ. Сток слышал как-то речь Лаппоннорэ на небольшом рабочем собрании и проникся к ученику Бабёфа восторженным почтением.
Лаппоннорэ вышел из тюрьмы почти в одно время с Иоганном. Правда, он сидел во французской тюрьме, суровой, но лишенной, однако, ужасов прусского заточения, – зато провел в ней почти пять лет.
«Выйдя из тюрьмы, Лаппоннорэ не потерял ни одного дня и бросился с еще большим упорством продолжать борьбу с тиранией, а я, – корил себя Сток, – я болтался без дела, бродяжил, пьянствовал, провел год в чаду, близкий к дезертирству, как Бюхнер…»
Сток зачитывался статьями Лаппоннорэ.
«Мы хотим, – писал тот в своей газете, – среди общества, пораженного гангреной эгоизма и продажности, поднять святое знамя разума и общественного права». Бабувизм, слишком занятый экономическими вопросами, должен был, по его мнению, быть дополнен идеями прогресса и совершенствования.
На немногие свободные сантимы Сток покупал сатирический листок «Корсар» или «Шаривари». Злой, режущий ножом карандаш Домье доставлял ему особенное удовольствие. Рисунки его были убедительнее слов. С тех пор как закон запретил сатиру и карикатуру на короля, остроумие «Шаривари» обрушилось на министров и консервативных членов обеих палат, и Гизо, Тьер, Молле не могли уберечься от его внезапных нападений.
Газеты всколыхнули Стока. Разве не был он на лионских баррикадах, разве пещера на Господней горе и типография подле свинарника не стали для него школой национальной борьбы и умелой конспирации! Пришел час действий, час расплаты. Иоганн стал искать людей борьбы и революционного дела, но «Союз справедливых» – союз немецких изгнанников, куда он легко проник, – не удовлетворял Иоганна.
Подмастерье-кожевник Симон Шмидт, ярый коммунист, знакомый Стока по Швейцарии, привел его туда как-то на собрание. Но портной не заинтересовался собеседованиями и чтением.
– Я довольно трепал языком на своему веку. Слюна – не яд, язык – не кинжал. Пора это понять. От нашей болтовни промышленникам и королям нет убытка. Собака лает – волков пугает. Надо наконец превратить слово в порох, – объявил Сток Симону Шмидту, отклонив его предложение записаться в члены союза.
Он хотел действовать, уничтожать, взрывать ненавистный ему строй. Он мечтал о подземных типографиях, о тайных пороховых заводах, о баррикадных боях. Восстания, террористические покушения виделись ему во сне и наяву.
– Тот, кто подобно мне испытал плеть Штерринга, кто видел размозженный череп старой ткачихи на мосту Сен-Клер, кого пожирали клопы княжеских тюрем, тот, кто похоронил соратников по уличным боям, кто видел, как сошел с ума Бюхнер, загнанный в тупик полицией и ослабевший в момент поражения, кто знает, как засекли до смерти Вейдига, – тот не успокоится над книгой, тот не может только говорить об освобождении его класса и ждать, распевая песни. Не тому учил нас Гракх Бабёф, не тому учили нас монтаньяры.
Карл Шаппер, вождь «Союза справедливых», тщетно уговаривал Стока ждать терпеливо и готовиться к неизбежному часу расплаты с буржуазией.
В маленькой столовой, где рабочие получали дешевые обеды, «Историю революции» Кабе, сочинения Робеспьера, Сен-Жюста, Буонаротти, – Шаппер и Сток спорили так громко и сердито, что более осторожные посетители опасливо прикрывали двери, ведущие в чулан, прозванный «клубом». Не следовало привлекать спорами шпионящих повсюду агентов полиции.
– Мы ведем себя, как болтливые студентишки! – орал Иоганн, выведенный из себя насмешливой миной Карла Шаппера. – Солдаты учат нас, как действовать. Ефрейтор Брюйан устроил заговор в армии и требовал республики в своих прокламациях, а мы и на это не решаемся.
– Хорош заговор! – невозмутимо, но уже без смешков возражал Шаппер. – Завербовал десяток солдат и думал с ними совершить переворот.
– Иногда десяток отважных солдат стоит сотни тысяч осторожных.
– Если мы выступим, армия нас не поддержит. Армия нас будет расстреливать.
– Чепуха! Под солдатской курткой бьется сердце мастерового или крестьянина.
– Это он осознает не скоро. Куртка пока что тот же панцирь. Под ней не слышно биения сердца. Солдаты будут свирепо уничтожать наших женщин и детей.
– Надо дерзать, надо рисковать, пробовать!
– Надо воспитывать бойцов и беречь их до боя.
– Тебя пугает эшафот, ты не рабочий, ты – лавочник!
– Ну, а за это я, пожалуй, дам тебе по шее.
Вслед за этой неизменной угрозой начиналось примирение. Однажды Шаппер предложил Стоку съездить от «Союза справедливых» в Жанси, к Огюсту Бланки.
– Нужно завязать более тесную связь с его союзом, – кратко пояснил он и выдал портному деньги на проезд.
Иоганн был счастлив. Издавна Бланки восхищал его своей смелостью и красноречием.
– Это – человек! – сказал обрадованный портной, собирая пожитки.
Шаппер наставлял его не слишком очаровываться знаменитым воином революции.
– Он чрезмерно увлекается действием, – сказал Шаппер, – но, конечно, это союзник всякому делу освобождения рабочих. Что до отваги, то он – герой.
Огюст Бланки после восьмимесячного тюремного заключения в Фордэвро был по амнистии освобожден, но выслан в Понтуазу под надзор полиции.
Этот недолгий отпуск, данный ему жизнью, воинственный революционер проводил с молодой женой. Он был влюблен, любим, счастлив маленькими радостями семьи, которой почти не знал. Старый дом, занятый супругами Бланки, стоял на берегу неторопливой реки Уазы.
Иоганн Сток подошел к зеленой калитке ранним утром. Никто не помешал ему войти внутрь запущенного сада, с лужайкой перед домом, густо засаженной цветами. Покой дома, вянущие астры, женская шаль, забытая на балконе, неприятно поразили Стока. Думая об изгнанном Бланки, подсчитывая годы, проведенные им в тюрьме, повторяя про себя обжигающие слова его речей, портной по-иному представлял себе его жилище. Он, впрочем, сам не отдавал себе отчета, каким хотел бы найти домик в Жанси, – во всяком случае, менее овеянным благополучием и любовью. Румяная шатенка с длинными локонами вокруг милого, неправильно очерченного лица, выглянувшая сквозь жалюзи, оказалась женой Бланки. Она приняла плисовую шляпу и трость Стока, предложила кофе.
– Я так мало была с Огюстом. Наши дети почти не знали его доныне. По правде говоря, здесь мы пережили лучшие дни нашей совместной жизни, – тараторила молоденькая женщина, отвечая на короткие грубоватые расспросы Стока.
Вскоре появился Бланки. И опять то жо чувство – не то чтобы досады, но легкого раздражения – охватило Стока.
Огюст возвращался с купания. К большой войлочной шляпе его был приколот цветок, ветка кипариса вылезала из кармана широких, плохо скроенных брюк.
Предполагал ли Иоганн, зная бесстрашную биографию Бланки, увидеть пистолет и кинжал на его поясе, хотелось ли ему встретить сумрачного, никому не доверяющего карбонария, пахнущего порохом, изувеченного в драках и боях?
Но эти цветы, этот мирный кипарис! Бланки протянул портному руку. Какая сухая, жилистая, несгибающаяся рука! Какое волевое пожатие! Глаза мужчин встретились. Сток растерялся. Глаза Огюста пронизывали. Такими бывают глаза фанатика, одержимого одной идеей и целью, не рассуждающего, не знающего внутренних противоречий, истачивающих сомнений. Глаза-факелы, освещающие дорогу, избранную однажды и навсегда. Освободившись из-под тяжелой власти глаз Бланки, Сток разглядел его худое лицо, узкие губы, выражение которых отлично дополняло незабываемый взгляд, так же как и линия строгого худого носа. Редко черты одного и того же лица так гармонически выражают отважную, фанатическую волю.
После завтрака, прошедшего в пустой болтовне об ужении рыбы, близких заморозках и парижских новостях, хозяева вышли в сад. Сток нес младшего сына Бланки, крикливого младенца, злобно барахтавшегося в неумелых мужских руках. Худой низкорослый Бланки со старшим мальчиком на плече и его высокая полная жена с книгой и пледом шли впереди. Оставив детей на попечении матери в усыпанном опавшей листвой саду, Иоганн и Огюст вернулись в дом. Им наконец удалось по-серьезному разговориться. Впрочем, говорить предоставлялось более приезжему. Бланки по давно выработанной привычке помалкивал. Зная странную власть своих глаз, он редко настигал ими Стока и односложно поддакивал из глубины темного старого кресла. Но осторожность и молчание Огюста не удерживали, не мешали портному говорить. В поведении Бланки не было предвзятого недоверия, не было высокомерия, не было хитрого выспрашивания, которым когда-то в первое свидание так обидели Стока Вейдиг и Бюхнер.
Портной чувствовал, что если Бланки молчит, значит, так и надо. И он рассказывал о своих сокровенных желаниях, и понемногу ответы Огюста становились многословнее, прямее.
– Восстание необходимо, – говорили они тихо.
Портной жаждал террора. Его мечты были кровожадны. Он хотел бы убить Луи-Филиппа. Это вовсе не трудно. Король – ханжа, аккуратно посещает церковь.
– Бомба, брошенная под колеса королевской кареты, будет сигналом революции, кровь королевской гиены будет нашим знаменем. Почему ждем мы пробуждения пролетарской массы, вместо того чтоб выступить?
Бланки помалкивал. Когда Сток несколько усмирил себя, Огюст заговорил о новом тайном обществе, которое призвано подготовить и провести восстание.
Он говорил шепотом, хотя домик был пуст и окно было прикрыто.
– Как и вы, я – сторонник любого действия. Штык или адская машина одинаково должны нам помочь. Пусть Фурье, Кабе, последователи Сен-Симона спорят о теоретическом обосновании социализма, о повседневном коммунизме, наше дело – создание ударных батальонов против буржуазного правительства. Зачем взрывать одно королевское отродье, когда можно удушить всех? Вместо разрушенного полицией «Общества семей» мы основали «Общество времен года».
Бланки не говорил, кто «мы», и Сток не спрашивал.
Он, Иоганн, рядовой, в то время как Огюст – командир. Когда-то Бюхнер долго внушал портному принципы дисциплины. Долго сопротивлялся Сток, по в тюрьме он признал правоту Бюхнера. Он рад быть дисциплинированным солдатом революции. Он оценил силу коллектива.
Беседу соратников прервала госпожа Бланки. Обед был на столе. Началась скромная трапеза, оживленная болтовней детей и шутками Бланки. Сток изумленно наблюдал за этим новым перевоплощением сурового, властного борца в ласкового, внимательного мужа и отца семейства. Но Сток уже начал понимать его. Брак не отвлекал Огюста от дела, без которого Бланки не мог существовать. Первый зов революционного набата оторвет его от нежной идиллии на берегу Уазы. Бланки но поступится ничем ради спокойствия, условного спокойствия этих дорогих ему существ. Не потому, что любовь к ним мала и загнана в мансарду чувств. Но идея счастья всех людей во столько раз больше идеи счастья одной женщины и двоих ребят!
Сток видел, на чем покоится счастье этой семьи воина. Огюст не отступится от жизненной цели; его подруга готова к разлуке, даже к вдовству. Тем беспечнее и счастливее они теперь, в минуту краткого привала, передышки.
Поглощенный внешне, казалось бы целиком, болтовней своих сыновей, Огюст внутренне был весь напряжение. Его мучило беспокойство, все ли делают его товарищи в Париже, куда он не может проникнуть; ему слышались жалобы народа, ропот армии, от которой он был оторван силой. Радости семьянина иногда пугали его. Не заглушают ли они обязанностей гражданина? И Сток угадывал его беспокойство. Сам Иоганн с той поры, как поверил в смерть Женевьевы, замкнулся от того, что называл «маленькими земными удовольствиями». Глядя на детей, он смутно тосковал о доме, о заботах, которых у него нет.
«Но зачем мне все это? Что дают люди вроде меня или его, – он думал об Огюсте, – женщине и детям? Одно горе, и какое еще горе. Тюрьмы, а то и смерть от пули или гильотины – вот наша жизнь. Смеем ли мы обрекать на свою судьбу других? Нет, лучше быть одному. Разве Женевьева не погибла из-за меня? Но разве я пошел бы ради нее иным путем? Никогда!»
Когда госпожа Бланки спросила, женат ли Сток, он, умолчав о своем вдовстве, ответил грустно, что жизнь революционера сулит его подруге не мало горя. Огюст не возражал. Всем стало тяжело.
– Ты ведь не скоро поедешь в Париж? – забеспокоилась госпожа Бланки.
– Это будет зависеть от нашего дела, – ответил ей муж твердо.
«Не от семьи, – подумал Сток. – Я прав. Если б бедняжка Женевьева не умерла, она была бы, может быть, так же несчастна, как эта добрая женщина».
Вечером Иоганн вычертил, чтобы яснее себе представить, всю схему «Общества времен года», которую объяснил ему Бланки. Не год ли жизни в Жанси, не смена ли времен года вдохновила создателя новой подпольной организации? Фазы, отмеченные природой, точно воспроизводились в подразделениях и функциях нового революционного сообщества. Бланки не потерял года даром. В глуши Понтуазы он готовил новую атаку на извечных врагов, он собирал свои батальоны.
«Отряды времен года подразделены на недели в шесть человек, управляемые воскресеньем, – писал Сток. – Недели составляют месяцы, управляемые июлем. Три месяца образуют времена года под началом весны. Четыре сезона являются годом».
Кто главенствует над годом – Сток не знает. Как в «заговоре равных» и у карбонариев – высшее управление хранится в тайне. Простая и разумная организация нравится портному. Он садится у окна, вдыхая запах осеннего сада. Где тут спать после такого дня! Не спит и Бланки. Приезд Стока растревожил его. Тяжело изгнание. О, как не терпится Огюсту снова возглавить свою рабочую армию и попытаться еще раз взорвать Орлеанскую монархию! Оба бойца вспоминают о лучших днях жизни в прошлом, о победах кратких и незабываемых. Сток опять карабкается на баррикады Лиона, вскинув старый мушкет. Бланки, вооруженный пистолетом и ножом, сражается на парижских улицах в славные дни Июльской революции.
Сток печатает воззвание Бюхнера, разочарованный, но не отчаявшийся. Бланки после восстановления монархии снова готовится к восстанию. Запах пороха и баррикад, треск перестрелки, отвага людей предместий и лачуг волнуют полководца революции. Вдохновляют. Словом и пером, в клубе, в тайном обществе, в редакции, среди товарищей студентов, среди ремесленников, нищих, – ему все равно, из кого вербовать армию республики, – он борется за свои тактические принципы действия и социальной войны.
Утром Иоганн Сток уезжал из Жанси.
– Скоро увидимся там, в Париже, – сказал многозначительно Бланки.
Дети с плеча отца махали ручонками на прощание. Какая счастливая спокойная картина! Портной думал о будущем мальчиков и необычайно ласково кланялся жене трибуна.
Дети революционера, дети Бланки. Их первое впечатление детства – решетка тюрьмы, к которой подводила их мать. Отец до возвращения в Жанси был в их представлении загадочным героем, обросшим и чужим, в большом арестантском халате…
В дилижансе тесно. После бессонной ночи портной надеется подремать, откинувшись на спинку жесткого сиденья. Но два молодых провинциала, едущих, по-видимому, учиться в столицу, назойливо склоняют слово «скука».
– Какое тоскливое время мы переживаем! – говорит один из них, по имени Теодор. – Я хотел бы быть зрелым лет двадцать назад. Наполеон разогнал скуку, посетившую теперь нашу планету.
– Да, скучно, неодолимо скучно! – позевывает Оноре. – Сытый мир почивает, как толстая баба. Мы осуждены скучать в благословенное царствование нашего короля. Париж, говорят, не уступает в скуке провинции. Только и разговору, что о банках, о денежных операциях, только и развлечения, что крах одного банкира и феерическое обогащение другого. Хоть бы какое-нибудь возмущение работников – для оживления улиц. Но, кажется, даже неугомонные демагоги присмирели, отравленные ловкой болтовней и декретами Гизо и Тьера.
Сток прислушивается с возрастающим интересом к болтовне сидящих к нему спиной соседей. «Возмущение работников для оживления улиц… – он улыбнулся. – Скучное время… – Это показалось ему чудовищной клеветой. – Время непрекращающихся подземных толчков, время баррикад и кровопролитий, время рождения великих мыслей и начертаний грядущих боев. О, какое время!..» Он задыхается, думая о прошедшем и будущем…
Спустя несколько недель Сток вступил в «Общество времен года». Он знал, что приему в члены предшествует торжественный, необычный церемониал, и задолго до назначенного дня был охвачен почти ребяческим волнением. Со времени разгрома «Общества прав человека» портной не вступал ни в одну подпольную группу, хоть и был близок к «Союзу справедливых» и много наслышался в Швейцарии о Вейтлинге, его вдохновителе. Для бодрости Иоганн даже хлебнул аперитива. Но от него еще пуще разыгралась фантазия, забеспокоилось сердце. Иоганн был один так долго; завтрашний день введет его наконец в новую семью – семью неустрашимых. Сток давно не испытывал страха за себя. Он, впрочем, вообще редко думал о смерти. Не от эгоистической самонадеянности, а оттого, что привык дешево ценить свою жизнь. Столько раз видел он смерть! Умерли лучшие, чем он, – так ему казалось, – а жизнь шла и на смену им бросала новых людей. Эта непрерывность казалась Иоганну главным залогом будущего. На баррикаде Круа-Русс Жан Буври, раненный в грудь, сказал Стоку:
– Утри слезу, парень, я еще жив, а если и умор бы, но хнычь надо мной, а становись на мое место. Все мы смертны, и не в этом дело, а в том, на что ушла жизнь. Я но отдал бы двадцати пяти своих лет за шестьдесят какой-нибудь сытой свиньи-фабриканта. Да и чем смерть на тюфяке лучше смерти на баррикаде?
Рекомендовать Стока в члены «Общества времен года» должен был каменщик по фамилии Флери, человек молчаливый и тихий. Он был сыном одного из друзей Бабёфа и видел в детстве казнь своего отца. С тех пор он замкнулся в себе. Голова отца, поднятая за клок седых волос окровавленной рукой палача, навсегда осталась памятной сыну, и в минуты слабости Флери призывал ее, как верующий зовет бога. Мобилизованный Наполеоном, он проделал русский поход и вернулся в Париж после обмена пленными. С тех пор Флери мостил улицы, чтоб в Июльскую революцию заступом разрушать дело своих рук и защищать свободу булыжниками. Бланки и Барбес уважали его и считали своим другом. Лучшей рекомендации, чем слово Флери, Стоку нечего было и желать. Они жили в одном коридоре. Дружба каменщика и портного началась на завалинке дома, выходящего на пустой мощеный двор. Но только от Бланки узнал Иоганн, кем был его сосед, и только по возвращении из Жанси они разговорились впервые начистоту.
В сумерки Флери повел Стока на улицу Фобур-Сен-Дени. Они шли молча, торжественные и сосредоточенные. Волнение портного сменилось надеждой, ожиданием. Он верил в то, что идет навстречу победе, революции, осуществлению великих идеалов. У низких ворот каменщик остановился и достал из кармана черный лоскут. В подворотне, темной и грязной, он завязал Стоку глаза и взял его за руку. Иоганн спотыкался о доски, скользил по талой земле. Во дворе, по которому они проходили, пахло навозом. Портной вспомнил о Дармштадте.
– Осторожно, – шепнул Флери.
Они спускались по ступеням без перил. Стоку нравилась таинственность, которая окружала его вступление в общество. Он думал о том, что изменникам, Конрадам Кулям, сюда не проникнуть. На пороге какой-то комнаты Флери снял повязку с глаз Иоганна. Портной увидел себя в просторном, без окон, чистом подвале, всю обстановку которого составляли скамьи вдоль стен и стол посредине.
Пахло печеным хлебом, из чего Сток заключил, что подвал примыкает к пекарне. На скамьях сидели люди, несколько десятков мужчин в по-праздничному чистых рабочих блузах, подхваченных шнурами. Сток узнал в них таких же, как и он сам, пролетариев: столяров, каменщиков, портных, пекарей, ткачей. Он ловил на себе их испытующие, строгие взгляды. Поглощенный новыми впечатлениями, Иоганн не сразу обратил внимание на председателя этого безмолвного собрания, сидевшего в центре за столом.
– Подойди ближе, – сказал председатель. – Как зовут нового брата, которого ты к нам привел? – обратился он к Флери.
Иоганн увидел перед собой человека необычайно мужественной наружности, с каким-то неодолимым обаянием во всем облике, голосе, улыбке. Это был креол Барбес, прозванный среди пролетариев, с легкой руки Прудона, Баярдом демократии. Сток узнал его, хотя никогда прежде не встречал, по черной вьющейся шевелюре, оливковой коже, по мощной фигуре, по согревающей улыбке глаз.
– Гражданин, сколько тебе лет? Чем ты занимаешься? Где родился? Где живешь? Какие у тебя средства к существованию? – спрашивал неторопливо Барбес.
Люди на скамьях насторожились. Сток говорил сбивчиво, хотя давно подготовился отвечать. Флери ушел в сторону, сел. Легкая улыбка, скользившая по лицу Барбеса, одна ободряла портного.
– Обдумал ли ты шаг, который намерен сейчас сделать? – голос председателя зазвучал строго. – Подумал ли ты об обязательстве, которое готовиться взять на себя? Знаешь ли ты, что измена карается смертью?
Знает ли это Сток? Он выпрямился и повторил четко, как только мог:
– Измена карается смертью.
– Поклянись же, гражданин, никому не говорить о том, что здесь произойдет.
– Клянусь! – в это одно слово Иоганн хотел бы вложить все волнение своего сердца, всю силу убеждения, все стремление найти себе семью единомышленников, все бескрайнее желание заставить этих безмолвных, еще недоверчивых людей на скамьях дать ему место рядом, поверить.
Но человеческий голос бессилен отразить столь большие чувства. Слово прозвучало неясно, скользнуло, как тень его мыслей. Голос Стока беспомощно дрожал. Наступила тишина.
После минутного напряженного молчания председатель приступил к политическим расспросам. Сток должен был ответить, что́ думает он о королевстве и королях, кто такие аристократы. На вопрос о том, можно ли довольствоваться одним ниспровержением королевства, портной разразился длинной речью, которую никто не прерывал до конца.
– Необходимо, – сказал он увлеченно и медленно, как бы взвешивая каждое слово на этой великой для него исповеди, – уничтожить всякого рода аристократов и привилегированных людей, иначе ничего не будет закреплено. Они – как тысячеглавая гидра. Мы были слепы в июльские и лионские дни, доверяясь их лживым обещаниям. Они – тигры, подделывающиеся под оленей, чтоб лучше заманить и сожрать нас. Социальный строй заражен гангреной, и для его излечения народу понадобятся героические средства, первое из которых – революционная власть.
Эти слова, вызвавшие заметное одобрение в зале, портной почерпнул из учения Бабёфа.
Когда на все четырнадцать обязательных вопросов было отвечено, Барбес вышел из-за стола и подошел к Иоганну, который опустился на колени в порыве благоговейного счастья.
– Теперь встань и произноси вслед за мной клятву члена «Общества времен года».
– «Именем республики клянусь вечно ненавидеть всех королей, всех аристократов и всех угнетателей человечества.
Клянусь быть безгранично преданным народу, клянусь быть братом всем людям, кроме аристократов.
Клянусь карать изменников.
Обещаю отдать свою жизнь, даже взойти на эшафот, если эта жертва будет необходима ради установления народной власти и равенства…»
Сток задыхался.
Барбес вынул из ножен, воткнутых за пояс, кинжал и вложил его в руку новоявленного брата. Портной тотчас же поднес лезвие к сердцу.
– Пусть накажут меня смертью изменника, пусть пронзит меня кинжал, – он надавил клинок и почувствовал, как, прорвав рубашку, острие касается груди, – если я парушу свою клятву. Пусть поступят со мною, как с изменником, если я открою хоть что-нибудь какому-либо человеку, даже ближайшему моему родственнику, по состоящему членом общества.
Пот выступил на лбу Стока, слезы омочили его глаза. Покачиваясь, он опустился на стул. Флери первый подошел к нему и поцеловал. Барбес взял его за руку. Люди шумно поднялись со скамей, устремляясь к ному с объятиями и расспросами.
Так вступил на новую стезю Иоганн Сток. «Неделя», в которой Флери был «воскресеньем», состояла из пролетариев, целый день тяжело работающих за станками. На первых же собраниях Иоганн принялся ратовать за скорейшие выступления. Он предлагал себя в качестве королеубийцы и требовал устройства порохового завода.
Эльзасский рабочий, Алоиз Юбер, неудачно попытавшийся взорвать Луи-Филиппа, и восемь заговорщиков-террористов, представших вместе с ним пред судом в 1838 году, – по мнению Стока, указывали путь, на который следовало вступить и ему. Вместе с Юбером судилась Лаура Грувель, удивительная женщина, умевшая конструировать адские машины. Сток простоял нею ночь под дождем у здания судилища, чтоб увидеть мучеников за народ. Лаура Грувель поразила его красотой и мужеством. Она принадлежала к аристократической среде и могла бы жить без тревог, в холе и праздности. Вместо этого Лаура избрала участь борца за республику, предпочла богатому жениху террористический заговор, рискнула подставить молодую голову под нож гильотины вместе с несколькими рабочими, посягнувшими на королевский произвол. Лаура Грувель. Сток бредил этим именем.