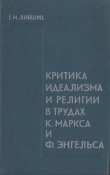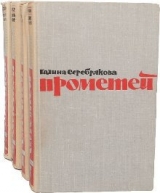
Текст книги "Юность Маркса"
Автор книги: Галина Серебрякова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 41 страниц)
Крестьяне – арендаторы барских земель, мелкие виноделы, платящие трудные оброки, – угрюмы, грязны, худы и голодны.
Неповторимы прирейнские песни, незабываемы пляски в праздник урожая и виноградных сборов. Печальны и тягучи деревенские причитания-напевы в зимние вечера, когда голод и холод настигают лачугу.
Благословенный край Рейнландия! Долговечны тут люди, которым принадлежат необъятные земли, сады и замки, но бог не шлет долгой жизни крестьянам.
Кровь жителя теплой и золотоносной равнины горяча. Помещики рейнские гостеприимны, болтливы и несдержанны в поступках. Охота, рыбная ловля, скачки по лесам и обрывистым холмам – их любимое развлечение.
И горе крестьянину, которого застигнет феодал в запретном лесу за недозволенной порубкой или даже сбором чужого хвороста. Тщетны просьбы. Расправа коротка. Сапогом и острой шпорой бьет господин своего раба. Потом виновного стегают отобранным хворостом, а случается – привязывают к дереву или вешают на суку.
Помещики Рейнландии – вспыльчивые люди, и собственность их охраняют все германские законы испокон века. Виновным пощады нет.
Много в мире печали. Печальны прирейнские деревни. Старчески грустны крестьянские дети, играющие на опушках лесов, возле реки на драгоценном песке. Природа вокруг них так щедра, так мотовски расточительна.
Но обойден счастьем тут жалкий арендатор, опутанный долгами мелкий крестьянин, умирающий от голода и холода и стране хлеба, вина и лесов, где помещик стережет даже хворост – топливо бедных.
«Тебе будет приятно познакомиться здесь с человеком, – писал из Кёльна другу Ауэрбаху Мозес Гесс, новый знакомый Карла, – который также принадлежит теперь к числу наших друзей. Это – явление, сильно поразившее меня, хотя я и действую в той же самой сфере; коротко говоря, ты должен быть готовым к тому, чтобы познакомиться с величайшим, может быть, единственным живущим в наше время настоящим философом, который привлечет к себе в ближайшее время, когда он публично выступит (печатно, как и с кафедры), внимание Германии. По своим тенденциям, как и по своему философскому образованию, он превосходит не только Штрауса, но и Фейербаха, а последнее значит немало! Если бы я мог быть в Бонне, когда он будет читать логику, я был бы его самым прилежным слушателем. Я всегда желал иметь такого человека своим учителем в философии. Теперь я чувствую, какой я неуч в настоящей философии. Но терпение! Я чему-нибудь научусь!
Доктор Маркс – так зовут мое божество – еще совершенно молодой человек (ему не больше двадцати четырех лет); он нанесет средневековой религии и политике последний удар; с глубокими философскими знаниями он соединяет тончайшее остроумие. Представь себе Руссо, Вольтера, Гольбаха, Лессинга, Гейне и Гегеля соединенными в одном лице; я говорю – соединенными, а не перемешанными, – и это доктор Маркс».
Отправив письмо, юноша пошел тотчас же на Сенную площадь, где накануне уговорился встретиться с новыми приятелями. Маркс должен был прийти с Георгом Юнгом и Руге, которого особо вызвали из Дрездена на важное совещание. Вопрос о «Рейнской газете» не терпел долее отлагательства. Надо было обсудить план статей и список сотрудников.
Карл, приехавший из Бонна, с утра гулял по городу вместе с Бауэром. Маркс любил осмотры малознакомых городов, находя в каждом нечто индивидуальное – своеобразную моту истории. Проходя мимо прославленного собора, товарищи не могли удержаться от атеистических, полных умерщвляющего яда, замечаний. Но Карл отдавал дань великолепной готической архитектуре, чем рассердил непримиримого Бруно.
– Я благодарен французам, которые во время оккупации превратили эту каменную банку в сенной амбар, Ни на что другое этот языческий склад и не годен.
– Осуществим твое желание после революции, – шутливо согласился Маркс. – Однако я предложил бы столь просторное помещение использовать иод народный танцевальный зал. На хорах можно посадить оркестр. Право, лучше использовать собор для людей, чем для сена. А впрочем, как будет угодно будущему городскому самоуправлению.
Неподалеку от главного моста через Рейн расположилась ярмарка, бурливая, многоцветная, грубая, как средневековье. Карл – большой любитель народных развлечений, уличной сутолоки и пестроты – ни за что не согласился уступить Бауэру и пойти осматривать дом, где родился Рубенс. Звуки дребезжащей, как телеги на кёльнских улицах, шарманки привели молодых ученых к карусели. Маркс тотчас же взобрался на пегую лошаденку из картона и глины и понесся рысцой под визг и гиканье других пассажиров.
Уже на третьем круге Бруно не утерпел и тоже взгромоздился на ярко-рыжего теленка. Но его укачало. Он жалобно требовал остановки.
Накатавшись всласть, слегка пошатываясь от приятного головокружения, Карл потащил приятеля в тир. Там они тщетно десять раз подряд целились в кентавра и черта, не попадая. Отличные бойцы на шпагах, они были скверными стрелками.
Потом пили пиво в балагане; кормили ручного медведя медовым пряником; скакали вперегонки на ослах, дергая их за хвост, чтоб сдвинуть с места; танцевали вальс друг с другом, наступая на ноги молодым местным жительницам; и наконец, после двух сеансов акробатического представления, выбрались из толпы восхищенных и весьма снисходительных зрителей и бросились к Сенному рынку. Они непозволительно опаздывали.
Карл был, однако, так доволен времяпрепровождением, что всю дорогу пританцовывал и напевал, притворяясь пьяным и задевая солидных надутых бюргеров с молитвенниками в руках, возвращающихся из собора. Кёльнские буржуа набожны. Наконец подошли к Сенному рынку и отыскали условленный ресторан.
Первым человеком, который с распростертыми объятиями бросился к входящим, оказался, к беспредельному удивлению Маркса, Фриц Шлейг. Да, это был он. Несмотря на несколько лет, прошедших со времени последней встречи земляков, нельзя было не узнать его. То же розовое лицо, та же предупредительность плутоватых глаз, та же ласковость похотливых губ и нафабренных усов. Он стал толще, увереннее. На пальце был новый перстень. Массивный, с большим бриллиантом. Цепочка поверх фиолетового жилета тоже соответственно увеличилась и блестела ярче.
– Как я рад, что и ты будешь сотрудничать в нашей газете! – И добавил шепотом: – Не сомневаюсь, Карл, со временем редакторское место перейдет к тебе.
Маркс молчал, недоумевая.
– Да, ты ведь не знаешь! Я женат уже более двух лет. У меня – наследник, мальчик, умный, как Спиноза. Ну, и капиталец, конечно. Контора Фриц Шлейг и сын. Каково? – Он повертел кольцо и продолжал: – Надо уметь жить. Жизнь ведь вроде постройки железной дороги. Требуется расчет, осторожность, надежные компаньоны. Жена моя – та самая Гертруда, помнишь семейство посудного фабриканта Шварца? Племянница покойного главы фирмы. А ведь наследство, скажу тебе по секрету, оказалось во много раз больше. Приданое – тоже…
– Прекрасно. Однако какое ты имеешь отношение к нашей газете? – раздражаясь назойливой болтовней, перебил Карл.
– Самое непосредственное. Господа Кампгаузен и Ганземан, главные акционеры, субсидирующие новый печатный орган, – мои шефы! По секрету тебе скажу: не пройдет и года, я буду равноправным пайщиком их предприятий. Это ловкие и смелые промышленники, но и Фриц Шлейг не дурак. У меня в Англии такие завязаны узелки… Тебе это, впрочем, очевидно, вовсе но интересно. Жаль, очень жаль! Пока что я послан сюда от акционерного общества. Господа Юнг и Оппенхейм хорошо знают меня.
Он с присущим ему всегда подобострастием поклонился двум молодым людям, которые ответили ему не без подчеркнутой надменности. Агент промышленной знати не внушал почтения.
Вскоре пришел и Арнольд Руге. Он долго, горячо и значительно пожимал руку Карла.
– Я на шестнадцать лет старше, дорогой Маркс, – сказал редактор «Немецкого ежегодника», – но, прочитав твои статьи, тотчас же и безоговорочно признал в них необычайные дарования и зрелость мысли. Ты далеко пойдешь по дороге жизни…
Шлейг, напыжившись и перебирая брелоки на слегка округлившемся животе, примялся объяснять собравшимся особенности задуманного дела.
– Мы не хотим, – сказал затем доверенный двух сильнейших рейнских промышленников и делегат акционерного общества, – доводить дело до крупных столкновений с прусскими властями. Отнюдь нет, господа. Таково всеобщее желание. Наша газета должна внушать читателям, влиятельным и невлиятельным, принципы бережливости и управления финансами, необходимость развития железнодорожной сети, – тут Фриц победно оглядел всех присутствующих и особо нежно улыбнулся Мозесу Гессу, которого уважал за купеческое происхождение. – Понижение судебных пошлин и почтового тарифа, общий флаг и общие консулы для государств, входящих в состав таможенного союза, ну и все прочее, что сами вы знаете лучше нас. Немножко вольности, немножко политической остроты, соблюдая все же осторожность. Я сам, – вот мой школьный товарищ Маркс помнит, верно, – я сам, господа, склонен, как и вы, к бунтарству, к якобинству. Каждый промышленник немного революционер. – Раздался смех, но Фриц был не из смущающихся. – Земля, по-моему, дана человеку, чтоб он рвал с нее лучшие цветы и наслаждался.
– Да он рассуждает почти как наш лобастый Шмидт! – воскликнул Карл. – Фриц, ты мог бы создать последовательное Евангелие индивидуалиста-эгоиста.
– Прости, Маркс, у меня есть дела поважнее, – небрежно ответил польщенный, однако, Фриц, достал усыпанные цветными каменьями часы – свадебный подарок, и, пообещав покормить в ближайшие дни новых сотрудников газеты лукулловым обедом, выплыл из комнаты.
– Какая, однако, досада, – сказал Руге, подсаживаясь к Карлу, – что волна жизни относит тебя все дальше от чистой философии. Ты ринешься в костер политической борьбы, и «Рейнская газета» в этом отношении может оказаться поджигающим факелом. Смотри не сожги себя.
– Моя статья о цензурном уставе – дебют, покуда не вполне счастливый, правда, – думая о своем, начал Карл.
– Будь спокоен: рано или поздно я напечатаю ее, хотя бы за границей, – пообещал твердо Руге. – Но скажи, друг, с Боннским университетом и войной за кафедру все покончено?
– Я сражался бы хоть с самим чертом, если бы было за что. Но немецкая кафедра – гроб для воинствующего духа. Об университете я могу лишь сказать, как Терсит: ничего, кроме драки и распутства, и если нельзя обвинить его в военных действиях, то уж в распутстве нет недостатка. Вонь и скука.
К разговаривающим подошли Бауэр, Юнг и Гесс.
– Мы поднимем в газете такой дебош против бога, – сказал Бруно, – что все ангелы сдадутся и бросятся стремглав на землю, моля о пощаде.
– Нелегко будет, пожалуй, отвоевывать свободу, – сказал Карл, – однако предлагаю штурм.
– Да, именно штурм, – подхватил обрадованный Гесс.
– Штурм небес! – вскричал Бруно.
– Штурм земли, – поправил Маркс.
– Пойдем по стопам Якоби.
– У короля, говорят, разлилась желчь от негодования, когда он прочел его «Четыре вопроса».
– Отважный малый, этот житель Восточной Пруссии. Я сразу отгадал, кто прячется под псевдонимом. Он, Якоби. Наш старый воин, – вставил снова Гесс.
– Сомнительно, однако, чтоб гнет цензуры ослабел… Но не будем отступать, – прибавил Карл.
Маркс начал новую главу своей жизни. «Рейнская газета» поглотила его мысли, вызвала никогда доныне не поднимавшиеся вопросы, вызвала и новые сомнения.
Руге продолжал откровенно восторгаться гибким и бездонным умом своего юного приятеля. Статьи, которые Карл печатал с весны, светили небывалым светом, блистали, как скрестившиеся мечи.
– Свобода печати – первый подкоп под громаду реакции.
Обещание сиять цензуру нисколько не помешало правительству и королю продолжать свирепое преследование каждого, проповедовавшего право свободы слова.
Маркс поднял меч. Свобода печати – путь к конституции.
– Единственным радикальным излечением цензуры является ее устранение, – объявил он.
Руге и Юнг приветствовали отвагу друга – его статьи в «Рейнской газете». Борьба началась.
Карл жил в эту нору кое-как, переезжая из гулкого Кёльна в тихий Бонн, оставляя Бонн для Трира, где умирал друг – Людвиг Вестфален – и покорно скорбела Женни. Потом снова стремглав бросался в Кёльн – редакционные дела уже не терпели его отсутствия. Так шли месяцы – в деловой суете, радостях и огорчениях, в постоянных сражениях с сонмом чудовищ прусской монархии. Незабываемые, по-своему счастливые дни.
Осень. Нежная, розово-синяя умиротворенная пора на прирейнской земле.
Возы с виноградом, персиками и яблоками по утрам въезжают в город, громыхая и будя Карла. Он поселился неподалеку от заставы.
Разбуженный шумом улицы, сердито шлепая босыми ногами, Карл плотнее закрывает жалюзи, но спать не может. Столько новых дум и забот! Стол его, как всегда, завален книгами и густо исписанными листами бумаги. Гегель давно одиноко похоронен в дальнем ящике. Похоронен, но не забыт. Другие люди заинтересовали Карла. Французы полонили его досуг. Прудон с его размышлениями о собственности, Дезами, Рабе, Леру, Консидеран. Французский язык то и дело врывается в его немецкую торопливую речь. Новые вопросы – свобода торговли, протекционизм – прочно приковали его внимание.
С маленькой мансарды на тихой окраине Кёльна прищуренными черными зоркими, как у орла, глазами обозревает он мир, ищет, строптивый, неугомонный, ответа на все возрастающие земные противоречия.
Юный полководец, еще не нашедший своей армии, еще не определивший цели грядущих походов и боев.
Прежде чем отправиться в редакцию, на которой теперь главным образом сосредоточены все помыслы молодого доктора юридических наук, он идет в ресторанчик, что в переулке близ собора.
Нередко по пути Карлу встречается тщательно вымытый тяжеловесный экипаж Шлейга. Его окликают. Преуспевающий Фриц неизменно останавливает лошадь и заставляет Карла усесться рядом на фиолетовом суконном сиденье. Маркс пытается сопротивляться – напрасно. Он принужден сдаться. Фриц неуемен в уговорах, пустой болтовне и бахвальстве.
– Экипаж приобретен всего лишь год назад по настоянию щедрой Гертруды и хотя старомоден, но весьма еще прочен, – сообщает Фриц, захлебываясь слюной.
Сейчас молодой Шлейг занят покупкой собственного дома. Пора обзавестись недвижимостью! Молодость, того и гляди, останется позади, а зрелость требует прочного устройства, солидного капитальца, комфорта. Шлейг поглаживает бакенбарды.
– Мы стареем, – говорит он, напыжившись.
Маркс равнодушно насвистывает, перевирая мотив, рейнскую песенку о рыбачке. Мысль о старости не существует для него. Он юн. Он весь в движении.
Фриц тщетно ждет его ответа, силясь любым унижением вызвать хоть малейшее проявление интереса к своей персоне со стороны этого все более несговорчивого, насмешливого даже в молчании человека. Презрение Карла мучительно, как озноб. Этот скромно одетый литератор внушает Фрицу издавна тревожное почтение, робость, готовую, однако, в любой миг обернуться ненавистью. Он кажется ему существом какой-то иной, хоть и опасной, но высшей породы. Завидуя, Фриц готов пресмыкаться перед ним, оговаривая исподтишка, при удобном случае. Старается подражать ему во всем, перенять его манеры, запомнить высказанную им вскользь мысль.
– Особенный человек – этот желчный злючка Маркс, – говорит Шлейг часто жене. – Злоязычен, учен, знает жизнь но хуже меня, но не делает карьеры, и знаешь – почему? Потому, что не хочет, сам не хочет. А ведь не чудак и не ротозей.
Фрицу кажется, что Карл видит, понимает его, разгадал, как никто. Это раздражающее ощущение заставляет его заискивать, подкупать лестью бывшего товарища по гимназии.
– Поверь, друг Карл, – говорит Шлейг, – с таким кипучим темпераментом, с умом Спинозы, с дипломатическим тактом Меттерниха и смелостью Бонапарта, в наше время твое место – среди нас, среди промышленников. Ты создан быть руководителем или хоть визирем-советником при современных калифах.
– Калифах на час, – усмехается Маркс.
– Вся наша жизнь – час но сравнению с вечностью, – довольный своей находчивостью, отвечает Шлейг.
– Мелкая философия.
– Выслушай, однако. Калифы девятнадцатого века – это уже не только Ротшильды, – это также Борзиг, выстроивший в Берлине машиностроительный завод, которому позавидуют и англичане. Разве не так? Заводчики! Вот в чьих руках будущее. К тому же мы творим великое национальное дело. Железная дорога – магическая волшебная палочка, благодаря которой через десять – двадцать лет мир не узнает Германии. Мы – к чему ложная скромность? – смелые люди. Новое поколение… Мы объединим Германию. Построив фабрики, разбогатеем – скажешь ты? Да, но мы осчастливим родину.
– Это уже по Иеремии Бентаму.
– Король пойдет нам на уступки. Другого выхода нет. Пусть-ка осмелится он возражать! Получим конституцию… Чего тебе еще?
– Значительно большего.
– Работы для бедных, просвещения? Жалости к крестьянам? Это тоже будет. Наши фабрики поглотят и накормят нищих.
– Это верно – поглотят, но не накормят, и наплодят новых.
– Иди к нам, Карл. Я легко введу тебя в круг дельцов. Ты увидишь, какие это люди. Какая отвага! Бойцы! Тигры! Подумай, кому хочешь ты служить, одаренный таким талантом, обладающий таким пером? Твой мозг – золотое руно. Твои статьи – это же чистое золото, клад. Но ради кого ты тратишь силы, слова? Ради угнетенных мужичков, ради каких-то лесных воров!.. – Фриц задыхался. – Из всех твоих поступков менее всего понятен мне пыл, с которым вступился ты за крестьян и их право собирать хворост. Ну, какое тебе дело, в сущности, до этих жалких полуживотных?
– Преступно оставаться равнодушным перед проявлением каннибальских инстинктов лесовладельцев. Для государства и собственник и крестьянин, из нужды берущий хворост, равные граждане, – нехотя цедит Карл.
– Итак, борешься за справедливость? Донкихотство! Какое тебе дело, например, до ландтага? Понимаю, что удачная статья выгодна для автора. Привлечет внимание сильных мира сего, поможет выдвинуться. Иногда надо припугнуть, чтоб получить дороже. Но ведь ты пишешь всерьез, ты кровь льешь, ты фанатик, ты искренне веришь в то, что защищаешь. Поразительно! У тебя все по-другому. Я сам человек прогрессивных взглядов. Но, поверь, в наше время деньги, крейцер, куда более мощное оружие, чем социалистическая проповедь. Исподволь, тихонько, – Шлейг заговорил шепотом, – мы добьемся всего.
Карета свернула в переулок за собором. Так ничего и не ответив и по рассеянности позабыв попрощаться, Карл на ходу соскакивает и бежит к ресторации, где он по обыкновению пьет утренний кофе.
– Ты слишком несговорчив, Маркс! Пожалеешь! – успевает ему крикнуть Шлейг, мгновенно осунувшийся от злости.
За кофе и множеством бутербродов Карл не перестает читать. Просмотрев кипу газет, он вскакивает и с чашкой в руках бежит к соседним столам в поисках журналов. По невероятной рассеянности, поглощенный своими мыслями, он засовывает в карман салфетку вместо носового платка и берет с чужой тарелки кусок поджаренного хлеба, к веселому изумлению окружающих.
Обычно к столику Маркса подсаживается Рутенберг. Тогда газеты откладываются, и начинается неспокойная беседа.
Прежней беззаботности, любви нет более между недавними друзьями. Оба они не те. Карл с раздражением посматривает искоса на отекшее лицо Адольфа.
«Проживает умственный капитал, живет на проценты былых мыслей и дерзаний, не растет, а, значит, идет вспять, – сурово думает он, прислушиваясь к многократно слышанным брюзгливым замечаниям собеседника. – Как меняется жизнь и как трудно выдерживать проверку временем! Умственно обрюзг, отстал. Радикал и добрый парень, товарищ в проказах, гуляка Рутенберг на первом же испытании в редакторском кресле «Рейнской газеты» обнаружил, что не боец он, не водитель, а растерявшийся учителишка, к тому же и лентяй». Карл беспощаден и не прощает людям разочарований.
– Ты Зигфрид, ты воин, – враждебно говорит Адольф, – твое перо – надо отдать ему должное – как волшебный меч Нибелунгов, но твой задор и желчные выпады все же вовсе неуместны. Ты то действуешь наскоком, то вдруг уходишь под прикрытие. Я этого не понимаю. То пли другое. Вот Бауэр – он последователен. Отрицать – так отрицать. Право, эти берлинские «свободные» – большие, истые революционеры. Как тебе нравится мысль Бруно о том, что семью, собственность, государство попросту следует упразднить как понятия?
– Это еще что за водолейство?! Ну, а что будет в действительности?
– Не важно. Достаточно упразднить в понятии.
– О неисправимые скоморохи! – возмущается Маркс. – Вредные болтуны, жонглирующие словами, пустыми, как ваши головы. Скоро даже пугливые филистеры распознают в грохоте ваших понятий… звук шутовских бубенцов и барабанов.
Карл смолкает.
«И с такими людьми я думал идти в бой!» – продолжает он думать про себя, отвернувшись от Рутенберга.
– Кто бы мог подумать, что храбрый доктор Маркс окажется столь осторожным, когда придет время действовать! Ты притупишь свое перо, свое могучее оружие, ратуя за мелочи вроде отмены цензуры либо за справедливые законы для каких-то крестьян, даже не всех крестьян мира, а только рейнландцев… Я и наши берлинские единомышленники отказываемся понимать твои поступки. Штурмовать ландтаг, когда следует идти походом на небо, на все понятия, устаревшие и вредные! Ты консервативен, – продолжал Адольф, весьма довольный своим монологом, – ты не постиг сердцем коммунистического мировоззрения, вот в чем твоя беда.
– Ах, вон оно что! – Карл внезапно совершенно успокоился и заулыбался. – Верно, я считаю безнравственным контрабандное подсовывание новых мировоззрений в поверхностной болтовне о театральной постановке и последних дамских модах. Нет ничего опаснее, чем невежество. Социализм и коммунизм! – Карл говорил все более отрывисто. – Да знаешь ли ты, что значат эти слова, какие клады для человечества, какой порох спрятан в этих словах?.. Я отвечу тебе теми же словами, что и старой нахальной кумушке – «Аугсбургской газете»…
– Знаю, знаю их наизусть! Это насчет того, что на практические попытки коммунизма можно ответить пушками, но идеи, овладевающие нашим умом, покорившие наши убеждения, сковавшие нашу совесть, – вот цепи, которых не сорвешь, не разорвав сердца: это демоны, которых человек побеждает, лишь подчинившись им. Но так ли?
– Браво! Однако нет Кёппена, чтоб назвать тебя начиненной колбасой. На этот раз ты почти не переврал моих мыслей. Но сейчас я имел в виду другое. Коммунизм нельзя ни признать, ни отринуть на основании салонной болтовни. Ни одно мировоззрение не живет более землей, нежели это, а ты знаешь, – я но раз доказывал тебе, – что, даже критикуя религию, мы обязаны критиковать политические условия. Что касается цензуры, то это удушающий спрут, который надо разрубить: с ним погибнет многое. Кстати, послушался ты меня – прочитал Прудона, подумал о Консидеране?
Не отвечая, Рутенберг посмотрел на часы и встал.
– Без новых французских учоний об обществе нельзя существовать, не только что двигаться в политике, да и в газете, – сухо добавил Карл.
– Кстати, – сказал Рутенберг покорно, – как тебе известно, со вчерашнего дня я более не редактор «Рейнской газеты». Говорят о тебе… Что ж! Желаю успеха. Salute!
Карл проводил глазами сутулую фигуру Адольфа. Было что-то жалкое, неуверенно-развинченное в его походке. Кончено! С Рутенбергом уходило прошлое.
Еще одна дружба рассыпалась в прах. Умерла.
Карл не печалился. Тот, кто не мог быть его соратником, не был для него и другом.
«Этот слабовольный, суетный и несчастливо честолюбивый человек мог прослыть опасным вольнодумцем, демагогом крайних взглядов во мнении ослов из правительственных сфер!.. Да и я был недальновиден, рекомендуя столь бездарное и поверхностное существо на пост редактора. Хорошего выбрал полководца!»
Карл но умел прощать людям слабости ни в чем. Шарлоттенбург, Бауэры остались для него отныне навсегда позади, в прошлом, стали чужды, как Трир.
Так перерастал он идеи и недавних товарищей.
И – без уныния, сильный, одинокий, ищущий – шел вперед, вперед, навстречу новым людям и мыслям…
Когда за Рутенбергом захлопнулась дверь, Маркс подумал о том, что сам теперь, может быть, возглавит газету.
Отмена цензуры, проповедь свободы – Якоби правильно нащупывал слабое место. Правительство, король запутались сами в противоречиях и собственной болтовне. Это удобная первая позиция для борьбы газеты. Как знать, но удастся ли собрать вокруг газеты лучших, отважнейших людей? Из них создать штаб движения. Кого? Кёппен… Гервег… Карл вспоминает красавца поэта, которого встретил мельком. Руге неплохой союзник, Гесс будет послушен. Мало, мало людей. Но выбора нет. Нужно укрепиться. Нужно наладить и уметь сохранить газету.
Рутенберг обвинял его, Карла, в осторожности, странно перемежающейся с необъяснимой удалью и внезапным наскоком. Но разве но таковы законы стратегии? На воине как на войне. Исподволь собирать войско, подготовить тыл и в должную минуту броситься в атаку. Враги везде. Король, помещики, ландтаг, цензурное управление – виселица живых мыслей – и Шлейги, тысячи плодящихся жиреющих Шлейгов.
Карл припомнил воззвание Вейтлинга. Не там ли, но в стане ли портного те люди, которых ему так не хватает? Об этом надо было подумать. Он покуда не хотел дать себя увлечь соблазну крайностей.
Карл с трудом оторвался от обступивших его мыслей. Пора в редакцию.
По крутой лестнице, грязной и узкой, по которой дважды в день ползает, помахивая мокрой тряпкой, уборщица с оголенными икрами вполне рубенсовских масштабов, редактор взбирался на верхний этаж. В его кабинете, низкой и неуклюжей комнате со сводчатым потолком, с утра уже сутолока и шум. Доктор Оппенхейм либо Юнг, а иногда и Шлейг, представитель акционеров, сидят на глубоком подоконнике. Цензор Сен-Поль, элегантнейший молодой человек с превосходными бакенбардами, ежедневно завиваемыми, выправка и отменные манеры которого говорят о долгой военной школе, привычке носить корсет и шпоры, осторожно шагает из угла в угол, стараясь не испачкать щеголеватого костюма. Дурно оштукатуренные стены бессовестно марают длиннополый сюртук. Спина непоседливого Маркса нередко бывает вся исчерчена белыми полосами. Он редко присаживается к письменному столу, но зато часто, набегавшись по комнате, стоит, опершись о квадратную печь, заложив назад неспокойные руки.
– Ваше здоровье, лейтенант, – входя, поздоровался с цензором Маркс. – Надеюсь, Гегель и наши комментарии к его учению еще не отняли у прусской короны ее лучшее украшение. Удалось ли вам подебоширить вчера в кабачке на Новом рынке?
– Ваш ум и характер, господин Маркс, знаете сами, покорили меня. Отдаю должное вашему редакторскому гению… Вынужден сознаться, я не скучаю в Кёльне, тем более что вы не слишком балуете меня досугом. Но предупреждаю как друг, как поклонник наконец, – газета, того и гляди, подведет вас всех своей небывалой дерзостью. Уловки не помогут… Однако благодарю вас за лестный отзыв, доктор Маркс.
Сен-Поль, фамильярно и многозначительно погрозив пальцем, наконец удалился.
– И у тебя хватает терпения развращать это солдатское бревно гегельянской философией, тратить время на этого гнусного палача и кутилу! – сказал Оппенхейм, позабывая, как давеча заискивал в цензорском благоволении.
– Сен-Поль – продукт наших уродливых нравов, подлинное творение цензурного управления, и к тому же не худшее, поверь. Достаточно сравнить его с послушным дураком фон Герляхом, который обнюхивает газету, как голодный боров кучу навоза. Нелегко иметь дело с этой подлой природой шпионов. С каждым днем осада нашего бастиона усиливается. Цензурные придирки, министерские марания, иски, жалобы, ландтаги, вой акционеров с утра до ночи.
– Ты не на шутку раздражен, Карл.
– Еще бы! Если я остаюсь на своем посту, то только чтоб по мере сил пометать насилию. Наш разгром – победа реакционеров. Трудно все-таки сражаться иголками вместо штыков. Еще менее возможно для меня оказывать ради чего бы то ни было холопские услуги. Надоели лицемерие, глупость, грубость, изворачивание и словесное крохоборство даже ради свободы.
– Ого, Карл опять готовит нечто губительное! Что ото будет? Статья о бедственном положении крестьян-виноделов? Предчувствую, он снова готов переменить веру. Более того: не скатывается ли наш редактор к крайним взглядам? Я трепещу за тебя, доктор Маркс!
– Нет, все это не то. Но я напоролся головой на гвоздь. Кто разрешит боевой конфликт эпохи – право и государство? Прощайте, друзья, гранки ждут меня! Я утопаю! Из Берлина снова бочка воды – три статьи от Мейена. Грохот, пустословие, истерические проклятия, которые, однако, не способны устрашить и ребенка. Что ни слово, то мыльный пузырь! О, нахальство невежества! Оно поистине безгранично!
Кабинет редактора опустел. Мальчонка в клетчатых брючках приволок мешок с корреспонденцией. Карл потрепал сбившиеся тонкие льняные волосы курьера и, покуда тот разгружал свою ношу, из куска бумаги соорудил ему в подарок стрелу и кораблик.
Старик наборщик принес кипу свежих, пахнущих сосной гранок. Но недолго доктор Маркс смог заниматься чтением и правкой номера.
Без стука отворилась дверь, и вошел молодой человек, весьма тщательно одетый, с дорогой тростью и высокой модной шляпой в руке. Глаза его дружелюбно улыбались, морщился в переносье задорный, вздернутый нос.
Без всякого стеснения вошедший направился к столу, положил перчатки и широким добрым жестом протянул Карлу большую руку.
– Я давно ждал этой встречи. Моя фамилия – Энгельс. По пути в Англию заехал к вам.
Маркс, привстав, указал ему на стул. Энгельс… Он знал это имя.
– Я приехал в Берлин после вашего отъезда и наслышался там немало о неукротимом докторе Марксе. Вас чтят в нашем «Кружке свободы». Да и в ресторане Гиппеля память о «черном Карле» прочна и незыблема.
– В мое время еще не было «Кружка свободы», – сухо поправил Карл.
Глаза Энгельса посерели, и разгладилась переносица. Он насторожился.
– Мейен, – ответил он без прежнего радушия в голосе, – поручил мне выразить недоумение и даже недовольство поведением редакции газеты в отношении берлинских сотрудников.
– Вот как! – вспылил мгновенно Карл. – Узнаю Мейена! – Он насмешливо сощурил глаза. – Вот мой ответ ему и всем вам.
Он пододвинул Энгельсу листок бумаги без конца и начала и углубился в просмотр статей, как будто в комнате никого не было. Фридрих растерянно привстал, взял свои перчатки, но быстро раздумал и снова сел. Прежде чем уйти, он торопливо прочел написанное.
«…Я тотчас же ответил и откровенно высказал свое мнение…
… Я выдвинул перед ними требование: поменьше расплывчатых рассуждений, громких фраз, самодовольного любования собой и побольше определенности, побольше внимания к конкретной действительности, побольше знания дела. Я заявил, что считаю неподходящим, даже безнравственным, их прием – вводить контрабандой коммунистические и социалистические положения, т. е. новое мировоззрение, в случайные театральные рецензии и пр.; я потребовал совершенно иного и более основательного обсуждения коммунизма, раз уж речь идет об его обсуждении. Я выдвинул далее требование, чтобы религию критиковали больше в связи с критикой политического положения, чем политическое положение – в связи с религией, ибо это более соответствует самой сути газетного дела и уровню читающей публики; ведь религия сама по себе лишена содержания, ее истоки находятся не на небе, а на земле, и с уничтожением той извращенной реальности, теориейкоторой она является, она гибнет сама собой. Наконец, я предложил им, что если уж говорить о философии, то пусть они поменьше щеголяют вывеской«атеизма» (что напоминает детей, уверяющих всякого, желающего только их слушать, что они не боятся буки) и пусть лучше они пропагандируют содержание философии среди народа…»
– Я совершенно несогласен с вашей оценкой членов кружка! – гневно сказал Энгельс и, сложив квадратиком недоконченный черновик письма, взял свою трость и нетерпеливо помахал ею.