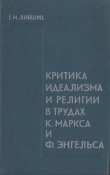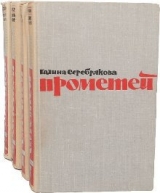
Текст книги "Юность Маркса"
Автор книги: Галина Серебрякова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 41 страниц)
И когда худосочная девица с сильно выпирающим на шее зобом, которую Рутенберг нежно называл «Дощечка», объявила себя знатоком френологии, Маркс покорно разрешил ей пощупать и свою голову. Девица долго водила худыми пальцами по его черепу; затем, фамильярно дернув Карла за уши, объявила его безусловно гениальным.
– Ты еще удивишь мир, – сказала она хрипло.
Карл встретил это заключение звонким смехом, но попросил, однако, объяснить ему значение выпуклостей на макушке и висках.
За прочтение лекции Доска запросила две порции мороженого, сигару и бутылку рислинга. Карл внимательно слушал ее, но она оказалась столь непомерно говорливой, что Рутенберг с трудом спас от нее своих товарищей.
Кёппен смог наконец продолжать чтение своего памфлета, который, по его смыслу, должен был прозвучать, как набат, призывающий назад, к счастливой просветительной поре минувшего столетия.
В противовес мракобесию червяков на двух ногах, без убеждений, без совести, не умеющих ни любить, пи ненавидеть, Кёппен называл доброго, просвещенного короля, мнимого друга Вольтера и вольнодумствующих атеистов. Не обращая внимания на гудящую толпу, на грохот посуды и музыку, Кёппен читал, все более увлекаясь, и, как обычно, все настороженнее становился Карл. Вопросы его кололи автора.
– О черт! – воскликнул Карл, не удержавшись снова. – Уверен ли ты в том, что старый развратник из Сан-Суси, унизивший великих французских энциклопедистов до роли своих шутов, уверен ли ты, что он достоин такой апологии? Мне трудно оспаривать тебя, – продолжал он далее, – история покуда не впустила меня в свои катакомбы, но короли всегда кажутся но столько философами, сколько в лучшем случае опытными прохвостами. Иное дело – философия восемнадцатого века: ей, конечно, мы обязаны многими прекрасными мыслями.
Но Кёппен был убежден в своей правоте и потому несговорчив.
– Великий Фридрих – великое исключение. В нем король никогда не отставал от философа.
– Проверим, – сказал Карл. Это суровое обещание означало для него бесконечно много: сотни книг, бессонные ночи, выписки, конспекты, сопоставления, бессчетные мысли, новые открытия.
«Проверим!»
Карл любил беседы с многознающим Кёппеном. Одаренный историк из реального училища в Доротеенштадте с одинаковой страстностью рассказывал о Будде, цитировал священные книги Вед и патетически декламировал наизусть великолепные речи Робеспьера, Мирабо и Домулена.
Он распевал грубовато-шутливые песни французской революции и, подражая неутомимому раскачиванию баядерок, гнусаво читал нараспев монотонные, ритмичные молитвы браминов.
Нередко он принимался рассказывать северные мифы, приводя Карла в неописуемый восторг прекрасными образами и мудростью народных изречений.
– Вот она, колыбель прекрасного! – говорил Маркс. – Язык родился в пещере, в землянке, в деревне. Эпос не может быть превзойден.
Но Фридрих Кёппен был не столько ученый, сколько артист. Слишком поверхностный, он запоминал лишь факты, не умея делать выводов и обобщений. Карл же стремился узнать историю – науку. Он принялся один изучать прошлое народов и стран.
Как несколько лет тому назад в Нимвегене, перед ним стройным рядом кладбищенских плит встали минувшие годы Соединенного Нидерландского государства, так теперь Европа античная, средневековая, современная, десятки погибших и возрожденных цивилизаций рассказывали последовательно ему о своих мятежных судьбах. Египет, Македония, Византия и вольная Испания одинаково приковывали к себе его неутомимые глаза. И снова – открытие за открытием.
Прошлое планеты, которая с некоторых пор перестала Марксу казаться необъятной, необозримо большой, лежало, как труп на столе анатома. Карл скальпелем вскрывал покровы и мускулы. В прошлом он искал разгадку и движущую силу мирового процесса и вехи будущего. Это было увлекательное занятие, обогащающее пытливый мозг. Книги, которые служили ему одновременно инструментами и препаратами, редко подвергались более беспощадному обращению. Он зачитывал их до пятен и дыр, он исчертил их высохшие, посеревшие поля, исписал обложки и заглавные листы.
Быстро покончив с издавна знакомой историей древности, он долго странствовал по средневековью.
Римские папы, инквизиция, поход Лютера увлекли его не меньше, чем расцвет французского феодализма, купеческий разгул английских королей и татарское царство на Востоке.
– Кто смеет хулить жизнь? – в упоении спрашивал Карл Рутенберга, когда тот уныло хлестал при нем вино в поисках исхода, спасения от разъедающей скуки. – Кто осмелится объявить, что мир неинтересен? Да, если человек заблудился в подворотне своего дома, своего жалкого я, – пусть склонится над булыжником и задумается над тем, что этот камень видел за сотни лет своего существования. У жизни есть лишь один недостаток с нашей точки зрения – она коротка.
Давно миновало то время, когда Карл, самый юный из членов докторского клуба, чувствовал себя менее опытным в вопросах, которыми жили окружающие молодые ученые, юристы, доценты. Ни вожак кружка Бауэр, ни Кёппен, ни даже самонадеянный ревнивый Альтгауз не только не считали Карла младшим, но даже открыто признавали его превосходство. Рутенберг иногда пытался восставать, в особенности когда бывал навеселе, но обычно даже и не начинал спора и торопливо присоединялся к каждой мысли, высказанной «трирским чертенком».
Старый безалаберный бурш искренне привязался к юноше, и они проводили немало часов, измышляя проказы, мистифицируя серьезного Кёппена, распевая «Гаудеамус» и рейнские песни.
В Карле таился проказник, еще сызмальства не раз возмущавший покой Виттенбаха.
Когда из Бонна прикатил наконец в Берлин Бруно, в первый же вечер в Шарлоттенбурге решено было задать пир и повеселиться до утра.
После доброй попойки, плясок и криков, выдаваемых, впрочем, за пение, нехмелеющий и неуемный Карл предложил отправиться на окраину и закончить ночь в какой-нибудь пивнушке, куда на рассвете по пути на базар заезжают крестьяне. Это был, по мнению всей лихой компании, превосходный план. К тому же все члены кружка были налицо. Редкая удача.
Кроме Карла, братьев Бауэров, Рутенберга и неизменного Кёппена, в Шарлоттенбург явились надменный, разгоряченный чахоткой и неудовлетворенным тщеславием Альтгауз, озорной юный Науверк, неисчерпаемый в болтовне Буль, восторженно-напыщенный эстет Карл Кердер и даже сам профессор Петер Феддерсен Стур, датчанин по рождению, пруссак по взглядам, желчный, скучающий оригинал, тяготеющий к молодым гегельянцам на словах и угождающий мракобесу Шеллингу на деле.
Итак, решено было отправиться в пивную.
Идя по пустым улицам, не удержались от того, чтоб не покружиться в хороводе вокруг столбов и не разбить фонаря. Карл был большой мастер попадать камнем в самый фитиль. Эдгар Бауэр не уступал ему в удальстве, и оба расшалились до того, что окатили из забытой в чьем-то палисаднике лейки чрезмерно замечтавшегося Адольфа.
Наконец добрались до пивнушки, подстерегавшей путников у самого городского шлагбаума. Хозяин дремал за стойкой, какой-то подмастерье хмуро размышлял над пустой кружкой пива, положив большую седеющую голову на красные короткопалые руки. Кафтан его был прорван на спине и локтях, и брюки, заплатанные на коленях, говорили об их терпеливом долгом служении и скитаниях в непогоду. Два крестьянина, возы которых стояли на улице, спали, посапывая, широко раскрыв рты, на скамьях. На полу, на столах, на стойке было мокро и грязно.
– Проспитесь, потомки великих германцев! Восстаньте и поднимите чаши во славу народа! – завопил Эдгар, перепугав мирно отдыхающих посетителей.
Трактирщик от неожиданности свалился со стула, исчез под прилавком, крестьяне шумно спустили со скамей ноги и поспешно встали навытяжку, думая, что это полицейский налет.
– Спокойствие, братья! То не враги, то друзья перед вами! – продолжал декламировать Эдгар, весьма нетвердо державшийся на ногах.
– Пива! – распорядился деловито Бруно.
– За свободу, за равенство, за братство! – провозгласил Карл, когда десяток бутылок появился на стойке, и налил всем присутствующим по кружке. Крестьяне испуганно и неумело чокались с веселой ватагой. Даже сумрачный подмастерье, несмотря на упрямое нежелание, был вовлечен в попойку. Ему пришлось не только выпить с каждым из пришедших, но, кстати, и рассказать свою биографию, краткую историю немецкого бродяги поневоле, ищущего труда, тоскующего по дому и семье, которых не было, нет и которые вряд ли смогут у него быть.
– Внемли мне, труженик! – приставал Бауэр к подмастерью, дергая его за вылезший из протершегося рукава острый темный локоть. – Время становится все страшнее и величественнее. Пруссия представляет собой сложнейший клубок противоречий. Протестантизм и католическая церковь…
– Да отцепитесь вы от меня! – рабочий в сердцах плюнул. – Я не пьян, как вы, господин.
Но Бруно не отпускал обидевшегося на непонятные его речи слушателя.
– Верь, философ возглавит борьбу, в то время как государство упустит руководство…
Карл пришел на помощь обозлившемуся мастеровому и занял его место перед профессором.
– Философия! – сказал он насмешливо, мгновенно отрезвев и снова став вполне уравновешенным. – Пора стащить это парящее в небесах чудовище на землю. Я говорю это не впервые. Довольно воевать только с религией, которая и так обречена стать прахом на кладбище человеческих заблуждений! Философия должна стать оружием практической борьбы.
Бруно был слишком пьян, чтобы спорить, и Маркс разочарованно отошел к Кёппену, который, вскочив на скользкий стол, собирался отплясывать тирольский пастуший танец.
– «Карманьолу»! – закричал Карл и схватил под руку Альтгауза.
Рутенберг затянул песню. Попадали табуреты. Крестьяне бочком пробирались к двери. Трактирщик готовил хитроумный счет с длинным перечнем разбитой посуды…
В низкую стеклянную дверь заглянул рассвет. Эдгар спал рядом с подмастерьем в углу пивной, за печкой.
На улице ночных сторожей сменяли дворники с метлами. Пир подходил к концу. Взявшись за руки, приятели возвращались в Шарлоттенбург, чтоб до полудня выспаться в гостеприимном доме Бауэров. Так кончилась ночь.
Диссертация, которую спустя день Карл показал Бруно всего лишь в черновике, не получила одобрения. Бауэр ожесточенно раскритиковал даже извечные стихи Эсхила в предисловии. Что-то в работе Маркса мгновенно и глубоко уязвило профессора теологии.
– Прометей, опять Прометей! Самый благородный святой и мученик в философии, сказано у тебя. Зачем этот вызов?
– Но какие это неповторимые строки, – прервал Карл, – какие слова! Они звучат как гром! Голос хрома бессменен в веках…
Знай хорошо, что я б не променял
Своих скорбей на рабское служенье:
Мне лучше быть прикованным к скале,
Чем верным быть прислужником Зевеса.
Разве я не прав, когда говорю вместе с Эпикуром: нечестив не тот, кто отвергает богов толпы, а тот, кто присоединяется к мнению толпы о богах?
Карл стоял, откинув назад большую гордую голову. Бруно почувствовал невольно его силу, его правоту, но не уступил.
– Нет и нет! Зачем дразнить гусей теперь, когда ты не знаешь, как устроится твое будущее? Ты не должен выходить за пределы чисто философского развития. Следует поступиться кое-чем ради кафедры, ради возможности, наконец, жениться и устроиться профессором.
– Что?
Бауэр не был знаком о разгневанным Марксом, он никогда доселе не видал припадков его неодолимой вспыльчивости. Бруно растерялся.
– Что?! Ты предлагаешь мне угодничество, выслуживание? Да это – человеческий недостаток, внушающий мне наибольшее отвращение. Пресмыкаться, лгать, раболепствовать ни в частной, ни в общественной жизни я не буду. Я не хочу прятать свои взгляды под плотной философской формой, загадочной, впрочем, только для глупцов.
– Ты еще не знаешь всей боли комариных укусов. Когда я предостерегаю, во мне говорит осторожность и снова осторожность. Займи кафедру и затем бросайся в бой.
– Чем вооруженный? Графином и тряпкой от грифельной доски? Нет. И цитировать Библию я не стану в угоду филистерам и трусам. В Эсхиле я полюбил не только величавого поэта, но и борца за человечество. Его Прометей – неповторимый символ.
– Как бы тебе самому не стать Прометеем, пригвожденным к скале.
– Ты мне чрезмерно льстишь.
– Я вижу, Карл, практическая деятельность отвлекает тебя в сторону от больших идей все дальше. Бессмыслица! Ты – прирожденный ученый. Теория к тому же является в настоящее время сильнейшей практикой, и мы еще не можем знать, в какой мере мощь ее будет расти.
– Но со смертью Альтенгптейна исчезло самое заманчивое в профессорской деятельности, искупавшее немало теневых ее сторон. Нет более свободы в изложении философских взглядов. Ты сам подтвердил это своим испугом перед стихом Эсхила. К тому же с назначением Эйхгорна министром, – Эйхгорна, который силен задом, но не головой, – вряд ли я добьюсь профессорского звания, а добившись, все равно прослыву сатаной и буду предан анафеме.
– Однако ты хочешь добиваться диплома?
– Конечно, я не бегу от борьбы. Я постараюсь напечатать диссертацию именно с этим же еретическим предисловием: пусть негодуют ханжи и невежды, – на то и рассчитано. Затем поселюсь с тобой в Бонне. Мы объявим пришествие Страшного суда… Мы будем издавать газету. Поверь, это лучшая трибуна, какая еще осталась в Пруссии для вольнодумцев, для неустрашимых атеистов. Как видишь, более чем когда-либо я рвусь в бой…
– Увы, ты так мало любишь чистую науку. – Лицо Бруно приняло брезгливо-злое выражение. – Твоя диссертация наносит вред не только одряхлевшим баранам безнравственной гегелевской школы, но и нам, молодым.
Карл равнодушно пожал плечами. Критика Бруно его не трогала, он был слишком убежден во всем том, что отстаивал, чтоб колебаться.
– Каждый из нас свободен в выборе путей для своих научных выводов. Не так ли? – ответил он только, торопливо закуривая и прячась в сигарном дыму. – Философия должна стать средством преобразования действительности, она должна направить острие своей практической деятельности против прусского государства, и ручаюсь тебе, что в навозе гегелевского учения, в огромном нагромождении противоречий мы можем найти жемчужное зерно истины, меч Нибелунгов, который ищем, – сказал на прощание Карл недовольному Бауэру.
Они расстались менее дружелюбно, чем когда бы то ни было доныне, и впервые после нескольких лет тесной дружбы каждый отгонял от себя мысль о том, что не только равнодушие, но и вражда может разъединить их навсегда.
«Был ли он когда-нибудь полностью с нами? – спрашивал себя самолюбивый Бруно. – Такого не обуздаешь: ретивый и властный ум».
«Он не прав и путает, как всегда. Нет, это не боец», – выносил приговор Бауэру Карл, оставшись один.
Но размолвка их на этот раз была все же непродолжительной. Слишком много оставалось общих целей и планов…
Бруно вернулся в Бонн, Карл заканчивал диссертацию и сдавал последние экзамены. Будущее казалось ему теперь более отчетливым, чем когда-либо до этого. Докторское звание обещало самостоятельный заработок. Наконец-то кончится затянувшееся жениховство, все более гнетущая разлука с любимой. Отсрочка брака с Женни порождала непрерывные недоразумения с окружающими. Не щадила невесты сына озлобленная Генриетта Маркс, трирские кумушки и ханжи наперебой измышляли истории, тревожившие семью Вестфаленов. И любовь молодых людей подвергалась все большим испытаниям, пробе на огне человеческого злословия и клеветы.
«Скорее увезти Женни подальше от гнусного болотца – Трира!» – мечтал Карл. Препятствия лишь горячили его, укрепляли волю. Он влюблялся все неудержимей. Он изнемогал от ожидания, ревновал, сомневался и снова верил и ждал, покорный обстоятельствам, но готовый бороться до конца, до победы.
Мог ли он обречь ее, Женни, на нищету, на студенческие лишения? Нет. Но покупать ценой подлости, уступки сытое профессорское место он не мог даже ради нее. Этого не допустила бы и сама Женни. Она требовала от него силы воли и верности не только ей, но себе самому. Карл метался, но, как всегда, сомнения только подстегивали его работу.
В дни разъедающего душу кризиса он кончает Берлинский университет и отсылает диссертацию декану философского факультета в Иену. Он смело штурмует жизнь и выходит победителем.
Гимназия, студенческая скамья – унылая неизбежность – позади. Карл не хочет быть ни жалким Пугге, ни беспомощно брюзжащим Велькером, ни даже академическим повстанцем Гансом.
На прусской университетской кафедре нет места для неукротимого ума и дерзкой речи доцента Маркса. Но газета – подходящий барьер для поединков с реакцией. Перо не худшее оружие… Карл мечтает поскорее начать сражение. Время приспело. Ничто но удерживает Маркса более в Берлине. Но прежде чем броситься в первую схватку и тем самым во многом определить свою дальнейшую дорогу, он хочет повидать Женни, получить ее напутствие.
В этот раз он отправляется в Трир не прямым путем, а с остановкой во Франкфурте-на-Майне. Там тетка Бабетта, – добрейшее существо, нежно любящее детей покойного брата, – готовит ему родственный прием. Но не встреча с родными привлекает Карла. Он давно по достоинству оценил условное значение родства.
Ему хочется снова увидеть старую столицу аристократов и денежных магнатов, средневековый город, взрастивший гений Гёте и сарказм Бёрне, родину нескольких Ротшильдов и десятков тысяч жалких нищих.
Карлу не сидится в зажиточно-уютном домике Бабетты, и под разными предлогами он старается улизнуть от ее неустанного гостеприимства и забот. Он убегает на улицы города и проводит дни и вечера в толпе. Франкфурт – необычайный город. Во всем он разный. Рядом с широкими мощеными площадями лежат в столетнем сне средневековые лачуги, деревянные логовища давно сгнивших несчастливых алхимиков и безрадостных мудрецов. В больших ресторациях, в танцевальных залах по вечерам пляшут кадриль и сводящий с ума всю Европу бесшабашный канкан. Купцы, банкиры с отвислыми животами и подбородками веселятся вовсю. А рядом с богатыми площадями, за высокой коричневой каменной стеной плачут изможденные еврейки в париках с нитяными проборами, плачут и причитают над своей жизнью, как над гробом ребенка. Навстречу Карлу попадается пахнущий просмоленными бочками пристани человек в рваной самодельной обуви и в шапке, от которой остались один околышек да просаленный ободок. За пару грошей на табак и пиво он предлагает перевезти Маркса на первой попавшейся, привязанной к столбу лодке на другой берег Майна, готов поступить к нему слугою, даже спеть ему гессенскую песню или что-нибудь проплясать. Он был пьян вчера и мучится тем, что не может опохмелиться. Но сегодня он трезв. Сатана тому свидетель, он слишком трезв!
Карл отказывается от всех предложений безработного бродяги, но, не желая обижать его милостыней, просит указать, как пройти к великой гордости города, к домику Гёте. И Карлу не кажется странным, что его новый знакомец, ничуть не удивившись, ведет его в глубь города, бренча полученными деньгами и напевая песню, забавные, злые слова которой заинтересовали Карла. Карл просит повторить их, старается запомнить припев.
Так идут они рядом, распевая, довольные друг другом, по узеньким улочкам, где дома стоят друг против друга на таком расстоянии, что местные Маргариты могут целовать подстерегающих их в напротив расположенных окнах Фаустов.
– Здесь все: и гетто, и круглые площади феодалов, и порт, обслуживаемый нищими, и биржа, и игорные дома, – все это дело рук самого Мефистофеля, – говорит Карл.
Его спутник поет громче о черте, подкупившем сейм.
Наконец они сворачивают в темный переулок и останавливаются у стеклянной ' замусоленной двери.
– Вот, – говорит бродяга, – я привел вас и могу похвалить за верный нюх. Лучшего кабака, чем кабак господина Гётера, нет во всем Франкфурте, да и на всем Майне не найдется, клянусь в том сапогом великого Лютера!
Едва сообразив, в чем дело, Маркс заливается ему одному присущим, заражающе-звонким, широким ребяческим смехом. Он вполне доволен недоразумением.
«Отличный урок недомыслию! – осуждает себя Карл. – Поганое ученое чванство! Мы говорим о тьме, о цепях невежества, в которых томятся Германия и ее лучшие сыны – народ, но что знаем мы об этом народе? Немецкий грузчик, читающий Гёте, – да ведь это было бы осуществлением всех идеалов, итогом великих кровопролитий и революций, которых еще не было! О чванная наивность!»
– Ну, что же вы размышляете? Тут, право, недорого.
Не желая разочаровывать своего провожатого, Карл, ничего не объясняя, толкнул дверь. Задребезжал колокольчик.
В удушливом табачном дыму едва различимы были люди: извозчики, мастеровые, сторожа, грузчики, бродяги. Сухопарый хозяин разносил пиво и вино и охотно зажигал толстые трубки клиентов. Он болтал без умолку, уверенно и бесстрашно, к удивлению Карла, бранил городские порядки, нового короля, увеличившего налоги и надувающего народ не хуже, чем его полоумный отец.
Все столы были заняты. Карлу удалось присесть на кончик скамьи подле волосатого старика, который немедленно представился новому соседу, горделиво объявив, что по профессии он – щетинщик. В доказательство он показал всем свои насквозь исколотые, обезображенные багровые руки в шишках и неизлечимых волдырях, поясняя, что выдергивать щетину из свиных туш дело трудное и он желает такой работы черту, попам, банкирам и всякой иной сволочи в орденах и при капиталах. Другой сосед Маркса оказался трубочистом. Уроженец Швейцарии, он всего лишь месяц как перешел немецкую границу. От него Карл услыхал о Вейтлинге, имя которого мельком уже знал по Берлину. Трубочист был занятным собеседником. Это был весельчак, балагур и крепкий пьяница, фатовато одетый в желтую рубаху с красными пуговицами и шнуром. Он с первого слова понравился Марксу. Было только нечто странное в его лице, благообразном и чистом. Не сразу можно было объяснить себе причину. Лицо трубочиста оказалось лишенным какой бы то ни было растительности: отсутствовали не только усы, но и ресницы, даже брови. На голове же вились краснорыжие кудри. Он походил на каноника, и что-то послушнически настороженное было в его глазах. Всматриваясь внимательнее, Карл заметил следы глубоких ожогов на лице рабочего. Он постеснялся расспрашивать, но догадался, что во время странствия по трубам бедняга стал жертвой пламени и хоть спас зрение, но лишился ресниц, отчего глаза и лицо приобрели столь странное выражение и неприятную гладкость и обнаженность.
В пивной пели. Карл с трудом разобрал слова, но, различив, стал повторять их, желая навсегда запомнить. Он никогда раньше не слыхал такой песни.
Когда несчастных кровью
Окрасилась Висла,
Рыдали мы в подушки,
Пухли у нас глаза.
Дрожали пред царем мы,
Но истребить злодея —
Вот это был наш долг!
– «Вот это был наш долг!» – догоняя хор, подтягивал Карл. – Чудесная песня!
Наш долг был действовать,
Не речи говорить.
Ударить, когда сердце кровью обливалось,
И бодрствовать, не зевать,
И требовать решительно, где мы молчали:
Уж лучше было б нам сломиться, но не гнуться, —
Вот это был наш долг!
Трубочист настойчиво проповедовал учение Бентлинга.
– Ребятки! – говорил он, смачно жуя хлеб и запивая его пивом. – Правду на земле установим мы, оборванцы, нищие… Кто захочет умереть за свободу и наше благо? Те, кто испил горькой водицы, кто наголодался, у кого живот пуст, а голова горяча. Кто сыт, тот терпелив.
– Твоя правда, – согласились вокруг, – фабричный рабочий не пойдет в тюрьму.
– Он и так в тюрьме, – несмело вставил Карл.
– Ну ты, юнец, помалкивай! Не нашей ты жизни.
– Кто тюрьмы не попробовал – смелости не набрался. Вор и есть самый честный человек. У него ничего нет, он за бедняка страдает. Кому терять нечего, тот – герой. Не тот вор, кто хочет хлеба и равенства, а тот, кто скопил миллионы.
– Правда, – согласились все. – Большие слова он говорит.
Разговор продолжался в том же духе и звучал для Маркса как откровение.
Большими ноздрями короткого носа он вдыхал тяжелый, густой воздух, запах пота, нищеты.
Когда там за Рейном, —
затягивал щетинщик снова, —
Народ сломал оковы.
Во Франкфурте-на-Майне
Раздался эха гром.
Воздернуть на столб фонарный
Союзную казарму —
Вот это был наш долг!
– «Да, это был наш долг!» – подхватили все.
Хозяин и трубочист, видимо, издавна были коротко знакомы. Карл заметил, как они перемигивались и, склонившись друг к другу, как два опытных заговорщика, совещались за спинами посетителей.
До поздней ночи просидел Маркс в необычайной пивной Гётера, приглядываясь и прислушиваясь к окружающему. Он был рад случаю, уведшему его в этот вечер прочь от дома Гёте. Там ожидали его возвышенная религия, поклонение гению, – тут он нашел настоящую жизнь, поразительную ежедневность сотен тысяч неприметных и чужих людей.
На прощание Карл шутками и расспросами сумел так расположить к себе сметливого трактирщика, что получил от него в полутьме у двери тщательно сложенный, зачитанный грязный листок, озаглавленный:
«ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ
Мы, немецкие рабочие, хотим вступить в ряды борющихся за прогресс. Мы хотим получить право голоса при общественном обсуждении вопросов о благе человечества, ибо мы – народ, в блузах, куртках и картузах, мы самые полезные и самые сильные люди на всей божьей земле…»
Карл настолько увлекся чтением, что, отыскав уличный фонарь, льющий мертвенно-синий свет, поднял листок и, прижавшись к столбу, продолжал разбирать засаленные, кое-где прорванные строчки.
«Мы хотим поднять свой голос во имя нашего блага и блага всего человечества, и пусть убедятся тогда все, что мы отлично понимаем свои интересы, и хотя не умеем выражаться по-латыни и по-гречески и не знаем мудреных слов, но на чистейшем немецком языке мы сумеем вам прекрасно рассказать, где жмет нам сапог. Мы хотим тоже иметь голос, ибо мы живем в девятнадцатом веке, и до сих пор мы нашего голоса не подавали. Мы хотим иметь свой голос, чтобы прокричать в уши власть имущих справедливые жалобы».
Карл дочитал. «Какая мощь и уверенность в этих словах! Это голос хозяев, господ, подлинных хозяев планеты. Это пафос плебса, пролетариата…»
Он стоял, нахмурив брови, раздувая, как только что в кабаке, ноздри удивительного, властного носа, сильного носа, такого же, какой был на лице Сократа. Мир лежал перед ним, как загадочный объект на столе ученого. Холодно и смело он изучал строение объекта, смутно желая найти подтверждение своим научным догадкам.
Не задерживаясь более во Франкфурте, Карл поехал дальше.
Снова Трир, опостылевший Трир, куда он хотел бы не возвращаться более, если б можно было поскорее увезти с собой Женни прочь из маленького, загнивающего городка, душного и плодящего гадов.
Только в лавке постаревшего Монтиньи, среди книг и терпко пахнущих листов газет и журналов, отдыхает Карл. Да еще в мезонине у невесты.
Тяжело дыша, непрерывно прикладывая побелевшую руку к ноющему, ослабевшему сердцу, поднимается по крутой, натертой воском лесенке наверх, в комнаты дочери, советник прусского правительства Вестфален. Он болен. Карл с беспокойством вглядывается в осунувшееся лицо своего друга, отца. Людвиг реже смеется; не то испуг, не то удивление в его добрых помутневших глазах. Смерть близка. Еще одна потеря для Карла. Женни нервна, придирчива, то молчалива, то неестественно хохочет. И ей не под силу испытание чувств среди враждебности окружающих.
– Осталось недолго страдать, моя радость, мое солнышко! – молит Карл.
Женни торопливо вытирает слезы.
Но тягостнее всего Карлу возвращаться в чужой дом возле Мясного рынка, где злобная старуха мать старается донять его мелкими придирками, доносами, ханжеской жалобой. Даже сестры, кроме только хворой обреченной Каролины (о, это знакомая чахоточная неугомонная энергия и веселость!), встречают юношу страдальческими упреками.
Отложив молитвенник, Генриетта Маркс начинает причитать над сыном:
– Увы, Карл не оправдал надежд! Счастье, что добрый отец не видит, во что обратился его кумир. Он не профессор, он не хочет даже пойти по родительским стонам и заняться адвокатской практикой здесь, на Мозеле. Несмотря на двадцать три года, он не заработал еще ни крейцера. Пишет какие-то сомнительные статьи, которые порицают благонамеренные люди, и не только не хочет позаботиться о сестрах и бедной матери, но даже готов вырвать у них кусок изо рта. И ради чего? Ради каких-то бунтарских идей и бесприданницы-невесты, – бесприданницы, которая чванлива, как и ее баронесса-матушка… О горе, о позор!
Генриетта Маркс отчаянно рыдает над разрушенной иллюзией.
Она слыхала о юношах из вполне хороших, тоже зажиточных, уважаемых семей, которые попадают в тюрьму за богохульственные речи, за вызов, бросаемый даже самому королю. Их бедные матери, их сестры навсегда опозорены. Неужели и ее ожидает такой удел?
– Добрый отец переворачивается в гробу! Он умер бы вторично, если б узнал то, что знаю я! – грозно говорит она Карлу.
Увы, никогда не будет юстиции советника и тем более господина королевского министра Карла-Генриха Маркса. Ни Ротшильд, ни даже какой-нибудь министр прусского двора не подъедет в карете с гербами к особняку сына Генриетты, урожденной Пресборк. И ей стыдно будет, если Карл но исправится и не остепенится, выйти с ним на Симеонсштрассе.
В банке у Карла нет и ста грошей, и старуха не прикупила со смерти мужа ни одного виноградника…
Думая обо всем этом, она плачет от досады и разочарования. Седые волосы выбиваются из-под вдовьего чепца. Нет, Карл не оправдал родительских чаяний. Не такого сына хотела мать.
Женни уехала – отдохнуть и поправить здоровье – к подруге. С ней уехал и добрый Вестфален. Болен Монтиньи. Глухие ставни спущены на окнах книготорговли.
Карл решает остающееся до переезда в Бонн к Бауэру время провести в бродяжничестве. Он устал от дрязг и хочет вновь одиночества и свободных наблюдений. С дорожным мешком странствующего студента пускается Карл в путь по тропинкам вдоль Мозеля к Рейну.
Солнце и леса обещают ему много светлых, радостных дней. Насвистывая песенку франкфуртского подмастерья, раскуривая одну за другой горькие сигары, он на рассвете оставляет Трир.
Благословенна Рейнландия! Махровые маки устилают берега рек. Виноградные лозы ползут по холмам, в долинах лежит золотое руно – река. Тих Мозель, но переменчив и резв Рейн. Воды его зелены, дно каменистое, изрытое. Нет другой реки, взрастившей столько легенд, реки веселой и мрачной одновременно, как река Нибелунгов и Лорелеи.
Среди низких и густых лесов стоят барские усадьбы. Высокими, крутыми заборами обнесены поместья, не желающие дряхлеть замки, феодальные сторожевые башни на горных вершинах. Позади псарен, овинов, хлевов, где-нибудь на склоне примостились деревеньки. Барские коровы с колокольчиками на гладких шеях откормлены и лоснятся, барские лошади проказливы, избалованы, выхолены, свиньи из помещичьего свинарника чванливы и мясисты.