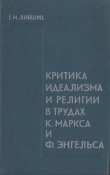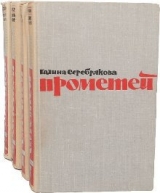
Текст книги "Юность Маркса"
Автор книги: Галина Серебрякова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 41 страниц)
– Встречал ты наших изгнанников? – допрашивал Карл нетерпеливо.
– Нет, это не по моей части. Впрочем, я поймал там одного парня, весьма сомнительного по части гражданского добронравия и, вероятно, первостепенного бунтаря. Говорят, это правая рука самого Бюхнера, – знаешь, этого неудачливого докторского сынка.
– Поменьше комментариев. Что ты знаешь о Бюхнере? – оборвал Карл, насторожившись.
В Тиргартене было сыро, уныло. Фриц вытер платком скамью и сел, стараясь не замочить фалд своего фрака. Карл продолжал стоять, опершись на ствол широкого низкого молодого дуба.
Шлейг рассказывал о зимней ночи, о деревушке, затерянной у подножия гор в Ронской долине, о загадочном парне со следами наручников на руках.
– Я вытащил кисет и предложил ему: «Не угодно ли?» Что бы ты думал! Этому бродяге оказалось угодно, чтобы я оставил его в покое. Нечего и говорить, чернь становится культурной. Рабочие смелеют и становятся нахальны. Но меня не проведешь! Если б я не был человеком деловой жилки, то был бы великим сыщиком, «Вы недавно из Германии, раз не успели соскучиться по обществу немцев», – сказал я ему, распознав, что это за гусь. И – что бы ты думал – этот нищий отвегил мне: «Немец немцу рознь».
– Парень не дурак, – усмехнулся Карл. – Но кем же он все-таки оказался?
– Увы, не принцем, а простым подмастерьем. Членом тайного общества и еще чего-то такого же темного. Якобинец, ре-во-лю-цио-нер… Борец за свободу, равенство и братство. Друг Бюхнера и какого-то пастора, к тому же бежавший из тюрьмы. По правде говоря, следовало вернуть его правосудию.
– Современный Спартак, – задумчиво произнес Карл. – Ты узнал его имя?
– Не думаешь ли ты записаться в его секту?
– Кто он по профессии?
– Всего лишь портной, подмастерье.
– Как же его зовут?
– Иоганн Сток.
– Хорошее простое имя.
– Ты, кажется, всерьез заинтересован моим бродягой?
– А ты думаешь, что революцию делают только юные скучающие дворянчики?
– Они, во всяком случае, делают ее приемлемее для меня. Избави нас сатана от плебейских восстаний! – ответил Фриц испуганно.
– В эпоху революций подмастерья Иоганны Стоки могут оказаться могущественной силой, способной поставить мир на голову. Я не только заинтересован – я надеюсь встретить его когда-нибудь. Это четвертое сословие даст миру великих борцов, – деловито продолжал Карл.
3Всемирный дух никогда не стоит на одном месте. Он постоянно идет вперед, потому что в этом движении состоит его природа. Иногда кажется, что он останавливается, что он утрачивает свое вечное стремление к самопознанию, Но это только кажется; на самом деле в нем совершается глубокая внутренняя работа, незаметная до тех пор, пока не обнаружатся достигнутые результаты, пока не разлетится в прах кора устарелых взглядов и сам он, помолодев, не двинется вперед семимильными шагами. Гамлет восклицает, обращаясь к духу своего отца: «Надземный крот, ты роешь славно!» То же можно сказать о всемирном духе: он «роет славно».
Карл несколько раз перечитал пленивший его глубиной мысли абзац. Так поэта волнует откровение чужих стихов.
Карл решительно подчеркнул текст и, не удовольствовавшись этим показателем внимания, восхищения гегелевским гением, тщательно списал абзац в тетрадку, предназначавшуюся для лекционных конспектов и оставшуюся девственно чистой. Буквы падали с пера Маркса на бумагу в невообразимом беспорядке. Никто, кроме него самого, не мог бы разобраться в этом сложном переплетении черточек и чернильных пятен.
– «Все движется, все меняется – мир, вещи, люди», – Карл твердил эту ясную истину, довольный, как Коперник, открывший вращение земли. – Великая, простая правда.
Маркс перелистал измазанную, вынесшую не одну битву с противоречивым юношеским духом книгу и задержался на гравированном портрете автора. Прозрачные глаза старого Гегеля смотрели вперед упрямо, проникновенно с большого, точно высеченного из гранита лица. Растрепанные волосы выбивались из-под бюргерского колпака.
– И такой мозг погиб, разъеденный холерными бациллами! – пожалел Маркс.
– Он умер вовремя, если даже но слишком поздно, – сказал как-то Ганс, осуждая политические воззвания последних лет жизни учителя.
«Его идея развития раздвинула рамки мира, – думал Карл. – Это лампа чудесного Аладина, озаряющая подземелья мысли и все закоулки земного бытия. Гегель похитил ее у неба и был испуган сам яркостью света. Он хотел прикрутить фитиль, но тщетно».
Он снова подумал о Гансе.
«Нет, не он, не Ганс будет новым Прометеем, который схватит и понесет вечный огонь».
Отложив книгу, юноша принялся шагать из угла в угол, как всегда, когда мысль его работала особенно напряженно и быстро. Он шагал все быстрее, как бы в ритм несущимся думам, все по одной и той же линии, наискось, от умывальника к столу и обратно.
В открытое окно деревенского дома врывались фиолетовые цветущие ветки сирени. Пели вдалеке птицы. Им вторила шумящая убаюкивающе-ровно водяная мельница.
Карл решил не перечить отцу и, следуя его воле, не ездить на каникулы в Трир. Больше месяца жил он в Штралау. Больше месяца, пользуясь болезнью как поводом редко выходить из дому, продумывал страницу за страницей Гегеля. Он встретил новое учение как враг, готовый к бою, но почувствовал себя пленным. Готовый защищать предшественников Гегеля от его разрушительной теории, он сдался. Возможность отыскать смысл бытия в самой действительности была слишком притягательна для ума деятельного, необычного, воинственного. Карл разрушил без сострадания свой Олимп, низверг богов, требуя, чтоб они сочувствовали его исканиям здесь, на земле. Кант, Шеллинг, Фихте, еще недавно чтимые, лежали поверженными в прах. Гегель открывал Карлу мир, помогая познать историю человечества, структуру отношений.
И сейчас сановный нелюдим Гегель стал Марксу понятен. Прежнее раздражение перед его учением исчезло. Карл научился блуждать, не теряя дороги, среди гранитных валунов, острых скал его мыслей, «Феноменология духа» казалась молодому студенту книгой бури. Сколько воздуха, открывающихся для мысли просторов было в ней! Идея диалектического развития, как ураган, опрокидывала несокрушимые столбы, на которых доныне бюргеры строили свой мир.
Маркс продолжал читать. Вошел Рутенберг.
– Какая странная, неистовая мелодия в этих книгах! – сказал Карл в изнеможении. – Сколько бесценных и сколько фальшивых жемчужин в этой сокровищнице!
– Фальшивых? – переспросил его Адольф. – О, неверующий Фома! Поклоняясь, ты тут же разоблачаешь. Твой мозг, что буравчик, точит и во всем сомневается.
– В первую очередь – в том, чему готов поклоняться. Объясни, если на то пошло, такое отчетливое противоречие: если знание есть исторически развивающийся процесс, ведущей силой которого является все та же борьба знания и природы, то почему старый великан ставит сам себе предел, объявляя, что предметом знания является абсолютное знание?
Рутенберг беспомощно пыхтит и лезет за трубкой в оттопыренный карман широкой неподпоясаиной блузы.
– В такой день, когда за окном солнце, когда хорошенькие девушки нежно смеются вдали, неохота лезть в эти сырые дебри. Спроси Бруно.
Но Карла не уймешь.
– Я пытался обойти эти путаные нагромождения, в первый момент обманывающие диалектической простотой. Но проклятый мой дух не знает покоя. Роет, гонит от книги к книге, от мысли к мысли. Так пришел я к философии и приду, видимо, еще ко многому. Неуловимыми нитями связаны все виды знания. Юриспруденция немыслима без философии и истории. Абстракция есть только путь к конкретному. Но и познание конкретного беспредельно. Млечный Путь, кажущийся нам дымкой, – сотни осязаемых звезд. И вот я разрушаю то, что создал накануне, чтоб из развалин возводить новое здание. Надолго ли? Но иначе нельзя. Я отрицал Гегеля – и принялся изучать его, чтоб осмеять, низвергнуть, растоптать. На моем щите были имена Канта и Фихте – и вот я побежден и примкнул к теперешней мировой философии. Так выглядит идея развития, учит меня – на мне самом. После стольких отрицаний я вооружаюсь Гегелем, как Зигфрид мечом героя, и хочу сражаться дальше. Как знать, не пронзит ли меч со временем и старого прусского гения!
– Не удивляюсь. Ты – головастик, Карл. А разум – наиболее смертоносное оружие. Я на десять лет старше тебя, но вот никогда не додумывался и до сотой части того, что тревожит тебя между прочими вопросами, этак по пути, как камешек, прилипший к башмаку. В твои же годы, как ты, безусый, я обкрадывал книги, щеголяя словами и мыслями их авторов без всякого стыда. Сам я думал мало, почитал два-три авторитета, признанных и непризнанных, лихо пел, танцевал и верил, что Библия писана бессмертными. А я был не из худших. Я жил, как щенок, увидевший мир. Ты совсем из другой глины. Не дилетант, как большинство худших, и не педант, завязший на всю жизнь в двух-трех проблемах. Ты – мятежник. Но я боюсь, не засушишь ли ты свое сердце.
С недавних пор тридцатилетний учитель кадетского корпуса и юный студент из Трира, с едва пробивающимися черными волосками над короткой пухлой верхней губой, стали закадычными друзьями. Рутенберг познакомил Карла и с другим учителем – Карлом Фридрихом Кёнпеном. В сумерки они часто ездили на лодке. Нигде на суше не говорилось так свободно и дружно. Устраивали причал на песчаном берегу, разжигали костры, пили, пели, спорили.
Карл ценил своих новых приятелей. Рутенберга он больше любил, Кёппена – уважал.
Позже других узнал Маркс самого Бруно Бауэра. Знакомство произошло на лодке, в сумерки. После жаркого летнего дня на воде было свежо и тихо. Карл и Адольф взялись за весла. Оба любили греблю. После нескольких недель в Штралау. Маркс опять выглядел силачом. Он снял мундир, расстегнул рубашку. Широкая оголенная грудь равномерно вздымалась при каждом взмахе весел.
– Ну и силен же ты! – удивлялся Кёппен, почтительно глядя на вздувающиеся юношеские бицепсы.
Карл засучил рукава. Адольф, меланхолически поглядывая на корзину, полную бутылей и пакетов, пел песню рейнской рыбачки. Никто не подхватывал монотонного припева, и песня, выдохшись, смолкла.
Бруно Бауэр курил, глядя на берег. Карл разглядывал его лицо, повернутое в профиль: три острых линии, образующие лоб, нос и подбородок. Было что-то отталкивающее в рисунке узкого носа, что-то фанатически упрямое в треугольном подбородке. Карлу припомнился старый портрет флорентийского монаха Лабриолы.
«Способен ли он на широкие обобщения?» – пронеслось в мозгу, но сейчас же исчезло.
Маркс был высокого мнения о революционном штурме неба, которое предпринимал молодой доцент. Бауэра хвалил Ганс…
Плыли в молчании, разнеженные вечерней истомою, плеском воды и доносящимися издалека рыбачьими песнями.
– Кстати, Маркс, я рад сообщить, что вы приняты в члены нашего клуба, – сказал Бруно. – В филистерском ядовитом мирке, который наступает на нас со всех сторон, этот клуб единственное противоядие. Не рассчитывайте увидеть там каких-нибудь сиятельных господ. Кроме здесь присутствующих, вы найдете также Тодора Альтгауза, изучающего теологию и потому отъявленного атеиста, моего брата Эдгара, да еще нескольких, способных мыслить и потому неспокойных.
Рутенберг снова затянул песню о рыбачке, ожидающей в непогоду запоздавшего рыбака.
– «Рыбачка с Рейна видит, как тонет ее жених, как хищные сирены тащат на дно его тело», – скорее рассказывал, чем пел, Рутенберг и закончил неожиданной репликой: – Ох, и напьюсь я в честь рейнских рыбачек и рейнских поэтов! Маркс, ты выпьешь бутылку рейнвейна в память Арнима?
– Я предпочитаю кружку мозельвейна во здравие Гейне, – ответил Карл.
Лодка причалила к песчаному берегу. Бруно и Фридрих Кёппен быстро насобирали сухих веток и разожгли костер. Карл тщетно призывал Адольфа к благоразумию. Рутенберг, не дожидаясь начала трапезы, ловко выбил пробку ударом по донышку и наполнил кружки. Быстро хмелея, он становился назойливо нежным, грустным и болтливым.
– Какая ночь, мои друзья! В такую ночь хорошо бы читать сонеты Петрарки молодой девушке, а вы, я знаю, сейчас начнете спорить о потустороннем мире, и покойник Гегель будет устами Бруно поучать вас мудрости.
– В такую же июльскую ночь, – говорил Кёппен, растянувшись на песке и глядя в небо, – погибла французская революция. Шел дождь. В ратуше, изнемогая от жары, заседали последние революционеры Конвента – Робеспьер, Кутон, Леба. Ночи – свидетели предательства и убийств. В темноте даже трусы становятся отважными.
– Варфоломеевская ночь, Вальпургиева ночь, Тысяча и одна ночь, – запивая колбасу вином, насмешливо говорил Рутенберг.
Но Бруно не был расположен на этот раз к шуткам и каламбурам. Он подсел к Марксу, о котором уже был наслышан, и осторожно вовлекал его в разговор. Поглощенный одной темой, он быстро сводил беседу к Евангелию и богу.
Карл отвечал вяло. Ночь волновала и его. Вокруг ничто не напоминало Трира, но запах скошенных трав, но шорохи птиц в кустах, но пряная духота…
Из дому приходили невеселые вести. Отец лечился в Эмсе. Он был болен, тяжело болен. При смерти был маленький Эдуард. А Женни… Она страдала от разлуки, от вынужденной лжи родителям. Вестфалены все еще ничего не знали об их тайном обручении…
– Я работаю над Евангелием все последние годы и могу сказать без колебаний, что в первых трех томах – уверен. Что касается четвертого, то доказательства еще не все собраны, поэтому будем говорить о первых трех. В Евангелии нет ни атома исторической правды. Этот напыщенный петух Штраус возвел здание на песке и напустил дыма, застилающего глаза даже зрячим. Нет ничего хуже современного апостола…
– Которого усмиряет современный министр народного просвещения, – подхватил Карл.
– Господин Альтенштейн вовсе не похож на нынешних филистеров в орденах и с раскормленными задами, – высокомерно заметил Бауэр.
– Вспоминаю, как я стал атеистом, – сказал Кёппен, приподнимая голову. – Собственно, до того я был язычником…
– Обычно, – прервал его Бауэр, – мы перестаем верить внезапно, без долгих колебаний, теряем религию, как невинность в раннем возрасте. Нередко мы мстим неверием богу за то, что провалились на экзамене, хотя перед тем усердно молились и давали обеты. Это самый ненадежный способ перестать верить. Атеистом можно стать так же, как ученым, лишь многое продумав и, если хотите, даже перестрадав. Настоящие безбожники пришли к истине через веру, через борьбу с ней.
Карл, отогнав мысли о семье, о Трире, внимательно слушал Бауэра. Обращаясь к прожитым девятнадцати годам, он не находил там того, о чем говорили Кёппен и Бауэр. Он не мог вспомнить, был ли когда-нибудь, как его отец, последователем деиста Руссо, произнес ли хоть раз слово «всевышний», придавая ему то значение, которое оно имело для юстиции советника. Он вырос между несколькими богами: суровым иудейским, которого чтил дядя-раввин Самуил, благодушным лютеранским, которому усердно молилась в кирхе Софи и с некоторых пор Генриетта Маркс, и античными богами, которых прославлял Виттенбах, рассказывая о неповторимом расцвете Трира. В этот мир богов Карл поселил и героев из «Песни о Нибелунгах», и рейнских сирен из баллад и сказаний. Сказка добивала религию. Он не штурмовал неба, которое никогда не казалось ему обитаемым.
– Увы, – воскликнул Карл с комическим пафосом, – я еретик с детства!.. Вы говорите, – добавил он, становясь серьезным, – что христианство не было навязано в качестве мировой религии древнему грекоримскому миру, а вышло из его недр? Это верно. Но чему, кому оно служило и служит? Вольтер говорил, что если бога нет, его следует выдумать, Почему? Не небо, а земля интересует меня.
Бруно поморщился.
– Ах, Маркс, вы стаскиваете идею с высоты принципов, абстракции.
Рутенберг, отчаянно зевая, полез в лодку, угрожая, что заснет немедленно, Кёппен, так и не досказавший, как он стал атеистом, ругался, вытряхивая песок, который, попав в ботинки, царапал ему ноги.
Приближался рассвет. Решили перенести вопрос о боге в докторский клуб, Кёппен разулся, растолкал Адольфа и взялся за руль, Поплыли в Штралау.
Время в рыбачьей деревне проходило быстро в чтении, спорах, мыслях о будущем.
Когда в огородах Штралау отцвели тыквы и созрела, превратившись в зеленые могучие бутоны, капуста, Рутенберг объявил, что пора возвращаться в столицу. Он самолично собрал и уложил вещи Карла, зная его рассеянность.
– Небо! – воскликнул он, складывая в баул книги. – В то время как я пил, волочился за девушками и мечтал о совершенном человечестве, ты, кроме неудобоваримого Гегеля, проштудировал эту груду премудрости! «Владение» Савиньи – раз. Дался тебе этот павлин, утверждающий мертвечину! Фейербах и Грольман – уголовное право – два. Но этот том весит добрую тонну, Бедный Карл!.. Бекон – три. Аристотель – четыре. Но зачем тебе «Художественные инстинкты животных»? Чтобы посрамлять ими двуногих ослов?
Бруно Бауэр и Фридрих Кёппен тоже торопили с возвращением в Берлин. Начинался театральный сезон. Следуя советам членов докторского клуба, Карл намеревался изменить уединенный образ жизни, который он вел на Старо-Лейпцигской улице.
«Ученый нашей эпохи должен быть всесторонне образован, знать толк в искусстве, направлять ход политической стрелки. Знание стоглазо и тысячеруко…» – думалось Карлу, и, не жалея себя, он взваливал на свои неокрепшие, юношеские плечи тяжелую ношу.
Ему же первому пришел на ум план издания журнала театральной критики, встреченный восторженно всем бауэровским кружком. Это должно было быть чем-то совершенно невиданным в германской прессе. Маркс сызнова перечитывал Шекспира, Кальдерона, Лопе де Вега. Спор об «Овечьем источнике» затягивался обычно до самого утра. Стада, идущие на водопой, возвращали будущих театральных критиков к действительности, и они расходились с песнями, веселые и охмелевшие от бессонницы и шума.
– Если театр – зеркало эпохи, то наш предполагаемый журнал сможет отразить не одно уродство прусского режима! – кричал Карл в окно вслед уходящим братьям Бауэрам.
На другой день он уехал с Адольфом в Берлин. Почтовая карета неслась по проселкам, вздымая вихрь желтой пыли. Карл норовил в открытое окно схватить и сорвать ветки желтеющей липы вдоль дороги.
– Желтый цвет наиболее живой после зеленого, как верно подметил Гёте, изучая краски, – говорил он, радостно вдыхая теплый полевой воздух.
Загорелый, сильный, он был беспричинно счастлив и резвился, как в детстве.
Девятнадцать лет. Жизнь, что зацветающий сад, полна обещаний, неожиданностей, радостей. Не было еще утрат, изнуряющих разочарований. Будущее казалось просторным, доступным, ясным, как эта дорога с клубящейся солнечной пылью. Рутенберг внимательно наблюдал за своим юным другом. Почтовую карету качало на рытвинах и ухабах. Вспотевшие бюргеры, лавочник, отставной чиновник и старуха с двумя клетками на коленях, с подвязанной щекой – бранили правительство за то, что не мостит дорог и облагает налогами домашнюю птицу.
Рутенберг отмахивался от унылой болтовни соседей, как от жужжания ос.
– Счастье выбрало тебя своим любимцем, Карл, – высказал он внезапно свои думы, – Твой рычаг, тот, которым Архимед хотел повернуть мир, – твой разум. Разум, помноженный на волю. Ты все подчиняешь целесообразности – вспышки обиды, самолюбие, и делаешь это без особой борьбы, – в этом твое превосходство. Мы живем, как в полутьме: плывем без компаса, хватаемся за случай, неудачи объясняем фатальной обреченностью. И когда уже поздно, когда жизнь прожита, мы иногда, в хмелю или под страхом смерти, вдруг на мгновение озарены молнией сознания и понимаем, что проиграли жизнь, что чего-то не поняли и не стремились, главное, понять. Недавно, гуляя по берегу с бутылкой рислинга в одном кармане и нравоучениями Берне – в другом, я долго думал о тебе и, кажется, нашел разгадку. То, что делает тебя сильнее меня и мне подобных, есть отвага задавать вопросы миру и искать неутомимо ответов. Ты готов поплыть против течения, утонуть, если случится, но не хочешь отдаться слепой стихии. Ты – борец во всяком деле, за которое примешься. Но у тебя, получившего в дар от природы голову гиганта, есть ли у тебя также сердце?
– Этого ни рислинг, ни Берне тебе не подсказали? – Карл разразился звонким, простодушно-раскатистым смехом, в котором не отзвучали еще детские пискливые нотки. – Мое сердце? В нем мрак и буря, как в преисподней. Сердце? Что подразумеваешь ты под этим словом? Умею ли я любить? Да. Добр ли я к ближнему? Но что такое доброта? Богомольная ханжа, дающая медяк нищему, добра или нет? Мой отец, нежнейший человек, считает, что первая из всех человеческих добродетелей – это воля к самопожертвованию, к устранению своего я.Но во имя чего и кого? Во имя родителей, жены, детей. Любящий благодарный сын, супруг, отец – вот человеческий идеал. Невелик масштаб – маленькое сердце. Добрый христианин, добрый подданный короля – сколько в этом фальши! Большое сердце было у Робеспьера, у братьев Гракхов, у Спартака.
– Робеспьер был великий эгоист, принесший жизнь в жертву славе, – возразил Рутенберг.
– Какое нам дело до его мыслей перед сном в постели! Он погиб за великие дела человечества – это главное. Большое сердце было у Аристотеля, у Шекспира, у Данте, у Гегеля, у Спинозы, – о, имя им легион. Мыслители и борцы за истину, справедливость, оставившие людям щедрое наследство мыслей, целей, идей, достижений. Я хотел бы быть одним из таких в нашей эпохе. Право на жизнь оплачивается полезностью, которую мы приносим людям, и только этим. Прогресс движется работой одного для всех. Человек – не животное, чтобы жить, как немецкий филистер, греющийся в лучах золота, как свинья на солнце.
– Какой бескрайний альтруизм!
– Наоборот, эгоизм. Мне будет хорошо на идеально хорошей земле, среди счастливых, хороших людей.
– Вот и опять, верный себе, ты рассуждаешь иначе, чем я. Какая скороспелая голова и какая мощь противоречивого духа! Мое бедное сердце ты с беспощадностью людоеда водрузил, как бурую сосиску, на острую вилку своего скепсиса.
Вернувшись в Берлин, Маркс решил не прятаться в берлоге, как прозвал его комнату Бауэр, и присмотреться к столичной жизни. Мысль об издании журнала не была еще отброшена. В погребке Гиппеля на Фридрихсштрассе члены докторского клуба были не только завсегдатаями, но и заправилами. Отсюда после стакана вина молодые доценты, учителя и немногочисленные студенты отправлялись в театр либо в Певческую академию.
Карл, впервые познавший волнения и радости театра, стал неистовым приверженцем и судьей кулис. После любительских спектаклей в трирском «Казино», где завывал нестерпимо патетически Хамахер и путали реплики сестры Шлейг, после Бонна, куда изредка забредала на гастроли какая-нибудь посредственная, неумелая актерская труппа, берлинские театры производили особенно сильное впечатление на юного провинциала. Шекспир не был в чести на берлинской сцене, и Карл с досадой отмечал это, но Кальдерон и Лопе де Вега, но Мольер и Шиллер не сходили с репертуара вместе со Скрибом и Кернером.
Впрочем, главным поставщиком берлинской сцены являлся неутомимо плодовитый Эрнст Раупах. Его семьдесят пять пьес, одна другой сентиментальнее, ненатуральнее, мелодраматичнее, обрушивались на театры, как оспенное поветрие.
Но Карл терпеливо смотрел даже пьесы старого водолея Раупаха и принужден был после спектакля в погребке Гиппеля отстаивать Софокла перед этим любимцем публики. Сверстник Маркса – Альтгауз, тоже член бауэровского кружка, возражал.
– Даже постановка этого вопроса незакономерна, – говорил он сурово, с важностью вскинув длинную пупыристую шею с выпуклым перекатывающимся адамовым яблоком. – Софокл и Раупах, и более того Шекспир, одинаково хорошо выражают вечную правду справедливости, морали и нравственности и различны лишь в той мере, в какой различно время, в которое они жили и творили. Видели вы новую пьесу Раупаха из русской жизни? Чудные северные девушки, эти страшные мужики, эти богатыри-бояре, Не пьеса, а эпоха.
Маркс ощущал прилив ярости, Он знал по опыту, что Альтгауз упрям и самонадеян, как индюк, на которого похож.
– Я побью его, – шептал он Бауэру.
Вместе с Рутенбергом и Кёппеном Карл не пропускал ни одного спектакля «Фауста», он знал наизусть весь текст. Не только величие гётевской мысли, но и игра непревзойденной Шарлотты фон Хаген и ее дочерей привлекала в Королевский театр университетскую молодежь, так же как и придворных.
Образ Маргариты неотделим был для Карла от образа хрупкой Шарлотты. Одержимый неизменной любовью к Женни, Карл отыскивал и находил сходство между своей невестой и этой избалованной поклонением и удачами актрисой.
«Те же удивленные глаза, тот же лоб олимпийской богини», – убеждал он себя и награждал Шарлотту бешеными аплодисментами, от которых у Рутенберга трещали барабанные перепонки.
– Ты ни в чем не знаешь меры, Не хотел бы я испытать твою ненависть, – говорил Адольф, отнимая руки от ушей, когда занавес – пыльная багряная бархатная штора – окончательно задергивался и зрители спешили в буфет, к пиву и бутербродам.
Перед сценой безумия Маргариты большая часть дам партера и лож, знавших толк в светских правилах, подчеркивая свое целомудрие и скромность, покидали театр.
– О господин Шварц, твои заветы господствуют в Пруссии! – воскликнул Карл, когда Адольф объяснил ему, чем вызвано это бегство перед «неприличной» картиной расплаты Маргариты за падение.
Симпатией молодых членов докторского клуба пользовалась также и Генриетта Зонтаг. Чтоб попасть на ее концерт, ни один из них не отказывался заложить в ломбарде часы или скучнейшие тома учебника Неандера по истории церкви, ни один не останавливался перед тем, чтоб в дождь и в холод простоять в очереди с рассвета до полудня у кассы, ни один не жалел рук и глотки, чтоб выразить свой восторг и благодарность. Горе тем, кто отдаст предпочтение толстой, рыхлой и бледной, как макароны, итальянке Каталани перед обаятельной любимицей, уроженкой Берлина! Такой спор мог решиться поединком.
Вне спора – скрипка Паганини. Карл нередко переходил в состояние экстаза, очарованный магическим смычком.
Уже давно окончен концерт. Уже заперты тяжелые дубовые двери Певческой академии. Бруно Бауэр молчаливо играет в углу гиппелевского погребка в неизменный крейц, Рутенберг допивает вторую бутылку вина, Кёппен зубрит, окружив себя дымной завесой, индусские наречия, Альтгауз превозносит современных драматургов, а Карл все еще отдается звукам и видит перед собой длинноволосого изможденного Паганини. Его скрипка пробуждает поэта. Рифмы снова зовут к себе юношу…
Осень на исходе. Первый год пребывания в Берлине прошел. Есть особая скрытая сила в датах. Год. Карл думает о минувших сроках. Более двенадцати месяцев не видел он Женни, не гладил руки отца, не слышал незлобивого ворчания матери и не играл в прятки с младшими сестрами, не мастерил игрушек больному брату. Что сделано за это время? Не растранжирил ли он времени, не потерял ли его?
Днем некогда писать в Трир, некогда подводить итоги. Ночи в Берлине такие тихие… С вершины завтрашнего дня смотрит Карл на отошедшее вчера. Как полководец после боя, обходит он поле битвы. Да, год был для него непрерывной борьбой. Кому адресовать разговор с самим собой? Кому исповедаться? Кто поймет? Беспорядочные думы требуют формы. Мысль хочет стать словом…
Отец. С детства Карл был с ним откровенным. Может быть, потому юстиции советник первый понял незаурядную даровитость сына, может, потому многого ждал от него. Отец был всегда его другом, его поверенным. Прилив нежности и благодарности помогает Карлу начать письмо, которое, однако, более всего он обращает к самому себе. Он говорит сам с собой, механически торопливо записывая этот длинный монолог, выношенный, созданный целым годом одинокой жизни, размышлений, тоски по Женни.
«… Бывают в жизни моменты, которые являются как бы пограничной чертой для истекшего периода времени, но которые, вместе с тем, с определенностью указывают на новое направление жизни.
В подобные переходные моменты мы чувствуем себя вынужденными обозреть орлиным взором мысли прошедшее и настоящее, чтобы таким образом осознать свое действительное положение. Да и сама всемирная история любит устремлять свой взор в прошлое, она оглядывается на себя, а это часто придает ей видимость попятного движения и застоя; между тем она, словно откинувшись в кресле, призадумалась только, желая понять себя, духовно проникнуть в свое собственное деяние – деяние духа.
Отдельная личность настраивается в такие моменты лирически, ибо каждая метаморфоза есть отчасти лебединая песнь, отчасти увертюра к новой большой поэме, которая стремится придать сверкающему богатству еще расплывающихся красок прочные формы. И тем не менее мы хотели бы воздвигнуть памятник тому, что уже однажды пережито, дабы оно вновь завоевало в нашем чувстве место, утраченное им для действия. Но есть ли для пережитого более священное хранилище, чем сердце родителей, этот самый милосердный судья, самый участливый друг, это солнце любви, пламя которого согревает сокровеннейшее средоточие наших стремлений! Да и как могло бы многое дурное, достойное порицания, быть столь успешно выправлено и заслужить прощение, если бы оно не обнаружилось как проявление существенного, необходимого состояния? И как, по крайней мере, могла бы злополучная подчас игра случая и блужданий духа быть свободной от упрека в порочности сердца?
Следовательно, когда я теперь, в конце прожитого здесь года, оглядываюсь назад, на весь ход событий, чтобы ответить тебе, мой дорогой отец, на твое бесконечно дорогое для меня письмо из Эмса, – да будет мне позволено обозреть мои дела так, как я рассматриваю жизнь вообще, а именно как выражение духовного деяния, проявляющего себя всесторонне – в науке, искусстве, частной жизни…»
Карл говорит о любви к Женни, о любви страстной, всепоглощающей. Стихи, которые он послал ей почти год назад, более не кажутся ему достойными похвал, достойными той, кому предназначались. Он так вырос. С жестокостью юности, не боящейся сроков и препятствий, он отбрасывает прочь, осмеивает самого себя, вчерашнего.
Все меняется. Изменился и он. Прозорливый и требовательный, он умеет бесстрашно отречься от пройденного, может вынести приговор своим мыслям и чувствам, уже похороненным вместе с утекшими днями.
«Мое искусство было неосязаемо, как эфир, и, как заоблачный мир, нереально и бесцельно», – решает он и сжигает на критическом костре все три тома своих стихов к Женни.
«… Все действительное расплылось, а все расплывающееся лишено каких-либо границ. Нападки на современность, неопределенные, бесформенные чувства, отсутствие естественности, сплошное сочинительство из головы, полная противоположность между тем, что есть, и тем, что должно быть, риторические размышления вместо поэтических мыслей, но, может быть, также некоторая теплота чувства и жажда смелого полета – вот чем отмечены все стихи в первых моих трех тетрадях, посланных Женни. Вся ширь стремления, не знающего никаких границ, прорывается здесь в разных формах, и стихи теряют необходимую сжатость и превращаются в нечто расплывчатое…»
Карл отрывается от письма. Разбрасывая по столу, сыплет на долго не просыхающие буквы янтарный песок из песочницы. Вспоминает Эдгара Вестфалена и удивляется тому, что испытывал чувство досады и обиды, когда тот осторожно критиковал его творчество.