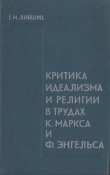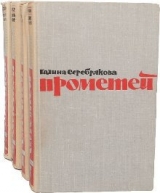
Текст книги "Юность Маркса"
Автор книги: Галина Серебрякова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 41 страниц)
– Человек свободен только среди свободных.
Фриц пропустил замечание Карла.
– Ради этого я лгу, – продолжал он, – прислуживаю пошлякам, женюсь на золотом мешке, притворяюсь. Меня не любили в школе товарищи, не любили учителя. Я не в убытке. Будь я, как ты, талантлив, умей я, как ты, работать, учиться… Мои предки были богатыми праздными виноградарями. Они зачинали детей пьяными, и мы родились слабыми, жадными и хитрыми. Что прикажешь делать без папенькиного наследства, без охоты учиться? Мне осталось выкручиваться и пробиваться. Не быть же мне всю жизнь пресмыкающимся приказчиком, чиновником, недоучкой. Сейчас время, когда можно делать дела. Была бы удача, и никто не вспомнит мелких взяток и проступков на пути к возвышению. Кто перечисляет теперь все жульничества богачей? Кому какое дело, сколько раз обсчитывал клиентов Ротшильд? Крезы – вне подозрений. Фриц Шлейг – промышленник, банкир, фабрикант. А ну, кто скажет о нем вслух «подлец»? Время за меня, за мне подобных.
– Отчасти да, – вяло согласился Карл. Он мысленно обозревал галерею типов Бальзака. Фриц становился ему скучен, как дурная копия совершенного в своей законченности портрета.
– Когда я разбогатею, – сказал Шлейг, тщетно ожидая одобрения Карла, – рассчитывай на меня. Великие люди, богатые мыслью, подобные тебе, преимущественно становятся обладателями пустых кошельков. Трир будет еще гордиться нами, господином Шлейгом и профессором Марксом.
Отсалютовав беретом, Фриц вышел из комнаты.
Карл остался наконец одни, с толстым угрюмым томом Гегеля и тремя еще не распечатанными письмами из Трира. Судя по адресу, ни одно из них опять но было от Женни.
«Я не видел все еще ее почерка, хотя знаю уже ее губы и догадываюсь об ее мыслях», – досадовал Карл.
Женни не хочет ему писать. Не верит все еще, испытывает. Милая! Сомневаться в своем счастье надо ему, Карлу, а не ей. Нельзя не любить Женни. А можно ли любить его?.. Сомнения одолевают Маркса, но ненадолго. Уверенность во взаимной любви отгоняет беспокойство.
Медленно Карл перебирает письма родпых. Почерк отца, ровный, неколеблющийся, разборчивый. Мать пишет нетерпеливо. Брюзгливо-неспокойные буквы расплываются, торопятся. Мысль ее одновременно стремится к больному Эдгару, к неизменным пряничкам, к заботам о приданом дочерей. Зато Софи – рукодельница, точно вышивает на бумаге пером.
Маркс погружается в эту добычу. Он снова в Трире. Снова отец делится с ним своими честолюбивыми надеждами:
«Я надеюсь, мой сын, дожить до дня, когда твое имя прогремит и слава увенчает тебя».
Карлу хочется подтрунить над стариком, вышутить его отцовский эгоизм, но отец так преждевременно дряхл, так устал. Что ж, пусть доживает век в надежде увидеть имя своих предков возвеличенным. Юстиции советник подмечает улыбку в глазах сына и старается оправдаться:
«Я знаю, честолюбие мое – признак слабости, эгоизма, пустого тщеславия. Но я верю в тебя и в твое будущее. С такой ясной головой ты не заблудишься в мире и, – старик мечтает, – добьешься карьеры легче, чем твой отец».
В этот раз письма из Трира посвящены Женни. Генрих Маркс перенес на нее любовь, которую он питает к сыну. Карл трепетно, подолгу перечитывает каждую строчку, относящуюся к невесте. Как отнеслась Женни к его стихам? Она заплакала… Так пишет Софи. Отчего? От волнения, радости, утвердившегося доверия?
«Я заслужил безграничное доверие твоей Женни. Но добрая, милая девушка непрерывно мучается, боится повредить тебе, боится довести тебя до переутомления, – пишет в одном из писем юстиции советник. – Она сама себе не может объяснить, каким образом она, считавшая себя вполне человеком рассудка, могла так увлечься…»
«Женни любит тебя, – успокаивает его Софи. – Если разница лет причиняет ей горе, то это только из-за ее родителей. Она будет теперь постоянно подготавливать их; затем напиши им сам; они ведь тебя очень ценят. Женни часто нас навещает. Еще вчера она была и, получив твои стихи, плакала слезами счастья и боли. Наши родители и братья любят ее сверх всякой меры; раньше десяти часов ей не позволяют уходить от нас, – как это тебе нравится? До свидания, милый, добрый Карл, прими мои самые сердечные пожелания исполнения твоих самых сердечных желаний…»
Карл не торопится вскрыть последний конверт. Нежность, проявляемая сестрой и стариком к Женни, невольно сближает и его с ними. Нараставшее в последнее время отчуждение сглаживается. Пусть отец – человек минувших дней, но какое, однако, чуткое сердце, какое стремление понимать сына проявляется в каждом его поступке, в каждой его строчке, каждом слове!
«Как, однако, он любит меня… нас!» – еще раз говорит себе Карл и решает отныне писать в Трир чаще. Письма, университетские да литературные удачи – единственное, чем он может вознаградить отца за Женни, за его всегдашнюю готовность, стремление быть другом, советчиком своему сыну.
«Забота о Женни главным образом заставляет меня так желать, – пишет Генрих Маркс, – чтобы ты уже скоро успешно выступил на жизненном поприще, потому что это дало бы ей покой; так по крайней мере я думаю. Я заверяю тебя, милый Карл, что без этого соображения я пытался бы в настоящее время скорее удержать тебя от всякого выступления, чем пришпоривать. Но ты видишь, что волшебница несколько сбила с толку и мою старую голову, а я прежде всего желаю видеть ее спокойной и счастливой. Это можешь сделать только ты, и цель заслуживает всего твоего внимания, и, может быть, хорошо и полезно, чтобы немедленно по вступлении на жизненное поприще ты был вынужден обнаружить внимание, даже рассудительность, осторожность и зрелый рассудок, несмотря на всех демонов. Я благодарю за это небо, так как всегда буду любить в тебе человека, а ты знаешь, что я – практический человек – в то же время далеко не так очерствел, чтобы притупить в себе восприятие всего высокого и доброго. Тем не менее я нелегко отрываюсь от земли, на которой нахожу опору, нелегко уношусь в воздушные сферы, где у меня нет почвы под ногами.
Все это заставляет меня, конечно, в большей мере, чем я бы это сделал в иных условиях, подумать о средствах, имеющихся в твоем распоряжении. Ты обратился к драме, и во всяком случае она заключает много истинного. Но с ее значительностью, с ее большою наглядностью соединяется, естественно, также опасность неудачи. И не всегда, особенно в больших городах, решающей оказывается внутренняя ценность. Интрига, коварство, ревность, – может быть, тех, которые к этому всего ближе, – часто перевешивают ценное, особенно когда последнее не поддерживается известным именем.
Что было бы, таким образом, всего разумнее? Попытаться по возможности предпослать этой большой пробе меньшую, которая но была бы связана с такой опасностью и была бы настолько значительна, чтобы дать в случае успеха известное имя. Если это должно быть достигнуто при помощи небольшого сюжета, то тема ее, сюжет, обстоятельства должны заключать в себе что-либо исключительное. Я долго искал такой сюжет, и следующая идея кажется мне подходящей.
Сюжет должен дать эпоху, вырванную из прусской истории, – не такую последовательную, как этого требует эпопея, но сжатый момент, который, однако, решает судьбы.
Он должен быть почетен для Пруссии. Нужно выделить, подчеркнуть известную роль гения монархии – во всяком случае, в лице весьма благородной королевы Луизы.
Такой момент представляет собой великая битва при Бель-Альянс-Ватерлоо. Опасность громадна – не только для Пруссии и ее монархии, но и для всей Германии и т. д. и т. д.
Пруссия в действительности сыграла здесь решающую роль, следовательно, это может быть ода большого стиля или что-нибудь иное, в чем ты понимаешь больше меня.
Трудность была бы сама по себе не слишком велика. Самое большое затруднение заключалось бы, во всяком случае, в том, что нужно вместить большую картину в маленькую рамку и удачно и ловко схватить великий момент. Но обработанная патриотически, с чувством и в немецком духе, такая ода была бы достаточна, чтобы создать славу и укрепить имя…»
Наступила весна. На Старо-Лейпцигской улице, где жил Карл, стало непроходимо грязно. С крыш на дурно выложенную плитами мостовую стекала по трубам серая жижа, пахнущая птичьими гнездами, сырой соломой, котятами. Домохозяйки неистовствовали во дворах, выколачивая ковры и матрацы. Пыль плотной массой врывалась в открытые окна.
Так бывало и в Трире в предпасхальные дни. Карл вдыхал раздувающимися ноздрями знакомые запахи, последние воспоминания уходящей зимы.
Прислуга, мать солдата, посоветовала Карлу с утра выйти на прогулку. В канун пасхи наступали страшные дни расправы с плюшевыми гардинами, жесткими лестничными дорожками, перинами, креслами и обитыми сукном столами. Приближались великие часы генеральной уборки квартир, к которой готовились месяцами берлинские хозяйки.
В полдень нашествие уборщиц, вооруженных палками, метлами, ведрами, в фартуках от подбородка до полу, в рогатых непроницаемых чепцах, действительно обратило Маркса в бегство. Он стремглав сбежал с мокрой лестницы, рискуя сломать себе позвоночник о банки с мастикой для полов и задохнуться от вони заготовленного табачного раствора. В поисках свежего воздуха и весны он пошел в Тиргартен но узким каменным улочкам, мимо зловонных водостоков, по которым, визжа от восторга, шлепали босоногие дети.
Весна тревожила, беспокоила. Город был возбужден. Какая-то Ксантиппа в глухом тупичке, перегнувшись через подоконник, выливала помои вслед бегущему супругу. Изо всех окон вырывалось на улицу пение канареек, чижей, которым приветливо отвечали вольные воробьи, клюющие сухой навоз.
В Трире на Брюккенгассе уже готовились к празднику… Карл ощутил тягостный приступ тоски, порожденной одиночеством. Весной особенно грустно быть одному.
Бывало, накануне пасхи Карл отправлялся в трирское гетто. Еврейский праздник предшествовал лютеранскому. В доме дяди Якова пекли мацу и фаршировали рыбу к сейдеру{Вечерняя обрядовая трапеза в дни пасхи.}. Гетто принаряжалось. На Брюккенгассе красили яйца и жарили поросенка. Карл приносил домой мацу и заедал ею узкие ломтики пасхальной свинины.
– Бог у всех один и тот же, – снисходительно говорили тетки.
– Святотатство! – негодовала Генриетта в трепетном ожидании божьей кары.
В Тиргартене, куда, вспоминая родной дом, забрел Карл, несмело распускались рахитичные, уже пыльные почки на низких деревцах. Липы стояли еще оголенные. Ветер гнал по аллеям песок, ловко целясь и запуская его в глаза прохожим, Молодой студент разочарованно оглядел этот жалкий оазис и свернул на Унтер-ден-Линден, намереваясь зайти в ресторацию выпить кофе с хрустящим прославленным безе и просмотреть газеты.
Он миновал, замедлив шаги, кондитерскую Кранцлера, излюбленное пристанище офицеров королевской гвардии. Как всегда, за столиками у больших окон расфранченные гвардейцы с неповторимо бравыми усами и напомаженными бакенбардами вознаграждали себя после маршировки фисташковым мороженым, кофе с ликерами и пирожными. Они охотно показывали себя прохожим, лихо оправляли мундиры, небрежно-медленно отстегивали шпаги и клали их подле себя.
Маркс, глянув в большие стекла кондитерской, тотчас же представил себе, что именно обсуждают столь оживленно, о чем говорят эти годные украсить любую витрину разодетые куклы. Лошади, собаки, балетные дивы, фасон сапог и отделка ружья – вечная тема их бесед, их ссор, признаний, дуэлей.
Гвардейские мундиры затмевают штатский фрак, и несколько щеголей, ежевечерне посещающих кондитерскую Кранцлера, едва различимы в глубине зала. Их тоже насквозь пронизывает, разгадывает точный глаз Карла, и они его тешат. Стремясь прослыть денди, молодые дворянские отпрыски, атташе посольств, проживающие без оглядки свои доходы, всем своим разочарованным видом – потухающей сигарой в тонкой руке, с одним перстнем на мизинце, замедленной жестикуляцией, безукоризненным жилетом и не слишком блестящей булавкой в галстуке, – всем своим поведением они демонстрируют прохожим пресыщение и губительную скуку. Им в отместку, ухарски развязные толстощекие гвардейцы щеголяют позами героев.
Между Кранцлером и рестораном Кобланка, где всегда собрана на страже вся берлинская пресса, находится кондитерская Фукса, куда стремится каждый провинциал, чтоб самому увидеть и самому описать родным это прославленное, бесспорно аристократическое заведение.
Однажды Фриц привел к Фуксу Карла. Роскошь, так поразившая Шлейга, произвела, однако, на Карла самое отталкивающее впечатление. Стены одной из комнат были сплошь зеркальные. Фриц, падкий до всего кричащего, блестящего, предложил занять в ней столик.
– Не правда ли – королевский зал! – сказал он и принялся вслух мечтать о том времени, когда в собственном своем особняке сможет выложить зеркалами одну из гостиных.
В зеркальном зале кондитерской Фукса было многолюдно. Десятки багровых рож, десятки животов, вдавленных и выпуклых, украшенных золотыми цепочками и брелоками, десятки ртов, жадно пожирающих сладкое тесто.
– Да здесь ни одного человека! – вдруг засмеялся Карл. – Смотреть же на этот набор жевательных машинок, да еще видеть их в удесятеренном и более того количестве, не иметь возможности отдохнуть от них, вперив глаза в безликую стену, – нет, благодарю покорно!
Он потащил Фрица прочь. Они попали в следующий зал, убранный в стиле швейцарского домика. Тщетно дожидаясь кофе, Карл рыскал глазами по столам в поисках газет.
У Фукса можно было найти лишь давнишний номер какого-нибудь иллюстрированного журнала, и ничего больше. Для глаз и души здесь заготовлена иная пища – то, что Фриц именует неопределенным, импонирующим ему словом «роскошь».
– Аристократы любят скучать в тишине, – пояснил Шлейг.
…Миновав Фукса, Карл дошел до кондитерской Спаргнапани и вошел внутрь. У стены он нашел столик с мраморной доской и, усевшись, потребовал кофе и газеты. Он быстро перелистал благонамеренно-унылую «Прусскую государственную газету», реакционного, всем довольного «Гамбургского корреспондента» и отложил, не читая, «Военный листок».
Описания парадов, королевских выездов, биржевые отчеты перемежались там с краткими иностранными корреспонденциями, которые более всего интересовали молодого студента. Но об английских событиях, о прениях в палате, о возмущении бирмингемских рабочих почти ничего не сообщалось в тщательно цензурованной прессе, и Карл, разочарованно отложив кипу газет, затребовал парижский «Шаривари», чтобы отдохнуть на злых карикатурах и остроумных недомолвках.
Кондитерская Спаргнапани была тесна, мрачна и душна и собирала посетителей скорее как общая читальня. Она не имела отчетливого политического лица, и на столах можно было найти газеты самых разных направлений. У Спаргнапани пили кофе, заедая его пирожными со взбитыми сливками, купцы, осведомляясь после каждого глотка и следующей за ним затяжки сигарой или трубкой о новом курсе железнодорожных акций.
Мальчики в красных кафтанчиках с золотыми эполетами приносили для них последние бюллетени биржи, Торговцы и спекулянты назначали тут друг другу свидания, чтоб обсудить условия купли, продажи и какой-нибудь новой сложной спекуляции. Впрочем, их меньше было среди посетителей Спаргнапани, чем у швейцарца Куртина, где прочно утвердился бог коммерции. Иногда к Спаргнапани забредал несведущий гвардейский лейтенант, звеня шпорами и саблей, и со скучающей миной в ожидании парада перелистывал иллюстрированный еженедельник.
Студенты и профессора ожидали тут часа семинарских занятий, чиновники – минуты открытия канцелярий, Портреты живых и покойных королей – в полной форме и во весь рост – подчеркивали почтение к прусской военной иерархии и подслащивали кофе старому вояке 1813 года. Сам хозяин неизменно находился в зале, но ухаживал самолично только за публикой не моложе пятидесяти лет.
Невзирая на подагру, артрит, ревматизм, они ежедневно приходили пить свой кофе, брюзжать и осуждать современное поколение. Появление студента вызывало их беспокойство, как сквозняк 4Они приподнимали головы, морщились и требовали тишины, которую сами нарушали кашлем, злобными замечаниями и хлопанием дверей.
Бывали тут старики и иной породы. Поклонники Гёте и Новалиса, изысканные кавалеры, зараженные скептицизмом Вольтера, баловни, проедающие поместья и капиталы. Их было немного, как немного уже было представителей старого пруссачества, живущего заветами Фридриха Великого и тоской по косичке. Это были старые скептики. Они никогда не смотрели на жизнь сквозь лепестки изменчивой романтической розы и с упрямством пушек защищали принцип полновластного монархического управления против шумного режима конституционных стран.
Господин Спаргнапани в особенности стремился завоевать их расположение, но, понимая, что тишина и старческая скука наносят вред также и коммерции, рад был и молодежи и отпускал студентам при случае кофе в кредит. Он любил похвастать тем, что Гейне однажды съел подряд шесть штук его знаменитых безе с шоколадной прослойкой… Но Гейне был нечастым гостем у Спаргнапани.
Пресытившись молчанием и тщетным выискиванием в толпе знакомых лиц, Карл заплатил за кофе и, стараясь не шуметь, пробрался к выходу. Старики проводили его осуждающими взглядами, шепотом выбранив вольнодумство Берлинского университета. На улице Маркс долго стоял в раздумье. Куда пойти? Темнело. Зажигали фонари.
– К Стехели, – ответил за него профессор Ганс.
Счастливое совпадение столкнуло их вместе на углу Унтер-ден-Линден. Молодой профессор, как всегда, блистал изяществом, довольством, улыбкой. Карл присоединился к нему, и они пошли на Жандармский рынок в ресторан, являвшийся полной противоположностью благонамеренному Спаргнапани.
– Там будут наши, – сказал Ганс.
Маркс догадался, что профессор имел в виду также и Бруно Бауэра.
– Отличный случай узнать Бауэра поближе.
– Рекомендую. Это один из интереснейших людей, выдвигаемых нашим временем. Он идет походом на бога. С увлечением и мужеством он борется с теологами и наносит им все новые удары, раскрывает один за другим все их секреты, уничтожает предрассудки.
– Противопоставляя богу бога?
– Богом станет человек.
– Лестно для нас. Раньше бога пытались очеловечить, теперь обожествляют человека.
– Ого! У вас недоверчивый, острый, не спокойный ум, мой юный друг. Со временем вы можете стать очень сильным в диалектике, – говорит Ганс раздумчиво. – У Бауэра много оригинальности, но, по правде говоря, я юрист, и небесные дела занимают меня сейчас в последнюю очередь, Читаете ли вы Гегеля?
– Да. Читал «Феноменологию духа», по говорить об этом еще рано. Признаюсь, меня отпугивает это нагромождение мыслей величественных, но но всегда удобоваримых.
Ресторан Стехели состоял из четырех небольших комнат и напоминал Карлу трирское «Казино» каким-то неуловимым семейным уютом, обжитостью. Даже запахи в нем были какие-то домашние, знакомые Марксу с детства. Подобно завсегдатаям «Казино», здесь все посетители знали друг друга и, отдыхая, спорили, шумели, как дома.
Едва Ганс появился на пороге, опередив Карла, – несколько человек в бархатных блузах с огромными бантами а 1а Латинский квартал подняли в его честь кубки.
– Это актеры из соседнего театра, – пояснил Ганс и ответил им античным приветствием и низким поклоном.
Карл прошел в «красную комнату», обитую багровым репсом. Несколько неутомимых журналистов трудились над статьями, не замечая сутолоки и с удовольствием вдыхая густой табачный дым. Неизменный приверженец Стехели, Эдуард Мейен углубился в чтение «Ежегодников научной мысли», настойчиво жуя вместе с устаревшей мудростью большой, песочного теста, пряник.
Ганс – истый берлинец, издавна знавший посетителей «красной комнаты», помогал Карлу ориентироваться среди новой обстановки и людей:
– Это Мейен, Эдуард Мейен, которому Берлин кажется центром мира и бытия. Я знаю его давно и насквозь. Ему присущ налет особой берлинской пресыщенности. Нельзя отказать ему в некотором багаже эстетических знаний. С недавних пор он воображает, что живет в гуще социального и политического движения. Боюсь, что это больше ему кажется. Он тоже вышел из гегелевской школы и прошел все фазы, начиная от той поры, когда нас возносили, до того момента, когда к нам, молодым, начинают относиться с некоторым подозрением. Как большинство, он сильнее в критике, чем в творчестве… Сейчас он мечтает о журналистике. Не далее как вчера он объяснял мне, что только в ней начало нового мира… Все же это не худший из молодых. Он меньше иных витает в абстрактном мышлении, и ему близки живые порывы.
Карл внимательно слушал.
– Добрый вечор, профессор! – окликнул кто-то Ганса.
– А, Шмидт! – обрадовался тот.
Маркс не знал Шмидта, писавшего под псевдонимом Макса Штирнера, и, не желая мешать беседе двух приятелей, отошел к окну и сел у стола, продолжая с интересом обозревать комнату.
Вскоре Ганс вернулся, и Карл мог снова удовлетворить свое любопытство и многое узнать о людях, сидевших вокруг, которых знал лишь понаслышке и видел впервые.
Ганс терпеливо отвечал на его вопросы.
– Это Людвиг Буль. В его слабом тельце живет неукротимый, сильный дух.
– Насколько я знаю, Буль – человек больших знаний. Образование доставит ему одно из первых мест на столбцах северогерманской прессы. Я читал его статьи. Нужно, однако, учесть, что прусская публицистика не вышла еще из детского возраста: спеленатая, она совершенно беспомощна и растет калекой. Как прав был Бёрне, когда, высмеивая мероприятия Союзного сейма, терроризирующие нашу печать, говорил: «Где нет ничего, там и король теряет свои права!» – заметил Карл.
– Вы судите смело и верно, – согласился Ганс, снова удивленный знаниями и верными, отважными суждениями юноши.
Оба закурили сигары, молча осматривая входящих и выходящих.
С шумом ворвалась в комнату компания иностранцев. Долго выбирая место, они наконец сбились в углу, подло газетного столика, и принялись бесцеремонно перетаскивать и сдвигать воедино маленькие квадратные столики. После долгой суеты наконец расселись. Короткий толстый мужчина с гладкой бородкой, остриженной колом, «под Генриха IV», в сборчатом «под Гегеля» берете-колпаке, потребовал ужин и рейнского вина. Он был хорошо знаком кельнерам и, судя по их угодливости и старательности, Щедро оплачивал услуги. Пир обещал быть на славу. Беседа становилась возбужденнее. Все отчетливее звучала французская, перебиваемая немецкими выражениями, речь. Имена Сен-Симона, Ламенне, Жорж Санд перемешивались с Гегелем, Штраусом, Гейне.
– Русские, – процедил, выразительно поджав губы, Ганс. – Только они умеют в течение часа навести такой беспорядок, произнести такое количество слов и с чисто варварской самоуверенностью смешать все понятия, все категории.
– Этот толстяк, вытирающий нос платком – трехцветным французским флагом свободы, – верно, какой-нибудь лендлорд? – заинтересовался Карл.
– За границей он ярый монтаньяр. В своих поместьях изверг и деспот. Впрочем, это не только русская черта, Наши помещики, не говоря о французах, только более прилизанные филистеры.
Появившийся из-за портьеры Шмидт-Штирнер таинственными знаками вызвал Ганса.
– До свидания! Друзья ждут меня рядом, – сказал профессор дружелюбно.
Карл остался один. Русские продолжали привлекать его внимание, Он пересел поближе к газетной стойке. Один из студентов, окружавших быстро пьянеющего северного барина, узнал Маркса – вместе посещали семинары, – потащил его к столу.
– Просим! Здесь все единомышленники, все братья.
Карла толкнули в оживленную толпу и заставили поднять тост за низвержение тирании.
– Я бабувист, я отчаянный безбожник! – вопил русский барин.
Его не слушали. Желчный молодой русский студент патетически читал стихи на своем родном языке. Для Карла впервые прозвучало имя Рылеева. Ему рассказали бессвязно о декабрьских событиях, случившихся двенадцать лет тому назад.
– Это могло стать революцией, – вздохнул желчный студент.
Маркс попытался завести разговор о польском восстании. Он хорошо знал подробности.
– О, Сованский – герой! – согласился русский помещик, которого одни звали «граф», а другие – «Яшка».
Карлу шепнули, что у «Яшки» несколько сотен рабов и большие связи при царском дворе.
– Что сделали вы, господа революционеры, для спасения польской республики, для помощи делу Сованского? – вдруг в упор спросил Маркс русских. Лицо его стало злым, глаза сузились.
Желчный русский студент удовлетворенно усмехнулся.
– Мы, – ответил он, – мы собирались в своих особняках, читали Шеллинга и Оуэна, прорицали, как Якоб Бёме, и пили, находя разрядку в алкоголе для не находящего иного применения и мучившего нас энтузиазма.
– Лучшего времяпрепровождения не мог бы придумать для вас сам русский царь. Вы потопили в болтовне и вине свободу, – сказал Маркс презрительно.
Он сам тут же удивился тому, что не совладал с собой и начал говорить в открытую с этими болтунами, для которых великие идеи – забава, маскарадное домино.
Между тем русский граф с нескрываемым восхищением посматривал на разгоряченное лицо молодого трирца.
– Клянусь! Из этого парня выйдет толк. В нем искра божья. Как его подмыло, будто и не немец! – Последнюю фразу он произнес по-русски. – Mon cher, вот моя визитная карточка, буду рад вас видеть. Мы поговорим подробнее, и, может быть, вы поймете меня.
– Отпусти мужиков на волю, – упрямо потребовал кто-то.
– Не только отпущу, но устрою сен-симонистскую общину, на удивление всей империи.
– Врет! Он всегда щедр, когда получает последний оброк, – пояснил Марксу желчный русский, изучавший юриспруденцию в Геттингене.
Карл встал и, стараясь остаться незамеченным, выбрался в маленький соседний зал. По дороге он бросил в корзину для сора визитную карточку помещика.
В «красной комнате» русские горланили песенки Беранже. Кельнеры, изгибаясь и как бы кланяясь во все стороны, тащили на пир подносы с жареным мясом и винами. В маленьком зале, где очутился Карл, было очень тихо и до одури накурено. Два шахматиста с мрачными лицами убийц готовились нанести друг другу смертельные удары. Выжидали, как два хищника. Карл любил игру в шахматы и остановился над доской. Наконец смертельное напряжение разрядилось. Мат был объявлен. Партия кончилась.
Кто-то кашлянул. Карл обернулся. Поодаль, за зеленым столом он увидел Ганса. Профессор сидел напротив Бруно Бауэра, рядом с большелобым Шмидтом и молодым человеком незапоминающейся наружности. Глубокое молчание господствовало и тут. Глаза сидящих были прикованы к столу. Карл не сразу разобрал, что поглотило внимание молодых ученых.
Так сидеть могут разве что военачальники, изучающие карту расположения сил противника, так сидеть могут врачи, прежде чем вынести диагноз-приговор больному, так сидят за карточным столом игроки. По сосредоточенному спокойствию и медленности темпа Карл догадался, что играли в изнуряющий крейц. Бруно Бауэр казался более других углубленным в размышления. Он нервно перебирал карты, подсчитывая козыри.
Суровая морщина, знакомая Карлу по лекциям об Исайи, когда молодой доцент призывал бога опровергнуть разоблачения неба, раскалывала надвое лоб ученого. Острый подбородок выпирал вперед. От трубок игроков поднимались густые, остро пахнущие клубы дыма. Карл со все возрастающим изумлением наблюдал молчаливую сцену карточного сражения. Он не любил картежной игры, ощущая нестерпимую скуку при виде людей, столь поглощенных никчемным, тупым занятием. Но, заметив, что готов осудить Ганса и Бауэра всегда чутко наблюдающий за собой юноша тотчас же прервал себя суровой мыслью:
«Почему я готов, как гнусный филистер, судить их? Пусть развлекаются, как хотят. Почему пить, протыкать на дуэли противника благороднее, чем играть в карты? Кто судьи? Ханжи. Я не хочу быть с ними. Человечеству нет вреда от того, что Бауэр отдыхает за картами. Следи за собой, Карл, бойся глупого дидактизма».
Ганс тасовал старательно карты. Бруно Бауэр вытащил нитяной кошелек и, развязав его, достал деньги. Он проиграл, Карл тихонько вышел из зала. В главном помещении играла музыка. Несколько женщин, редких посетительниц, вызывающе курили и слишком громко смеялись. Карлу все они показались грубыми, порочными, отталкивающими. Ожидая у вешалки плащ, трость и шляпу, Маркс в фатоватом молодом человеке, одевающемся рядом, узнал Шлейга, которого давно потерял из виду.
После возвращения из Швейцарии Фриц избегал земляка. Уйдя из университета, он вообще изменил образ жизни.
«Растиньяк с берегов Мозеля» выглядел еще более самоуверенным, разжиревшим, довольным собой. Бакенбарды его были завиты по последней моде мелкими кудряшками, и прическа свидетельствовала о том, что на нее не жалели жасминной помады. Поверх модного, вышитого звездочками жилета болталась тонкая изящная цепочка от часов. Все кричало о преуспевании – и чистейшие лайковые перчатки, и блестящие узкие штиблеты, и запах розовой воды, пропитавший фрак, собственный, сшитый на заказ фрак. А не так давно Фриц брал фрак напрокат… Было очевидно, что Шлейг навсегда расстался со студенческим мундиром и бежал от университетских строгих стен.
– Я занимаюсь наконец делом, соответствующим моему призванию, – сказал Шлейг многозначительно, выпустив Карла из объятий. – Я человек активный и веселый. Наука не терпит ни того, ни другого. Берлинский университет убил бы меня, как чахотка. Нет тебе ни доброй попойки, ни настоящих дуэлей, ни лихих ночных дебошей. Поголовное трудолюбие, заглядывание под облака, – нет, это не мое дело! Спасибо, старина, я пресытился.
– «Ах, весна, ах, весна, пенится кровь и болит голова!..» – Распевая песню, Карл и Фриц вышли из ресторации и пошли по пустому Жандармскому рынку.
– В этом унылом городе некуда идти, если хочется света звезд, а не газовых рожков, – вздыхал Карл.
Взявшись под руки, вспоминая Трир, товарищи детских игр шли к Тиргартену. Была полночь. Перекликались башенные колокола, стучали глухо ночные сторожа. Город давно спал. После десятого удара часов, прозванного бюргерским, редкий прохожий появлялся на улицах.
Наполняя воздух свежим горьковатым запахом, лопались почки лип на Унтер-ден-Линден. Карлу хотелось подробнее выспросить о Швейцарии, но Фриц долго уклонялся от рассказов. Швейцария не произвела на него никакого запоминающегося впечатления.
– Тоже страна! – говорил он вяло. – Снег да коровы. Сонное царство, этакое живописное болотце. Рай для старых дев и рантье. Торгуют разве что воздухом и видами. Нет, больше я туда не ходок! Были мы там с Паулем. Этот парень богат, как Мефистофель, чудаковат, как Фауст, и неутомим в поисках Маргариты, то бишь революции.