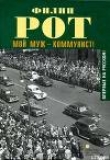Текст книги "Моя мужская правда"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
В той, прошлой, жизни он тоже испытывал страдания и боль – от разрывов и отчужденности, от непонимания и разочарования, от несоответствия мечты и реальности, от противостояния с теми, кто его любил. Страдания и боль были ему знакомы; наверное, он их заслуживал. Как выражался мистер Ц., кто ищет неприятностей на свою задницу, тот их на нее находит. Вещие слова! Но те страдания и та боль, которые он знал в той жизни – дома, в школе, в колледже, – были периодическими, они приходили и уходили. Теперь же страдание стало постоянным, а боль – непреходящей. Сама жизнь оказалась круто замешана на боли и страдании. Такого он не испытывал, такого он и вообразить не мог – даже глядя на одухотворенное горечью лицо Вирджинии Вулф, чья фотография красовалась у него над письменным столом, даже работая над выпускным исследованием о скрытой тенденции к саморазрушению в ее романах. Благодетельная ошибка то ли военной администрации, то ли провидения, забросившая его в штат Кентукки вместо города Сеула, оказалась последней их ошибкой. Больше послаблений не будет. Время получать и время расплачиваться за все на свете; наступила такая пора и для него, и он начал платить. За тщеславие и незнание, за острый язык и легкую ранимость, за духовные искания и плотские желания, за мальчишескую слабость и мужскую силу, и разумеется, дороже всего – за дух противоречия и высокомерие. Так вот что пытался отец внушить сыну книгой Дейла Карнеги: «Покажешь людям, что ты лучше их, Натан, – станешь изгоем, все тебя будут ненавидеть»… Вот чего хотел он от юного Цукермана. Скромности и смирения. Плюс кое-чего еще. И Натан начал это понимать.
Но тут – другая история, и она совсем о другом человеке, ином Цукермане. И юдофобские забавы капитана Кларка, играющего в гольф с его носом, и семнадцатилетняя Шерон Щацки, устраивающая «филадельфийские игры» с кабачком цуккини в духе Пляс Пигаль, окажутся на поверку столь же трогательными эпизодами милой юности, как чаепитие с крекерами в саду Керолайн Бенсон. Повествование о страданиях иного Цукермана в поисках родственной души куда более серьезны, чем эти истории, больше всего похожие на сказку о беспечальных днях роста. Молодо-зелено. Хроника злоключений, пережитых иным Цукерманом на третьем десятке, потребует куда большей глубины, более мрачной иронии, более вдумчивого анализа – вообще совершенно другого тона… Или совершенно другого автора, который сумел бы написать про все про это юмореску размером в пару тысяч слов. Точно, так оно лучше было бы. К несчастью, тот автор, который есть, пережив схожие злоключения примерно в том же возрасте, что и его герой, сейчас, приближаясь к сорока, не видит весомых причин ни для особой краткости, ни для особой веселости. И даже затрудняется определить, к чему именно следует отнести выражение «к несчастью».
НАКЛИКИВАЮЩИЙ БЕДУ, ИЛИ НЕ НА ШУТКУ ПЯТИДЕСЯТЫЕ
Нет, мое супружество не было обусловлено банальными причинами, как это происходит в большинстве случаев. В тривиальности никто меня не упрекнет. Я женился не из боязни одиночества, не «спутницу жизни» искал, связывая себя узами брака, не кухарку, не компаньонку на старость лет, и уж точно мое решение не имело никакой связи с потерей интереса к представительницам противоположного пола, свободным от семейных обязанностей. Не так уж важно, что вы там думаете, но в данном случае речь не идет и о чувственном влечении к конкретной персоне. Как раз наоборот. Хотя избранница была на первый взгляд вполне привлекательна: крепко сбитая особа нордического типа с голубыми, уверенно смотрящими на мир глазами – я восхищался ими и называл про себя «морозными». Волосы прямые, челка цвета спелой пшеницы; довольно милая улыбка; манящий, естественный смех… Но при этом она была сложена, как лилипутка, и это ни в коей мере меня не возбуждало. Особенно отвращала от похотливых мыслей походка – тяжелая, неуклюжая, а при достижении определенной скорости наводящая на мысли о скатывающемся по склону бревне.
По-моему, так передвигаются пастухи и матросы. Когда она спешила мелкой трусцой мне навстречу по какой-нибудь из чикагских улиц, я по мере сближения все сильней ощущал омерзительность и невозможность любого физического контакта с этим телом, не говоря уже о соитии (а мы, между прочим, к этому времени стали любовниками).
Лидия Кеттерер была старше меня на пять лет, в разводе; ее десятилетняя дочь жила у отца, обустроившего очередную семью где-то в новом районе на южной окраине Чикаго. Этот крупный, атлетического сложения тип завел в годы жизни с Лидией такой обычай: если жена лезла с неуместными вопросами или, не дай бог, выражала сомнение в разумности его поступков и решений, он хватал ее в охапку и обрушивал на ближайшую стену. После развода он тотчас подал на Лидию судебный иск с обвинением в неправильном воспитании дочери (ребенку было шесть лет). От всех этих переживаний миссис Кеттерер сорвалась и попала в больницу; бывший муж забрал дочку на время к себе, да так и не отдал.
Кеттерер не был первым мужчиной, калечившим Лидии жизнь, – первым был собственный отец, совративший ее еще двенадцатилетней. Мать, едва родив Лидию, оказалась практически неподвижна, причиной чему, как выяснилось, послужил обычнейший радикулит, но его сопровождала такая общая слабость, что больная ежеминутно ждала смерти. Наскучив всем этим, отец исчез. Лидию взяли к себе на воспитание две незамужние тетки, жившие в Скоки. Она (до тех пор, пока в восемнадцать не сбежала с Кеттерером) обитала у них в комнатенке неподалеку от гавани, в районе, гордящемся именами таких выдающихся личностей, как летчик Линдберг[35]35
Линдберг Чарлз Августин – американский летчик, первым в 1927 г. перелетевший в одиночку из Нью-Йорка в Париж.
[Закрыть], сенатор Билбо[36]36
Билбо Теодор Гилмор – американский политический деятель, сенатор-демократ, известный своими расистскими убеждениями и демагогической риторикой.
[Закрыть], священник Колин[37]37
Колин Чарльз Эдвард – католический священник, одним из первых начавший использовать радио для проповедей широкой аудитории.
[Закрыть] и патриот Джералд Л.-К. Смит[38]38
Смит Джералд Л.-К. – радикально настроенный баптистский священник.
[Закрыть]. Жизнь состояла в основном из мелочей, мелким было все: и наказания, и унижения, и измены, и провалы – и я, несмотря на свое нежелание, тоже был втянут в эту мелочную жизнь.
Что и говорить, мои жизненные принципы, воспитанные на преданности семейным традициям и идеалам, не имели ничего общего с ее жизненным опытом. Лидия помнила тысячу и одну ночь втирания противорадикулитной мази в дряблую спину своей матери – я же не мог припомнить и одного случая, когда бы моя отказалась от исполнения ничтожнейшей из домашних обязанностей. Может быть, даже наверняка, иногда она бывала не в настроении, но, не подавая вида, все равно с внешней беспечностью бесподобно насвистывала попурри из мюзиклов, за целый день, наполненный уборкой и стряпней, ни разу не повторяясь. С кем приходилось возиться, так это со мной: дифтерия, ежегодные острые респираторные заболевания, изматывающие моноцитарные ангины, немыслимая аллергия на все на свете. До наступления половой зрелости я провел в постели под одеялом или на софе в гостиной под теплым пледом ничуть не меньше дней, чем за партой в школе, а мать все себе посвистывала («миссис Цукербёрд[39]39
Цукербёрд – сахарная птичка (евр.—англ.).
[Закрыть]» называл ее наш почтальон), и наваливающиеся заботы придавали ее концертам только особенную выразительность. Отец, пусть и не такой жизнерадостный человек, куда более склонный к меланхолии, чем мать, эта неунывающая «сахарная птичка», был неколебимо стоек в любых жизненных коллизиях и бесстрашно встречал трудности и горести, уготованные нашей семье судьбой: экономическую депрессию, болезненность сына, необъяснимые браки моей старшей сестры Сони (вне семьи – Санни). Она выходила замуж дважды и в обоих случаях – за сицилийцев; первый ее муж был уличен в растрате и покончил собой, а следующий оказался честным в делах тупоголовым пошляком; мы прозвали его «недоделанный», и прозвище довольно точно отражало действительность. А каково приходится семье, в которой зять – недоделанный? Это ли не горе?
Конечно, белой костью нас не назовешь. Но и третьесортной семья не была. Респектабельность – и подтверждения этому находились ежедневно – не определяется социальным статусом: главное – характер и поведение. Мать не упускала случая пройтись по адресу соседских дам, вечно болтавших о меховых манто и отдыхе на Майами. «Только и думают, что нацепить чернобурку да втереться в приличное общество. Инженю!» Смешно сказать, но лишь поступив в колледж и получив однажды замечание за неправильное употребление слова, я сообразил, что мать имела в виду парвеню. Невелика разница.
Ну какая там белая кость! Но не будем о социальном расслоении, о классовой борьбе, о самоуважении как стимуле к действию – слишком много шума поднималось в доме из-за подобных материй. Скажем просто: качества личности, а не количество наличности – таков был основной критерий оценки человека у наших родителей. Добропорядочные здравомыслящие существа. Совершенно непонятно, почему оба их отпрыска растратили себя таким нелепым образом, почему довели себя до полной катастрофы. И первый муж Сони, и моя единственная жена добровольно расстались с жизнью; это не может не навести на мысль о какой-то общей нашей порче. Может быть, дело в воспитании? Но что плохого было в нашем воспитании? Я не могу ответить на этот вопрос. А если мать и отец тут ни при чем, значит, за собственные глупости нести ответственность нам.
Мой отец был бухгалтером. Он обладал прекрасной памятью и на удивление быстро считал; не диво, что соседи, по большинству трудяги-евреи, эмигранты в первом поколении, почитали его большим знатоком во всех вопросах и, оказавшись в трудной ситуации, а это случалось часто, обращались к нему за советом. Худощавый, педантичный, вдумчивый, всегда в белой рубашке и при галстуке, он не показывал мне своей бесконечной любви; вернее сказать, ее проявления были так неназойливы и деликатны, что при одном воспоминании о них сердце переполняется болезненной нежностью. Особенно сейчас, когда он прикован к постели, и эту постель отделяют от места моей добровольной ссылки сотни миль.
А мне, с очередной хворобой лежавшему в кровати, отец сквозь температурное полузабытье представлялся чем-то вроде говорящего часового механизма: с неизменной пунктуальностью ежевечерне ровно в шесть он появлялся у одра болезни. Отец всеми силами хотел избавить меня от скуки одинокого лежания и не придумал ничего лучшего, чем устное решение арифметических задач. Сам он в этом деле был великий дока. «Запоминай, – говорил он и продолжал убедительно-бодрым тоном, каким круглый отличник талдычит вызубренное стихотворение, – модное пальто стоило тридцать долларов. Часть товара осталась нераспроданной. Тогда торговец снизил цену до двадцати четырех. Однако и за двадцать четыре распродать все пальто прошлогоднего фасона не удалось. Он сделал новое предложение: девятнадцать долларов двадцать центов. И вновь товар раскуплен не был. Торговец объявил еще об одной скидке, и уж тут все пальто разошлись». Следовала пауза, предназначенная для того, чтобы я мог, если нужно, уточнить условия задачи и разобраться в деталях. Когда же этого не требовалось, отец формулировал вопрос: «Итак, Натан, какова была последняя цена, если принцип скидок оставался прежним?» Или другой вариант: «Лесоруб измеряет количество заготовленного леса мерной цепью. Она составлена из шести кусков, а каждый кусок – из четырех звеньев. Если количество заготовленного леса требует снять одно звено…» – и так далее. На следующий день, пока мама, насвистывая Гершвина, стирала отцовские рубашки, я в одиночестве размышлял о торговце, лесорубе и о связанных с ними проблемах. Что за люди купили пальто? Понимали ли они, что им всучили прошлогодний фасон? Не станут ли они предметом насмешек на улице или в забегаловке? И вообще, что это за штука такая – «прошлогодний фасон»? «И вновь товар раскуплен не был», – шептал я еле слышно, осознавая, как много вокруг причин для грусти. Я до сих пор помню, сколько пищи воображению давала та математическая купля-продажа. Может быть, пальто прошлогоднего фасона по сельской наивности купил лесоруб со своей мерной цепью? А зачем ему вдруг понадобилось пальто из модного магазина? Его что, пригласили на маскарад? Тогда кто же его пригласил? Мама называла вопросы, возникавшие у меня в связи с отцовскими задачами, «довольно-таки интересными», радуясь, как я теперь понимаю, что они отвлекают меня от одинокой скуки: ведь она, занятая хозяйством, не могла поиграть со мной ни в лото, ни в «море волнуется». Отец же вставал в тупик перед непонятной ему тягой к выяснению пустых и вовсе не относящихся к делу подробностей, обстоятельств, побудительных причин, демонстрирующей полное мое равнодушие к математической строгости и изяществу решений. Он подозревал, что это свидетельствует о скудности моих умственных способностей – и был совершенно прав.
Я не испытываю ностальгии по своему болезненному детству, ничего подобного. В ранние годы я подвергался на школьном дворе бесчисленным унижениям (думая, что ничего хуже этого нет и быть не может) из-за неуклюжести и абсолютной неспособности к любому виду спорта. Отравляло жизнь и неослабное назойливое внимание родителей к моему самочувствию. Эта мучительная для обеих сторон забота не умерилась, даже когда я превратился (где-то в районе шестнадцати) в дылдообразного широкоплечего оболтуса, который компенсировал свои футбольные позоры азартной игрой в кости посреди вонючего клозета угловой кондитерской. Субботними вечерами мы с дружками – отец называл их «обкурившимися чучелами» – носились на машине, тщетно пытаясь отыскать публичный дом, который, как считалось, был где-то неподалеку. При этом меня не отпускали страхи: страх проснуться утром от боли в сердце, страх скрючиться однажды от удушья, страх свалиться с температурой за сорок. Родительская обеспокоенность той же проблемой только раздувала костер ужаса, и, спасаясь от масла, подлитого в огонь, я становился неописуемо раздражителен и груб. Отец с матерью впадали в недоумение, разводили руками, начинали еще больше бояться за меня. Конечно, все подростки в какой-то мере бессердечны к родителям, но мое отношение выходило за всякие рамки. Скажи злейший враг: «Что б ты сдох, Цукерман», – я не взбеленился бы так, как от отцовского напоминания о необходимости своевременного приема витаминов или прикосновения материнских губ к моему лбу во время обеда: нет ли температурки. Как бесила их озабоченность! Я, помню, страшно обрадовался, когда первого мужа сестрицы поймали за руку, глубоко запущенную в кассу керосиновой компании, принадлежащей его дяде. Страшно обрадовался – потому что внимание семьи переключилось с меня на Соню. Да и сам я отвлекся от собственных страхов, померкших перед неприятностями сестры. Иногда после тюремного свидания со своим неправедным Билли, получившим год, она приходила к нам, чтобы поплакаться в жилетку семнадцатилетнему брату. Ее совершенно не интересовало состояние моего здоровья! О счастье! До этого так бывало только давным-давно, в раннем детстве, когда, увлеченная совместной игрой, что случалось нечасто, она обращалась со мной, как с ровней. Наконец-то я перестал быть объектом неусыпного заботливого наблюдения.
Через несколько лет, когда я уже жил в Рутжерсе, Билли навсегда покинул семью, повесившись в спальне наших родителей на карнизе для штор. Видимо, просто не рассчитал. Зная его, я почти уверен, что сицилиец уповал на собственный внушительный вес и обманчивую, как оказалось, непрочность карниза. Родители возвращаются из похода по магазинам; он лежит в куче рухнувших штор и слабо, но дышит; узрев собственного зятя с высунутым языком и веревкой на шее, тесть чувствует острый прилив родственных чувств и немедленно вытаскивает из кармана пять тысяч долларов – ровно столько Билли задолжал своему букмекеру… Черта с два! Карниз был повешен по-настоящему. Пришлось и Билли повеситься по-настоящему. Оно и к лучшему, скажет кто-нибудь. И опять – как бы не так. На следующий же год Соня вышла (как говорил отец) «за другого». Чего ж тут другого? Та же самая иссиня-черная курчавость, та же «мужская» ямочка на подбородке и нисколько не менее отвратительная сущность. Джонни, правду сказать, не увлекался скачками – он увлекался сучками. Однако возникавшие при этом проблемы ему удавалось удачно решать. Всякий раз, пойманный с поличным, Джонни, умоляя о прощении, падал на колени: мол, этот раз – самый последний. Подобные мизансцены размягчающе действовали на сердце моей сестры, но ничуть не обманывали отца. «Целует ей туфли, – говорил он, прищуривая глаза от переизбытка брезгливого негодования, – в прямом смысле слова целует ей туфли; это что, знак любви, уважения, что это такое?» У Джонни и Санни появилось четверо детей, та же иссиня-черная курчавость; по крайней мере, в 1962 году, когда я виделся с сестрой в последний раз, их было именно четверо: Донна, Луис, Джон-младший и Мари (для меня это имя – удар, из всех ударов злейший[40]40
«…удар, из всех ударов злейший» строчка из монолога Марка Антония из пьесы Шекспира «Юлий Цезарь» (III акт, сцена 2).
[Закрыть]). Джон-старший занимался строительством плавательных бассейнов. Этот бизнес обеспечивал ему доход, достаточный для того, чтобы тратить каждую неделю сотню-другую долларов на нью-йоркских девушек по вызову, не создавая для семьи трудностей финансового характера. На их даче в Кэтскилле, где я виделся с сестрой в последний раз, насчитывалось не меньше розовых турецких подушек, чем в доме на Скотч-Плейнс; перечница оказалась такой же большой, как и там; в обоих обиталищах на столовом серебре, скатертях и полотенцах красовались монограммы с инициалами сестры.
Как это вышло? Неразрешимый, изводивший меня вопрос. Моя сестра, которая долгими часами неустанно репетировала в гостиной; сестра, которая столько раз пела мне отрывки из «Норвежских песен» и «Студента-принца», что мне хотелось стать то ли норвежцем, то ли наследником престола; моя сестра, которой ставили голос в филадельфийской студии самого доктора Брессленштейна; сестра, которую уже в пятнадцать лет приглашали петь на свадьбах за деньги; сестра, имевшая надменные повадки примадонны, еще когда ее сверстницы взволнованно выдавливали возрастные прыщи, – как могла она опуститься до пошлости розовых турецких подушек, нарожать сицилийцев и сицилиек, поручить их воспитание нянькам и крутить на стереосистеме «Джери Вейл напевает веселенький хит» во время субботних родительских визитов? Как? Как можно жить, все это видя?
А может быть, все это как раз и было только видимостью? Может быть, выходя «за другого», Соня, как фанатик в состоянии религиозного экстаза, подвергала испытанию и истязанию свою плоть, чтобы дух пребывал в неприкосновенной первозданности? Вот, воображал я, она лежит ночью в постели рядом с храпящим мужем, этим смазливым инфантильным слюнтяем, и не спит, и вся светится тайной, неведомой никому – ни сбитым с толку родителям, ни скептическому брату-студенту: Санни – прежняя Соня, неизменная Соня. Та Соня, чье колоратурное сопрано сам доктор Брессленштейн (жалкий эмигрант, но в прошлом известный, очень известный, мадам, мюнхенский импресарио) называл «прекрасным, нет, более чем прекрасным» и сравнивал с голосом молодой Лили Понс[41]41
Понс Элис Жозефина – известная певица, колоратурное сопрано, более тридцати лет певшая на сцене Метрополитен-оперы.
[Закрыть]… Вот однажды вечером во время ужина, фантазировал я, раздается стук в дверь черного хода; отец открывает; это она: в том самом длинном платье с вышивкой на груди, которое сшили для премьеры «Студента-принца», мягкие темные волосы рассыпаны по плечам. Милая, изящная, устремленная к радостям жизни сестра, одним своим появлением на сцене доводившая меня до слез, наша Лили Понс. Она возвращается, очаровательная и неизменная. «Я должна была сделать это, – шепчет она в наших объятиях, – так нужно».
Короче говоря, мне не легко было примириться с мыслью, что сестра с головой погрузилась в провинциальный быт с его вульгарными и жалкими проявлениями. Пошлыми и ничтожными в глазах высоколобого второкурсника, чье самомнение подогревалось возвышенными писаниями Аллена Тэйта[42]42
Тэйт Аллен – американский поэт и прозаик, один из ведущих представителей «нового критицизма».
[Закрыть] и трудами доктора Ливиса о Мэтью Арнолде[43]43
Арнолд Мэтью – английский поэт и литературный критик, резко выступавший с социальной критикой современных ему вкусов и манер.
[Закрыть], поглощаемыми, по обыкновению, вместе с утренней кашей. А что эти вульгарные, жалкие, пошлые и ничтожные – как их ни назови – проявления и есть сама жизнь для миллионов и миллионов американских семей, в расчет как-то не бралось. Я горевал не о миллионах, а о Соне Цукерман-Руджиери из Пургаторио.
Лидия Йоргенсон Кеттерер жила в аду. Так я думаю. А кто бы подумал иначе, узнав о ее житейском опыте? На фоне этих повествований мое собственное детство с болезнями, унижениями, несовместимостями и прочее кажется райскими кущами. Обо мне все заботились, а ей приходилось заботиться обо всех. Она была слугой, даже рабыней, круглосуточной нянькой чересчур неподвижной матери и чересчур подвижного отца.
Ее кровосмесительное грехопадение представало в рассказах Лидии обыденно-простым и оттого вдвойне ошеломляющим и непостижимым. Для меня, в достаточной мере испорченного в то время классической поэзией и драматургией, даже самое обыкновенное соитие как-то связывалось с предварительной тайной перепиской при посредстве дуэньи или пажа, с хоровым пением под воздевание рук кордебалета, с провиденциальными откровениями оракулов. В этой же истории ничего подобного не было. Был рабочий чикагской молочной фермы, одетый в комбинезон, и его только что проснувшаяся голубоглазая дочь, девочка, для которой должен был начаться обычный школьный день. Вот и все. «Это случилось однажды ранним зимним утром», – эпически начинала Лидия свой рассказ. Отец, уже одетый по-рабочему, пошел заводить фургон, на котором развозил молоко, но вдруг вернулся и улегся на кровать рядом с ней. Он весь дрожал, а из его глаз текли слезы. «Лидия, кроме тебя у меня нет никого. Ты – это все, что есть у твоего отца. Я женат на трупе». Тут он расстегнул комбинезон и спустил штаны до лодыжек. Что ж тут такого – ведь женат-то он был на трупе. Когда он навалился на нее, Лидия-девочка не позвала на помощь, не стала вырываться и не вонзила зубы ему в шею. Правда, поначалу она собралась было укусить отца за кадык, но одумалась: папе станет больно, он закричит и разбудит маму, а для мамы очень важен крепкий сон. Господи, для мамы очень важен крепкий сон. К тому же Лидия вообще не хотела делать ему больно – ведь он все-таки отец. Потом мистер Йоргенсон отправился на работу, а ближе к вечеру его молочный фургон нашли брошенным в лесопарке. «А куда отец ушел, – заканчивала Лидия тоном сказочницы, – никто не знает». Никто. Ни его калека-жена, оставшаяся без единого пенни, ни до смерти перепуганная дочь. Иногда Лидии представлялось, что папа живет на Северном полюсе. Иногда казалось, что, наоборот, скрывается где-то поблизости: следит, как бы она не проболталась кому-нибудь, а проболтается – придет и расшибет трепливой дочурке голову камнем. Но версия о Северном полюсе или Лапландии оказалась более живучей. Решившись в восемнадцать лет сбежать из дома с Кеттерером (а дело было в рождественские праздники), Лидия подошла к Санта-Клаусу, развлекавшему публику перед универмагом Голдблатта, и крикнула чрезвычайно смутившемуся при этом новогоднему деду: «Я выхожу замуж, и мне на тебя наплевать. Рост моего мужа – шесть футов два дюйма, вес – двести двадцать пять фунтов, он такой человек, что, если ты когда-нибудь приблизишься ко мне, все кости тебе переломает».
«Так до сих пор и не пойму, – говорила мне Лидия, – что глупее: считать уличного Санта-Клауса отцом или моего мужа – человеком». Но и через много лет, став женщиной столько повидавшей и пережившей, Лидия, оказавшись как-то под Рождество в Лупе[44]44
Луп – деловой район Чикаго.
[Закрыть], не могла отделаться от ощущения (глупого), что один из многочисленных Санта-Клаусов, завлекающих покупателей в торговые центры звоном колокольчиков, не кто иной, как ее милый папочка.
Итак, инцест, умонепостижимое замужество, затем то, что она называла «игрой в сумасшествие». Через месяц после развода Лидии с Кеттерером (жестокое физическое обращение), ее мать в конце концов хватил удар, в ожидании которого она провела добрую половину жизни. Больница. Бессознательное состояние. Дыхание через кислородную маску. Лидия отказалась сидеть с матерью. «Сказала теткам: я свое уже отсидела. Если ей суждено умереть, что я могу поделать? А если вновь придуривается, то пусть уж теперь без меня».
На этот раз мать не придуривалась. Через неделю она умерла. На Лидию нахлынули разнообразные чувства – печаль, облегчение, горечь, комплекс вины, – но все они были какими-то смазанными. Главенствующим состоянием стала апатия. Полнейшее безразличие. Она механически кормила и одевала Монику, шестилетнюю дочь, не испытывая к ней ни малейшего интереса. Сама ходила в одном и том же. Не стелила постель, не мыла посуду; проголодавшись, открывала первую попавшуюся банку и жевала что-то, не ощущая вкуса, чаще всего – консервы для кошки. Пришедшие в голову важные мысли, чтобы не забыть, записывала губной помадой на обоях. В первую субботу после похорон, как и было договорено, Кеттерер зашел взять Монику к себе на один день. Полностью одетая девочка неподвижно, как кукла, сидела в кресле. Стены квартиры были исписаны обрывочными вопросами, выведенными губной помадой, все буквы прописные: ПОЧЕМУ НЕТ? ТЫ ТОЖЕ? А ЧТО ОНИ? КТО СКАЗАЛ? МЫ БУДЕМ? Лидия только готовилась к завтраку, состоявшему в это утро из миски кошачьего дерьма, политого мочой и посыпанного стружкой стеариновой свечи.
«До чего же он обрадовался! – рассказывала Лидия. – Надо было видеть, как он обрадовался, увидев все это. Он ведь не мог простить мне развода, он зубами скрипел, вспоминая, как на суде публично обсуждали его скотство. Он изнывал из-за того, что лишился живой боксерской груши. „Уж больно ты крутая, шляешься себе по музеям, пялишься на картины и думаешь, будто имеешь право помыкать мной, как хочешь…“ – и хвать меня в охапку, и бряк о стену. Старайся падать аккуратно, говорил он, не то обязательно поломаешь что-нибудь из старой рухляди, которой забит дом. Ты обязана уважать меня, говорил Кеттерер. Он правда так думал: ведь он женился практически на пустом месте, на какой-то сироте, он сделал из пустого места хозяйку, он сделал пустому месту ребенка, он делал для пустого места деньги, а она шляется по музеям. Всего-то один раз за все семь лет семейной жизни я и была в музее – пошла в Академию искусства с Бобом, двоюродным братом, холостым университетским преподавателем. Едва мы оказались наедине в каком-то пустом зале, Боб расстегнул штаны и показал, что у него там между ног. Он сказал, что мне нужно только посмотреть. Что не просит трогать или что-нибудь еще. Я и не трогала, я вообще ничего не делала. Почти как с отцом – просто пожалела. Я – жена злобного орангутанга, а тут Боб, двоюродный брат, которого мой отец звал „маленьким зубрилой“… Вот семейка так семейка! В общем, я не отперла Кеттереру, он вышиб дверь, а как узрел, что понаписано на обоях, руки стал потирать от удовольствия. Особенно, когда подумал, что я собираюсь завтракать. А я, между прочим, всем мозги пудрила. Вовсе я не собиралась есть кошачье дерьмо с мочой и стеариновой стружкой. Он хотел отсудить у меня Монику. Вот и отсуживай. Дерьмо с мочой! Сто раз Кеттерер мне говорил: „Тебе нужно обратиться к врачу, Лидия, тебе просто необходимо обратиться к врачу“. Но вызвал-то не врача, а санитаров. Я улыбнулась, когда два амбала – в белых халатах, точно как врачи – вошли в квартиру. Наверное, я не должна была им улыбаться, но я улыбнулась. Улыбнулась и вежливо осведомилась: „Не желают ли джентльмены кошачьего дерьма?“ Мне почему-то казалось, что именно так должны говорить сумасшедшие. А значит, и тот, кто прикидывается. Я же не знала, что настоящие психи говорят что-нибудь вроде „Сегодня вторник“ или „Дайте мне, пожалуйста, отбивную“. Откуда мне было знать? Ведь я-то не тронулась – я забастовала. Баста, я больше с вами не играю. Я играю в сумасшествие».
Так или иначе, это положило конец ее материнским обязанностям. Когда через пять недель Лидия выписалась, Кеттерер объявил ей, что женится. Не собирался, мол, «форсировать этот вопрос», но раз уж теперь всем известно, что он семь унизительных лет прожил с ненормальной, то его долг и прямая обязанность хотя бы спасти Монику, предоставив ей нормальный дом, нормальную мать, нормальную семью. А если Лидия хочет добиться иного решения через суд – он не против, пожалуйста, милости просим. Только следует иметь в виду, что у него есть фотографии надписей, сделанных на стенах губной помадой. И договоренность с соседями, которые дадут правдивые показания о том, что из себя представляла спятившая Лидия и какой запах она распространяла, покуда Кеттерер не отправил ее в психушку. Вот как это будет выглядеть в суде. И он готов потратиться как угодно и потратить сколько угодно времени, лишь бы Моника навсегда избавилась от клинической идиотки, пожирающей кошачьи испражнения. Зато сэкономит на алиментах.
«Целыми днями я бегала по соседям, умоляя не давать показаний против меня. Уж они-то знали, как Моника меня любит, они знали, как я люблю ее, они знали, что я просто выдохлась: развод, смерть матери и всякое такое. То, что они видели и нюхали перед тем, как я попала в больницу, совсем не то, что я представляю собой на самом деле. Вот что я пыталась им втолковать. Соседи смотрели как-то испуганно. Я наняла адвоката. Белугой ревела у него в конторе, а он говорил: можно попробовать, очень даже можно попробовать; мистеру Кеттереру не так-то просто будет доказать свои права на Монику – ну, что она должна жить с ним. Слова адвоката очень меня поддержали. Мне стало гораздо легче, снова захотелось быть с людьми. И я прямо из адвокатской конторы пошла на автобусную станцию и купила билет в Канаду. Я ж говорю, мне захотелось быть с людьми. Пойду в бюро по найму: устройте меня поварихой на лесозаготовки, чем дальше на север, тем лучше. Я буду готовить еду для сотни здоровых мужиков с хорошим аппетитом. Всю дорогу до Виннипега я представляла, как кручусь в огромной жаркой кухне среди ложек-плошек-поварешек. За стенами – предрассветное ледяное безмолвие; в лагере лесорубов все еще спят; я готовлю завтрак: яичницу с беконом, тосты, кофе, много горячего кофе. Потом мытье посуды, уборка, приготовление ужина. Усталые после тяжелой работы в лесу, они шумной толпой вваливаются в столовую. Все уже готово, ешьте на здоровье. Такие вот бесхитростные мечты в трясущемся автобусе. Я буду их кормить, а они за это будут меня защищать. Я буду единственной женщиной среди них, а они, по-мужски посмеиваясь над своим благородством, и пальцем меня не тронут. Я провела в Виннипеге три дня. В основном шлялась по кинотеатрам. А что еще было делать? В бюро по найму я сказала, что раздумала ехать на лесозаготовки поварихой, оставьте меня здесь.
Ты бы видел их рожи! Кто раздумал? Что раздумал? При чем тут повариха? Они решили, что я проститутка. Какая скука! Какая скука быть психованной! Какая скука быть мною! Куда уж скучней и банальней: совращенная собственным отцом всю жизнь испытывает „фрустрацию“, так это, кажется, называется. Я твердила не переставая, словно и впрямь сумасшедшая: „Вовсе не обязательно вести себя так. Вовсе не обязательно разыгрывать безумие. Вовсе не обязательно бежать к Северному полюсу, никого там нет. Ты просто зациклилась. Остановись“. Когда я слишком расходилась, ругаясь с тетками, они, как сейчас помню, вещали, поджав губы: „Возьми себя в руки, Лидия, и не устраивай бурю в стакане воды“. Ну ладно, я выброшу из головы тех двоих, отца и Кеттерера, но что тогда станет с моей жизнью? Или ничего с ней не станется? Глупо считать себя жертвой, но не глупее ли считаться дочерью своего отца? Я думала обо всем этом, сидя в виннипегских кинотеатрах, думала все время, мне надо было прийти в себя. Возьми себя в руки, Лидия, и не устраивай бурю в стакане воды. Снявши голову, Лидия, по волосам не плачут. Если что-то не удалось, Лидия, – а тебе как раз не удалось, – сделай еще одну попытку. Попытка – не пытка, Лидия. Не пытка? На одном из бесчисленных киносеансов меня вдруг осенило: что бы я ни делала, спасая Монику от Кеттерера, я сделаю только хуже. Да это ж яснее ясного. Осталось всего лишь убедить себя, что я никого ни от кого спасать не собираюсь. Доктор Рутерфорд говорит, я решила правильно. И что даже удивительно, как я дошла до такого верного решения без помощи опытного психотерапевта. Когда я вернулась назад в Чикаго? Когда довела дело до конца. До логического конца, считает доктор Рутерфорд. У меня был в отеле номер за два доллара в сутки. Скорее в притоне, чем отеле. Лидия знала, что делает, говорит доктор Рутерфорд. Под конец третьего виннипегского дня, когда я расплачивалась за двухдолларовую конуру, дежурный портье спросил, не хочет ли дамочка между делом немного подзаработать, скажем так, позируя художникам. Можно даже не немного, если я настоящая блондинка везде. Я взвыла воем и не могла остановиться. Портье позвал полицейского, полицейский – доктора, и как-то само собой получилось, что меня отправили назад. Вот так я избавилась от дочери. Ты, наверное, думаешь, что честнее было бы утопить ее в ванне».