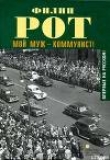Текст книги "Моя мужская правда"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
– А я думал, что уж тебе-то эта история по душе.
– За кого ты меня принимаешь? Мне эта история отвратительна. Я молчала, потому что не хотела тебя огорчать: ты ведь без ума от своего мужественного поступка. Мужественный поступок! Бить сумасшедшую, которая не отвечает за собственные слова! Какой смысл?
– Смысл в том, что у меня кончилось терпение. Чаша переполнилась. Ее личное сумасшествие сделало и мою жизнь безумной. Больше терпеть было нельзя.
– А сила воли? Ты так много говоришь о силе воли! Я даже вернулась в колледж, чтобы тебя не раздражало мое безволие. А самодисциплина? Сколько раз я слышала от тебя о самодисциплине! И вот: человек, ненавидящий насилие, цивилизованный человек, волевой, дисциплинированный превращается в неуправляемую машину для избиения невменяемой женщины. Зачем ты вообще пригласил ее к себе?
– Мне нужен развод.
– У тебя есть адвокат.
– Она не стала бы говорить о разводе с моим адвокатом.
– А с тобой – стала?
– Что ж, я рисковал. Но я готов на все, чтобы выбраться из западни, в которую меня заманили двадцатипятилетним, а теперь мне тридцать три…
– Ты сам сунул нос в этот капкан. И держишься за него обеими руками. Почему ты не бросил трубку, когда она позвонила? Почему, когда она отказалась от встречи в «Алгонкуине», не прервал переговоры?
– Мне показалось, что забрезжил свет в конце туннеля. Нет больше сил таскаться по судам и крохоборствовать над копейками, которые остаются на жизнь после всех вмененных мне выплат. Я должен Моррису уже четыреста долларов! Двадцатитысячный аванс превратился в пшик, а книга на нуле. У судьи Розенцвейга руки чешутся засадить меня в Синг-Синг[141]141
Синг-Синг – тюрьма в штате Нью-Йорк.
[Закрыть], лишь вспомнит о моей преподавательской нагрузке в университете. Он штаны протер в судейском кресле, а широко известный соблазнитель студенток, бросивший жену, ходит на работу раз в неделю. Это ли не преступление? Они требуют от меня подробных письменных отчетов… Что толку бросать трубку, Сьюзен? От этой бабы нельзя избавиться!
– Скажем иначе: ты не можешь.
– Не могу. Она пьет мою кровь и высасывает мои деньги.
– Питер, не думай о деньгах. Сам знаешь, у меня их полно. Пожалуйста, бери сколько тебе надо.
– У тебя? Это невозможно.
– Но ведь они и не мои даже! Это деньги Джейми. Если разобраться, ничьи: его нет в живых. Ты сможешь рассчитаться с братом, вернуть аванс и забыть про книгу о нем. И о ней самой: выплатишь сразу все, что только ни назначит суд. И – прости-прощай! Пока еще не загублена твоя жизнь.
Ах, как соблазнительно. Начать сначала. С чистого листа. Уехать со Сьюзен в Италию. Купить квартиру на одном из римских холмов. Книжные полки, герань на окнах, вино в темных бутылках. Обзавестись новым «фольксвагеном», кататься по горным дорогам, и никто не будет вырывать руль из рук… Мир и покой. Gelati[142]142
Gelati – мороженое (итал.).
[Закрыть] на Пьяцца Навона. Поход за покупками на рынок в Кампо де Фиори. Обед с друзьями в Трастевере. И снова – мир и покой. Никаких истерик, склок, свар, никакой мерзости, гнусности, пакости. Работать над книгой – не о Морин. В самом деле, на свете есть много интересного помимо нее. О, какое блаженство!
– Выплаты можно поручить банку, – прорвался ко мне в сказку рассудительный голос Сьюзен, – они будут каждый месяц посылать ей чек. Тебе и думать ни о чем не придется. Смахнешь всю эту чушь, словно как крошки со стола.
– Не так-то просто, – отогнал я сладостные видения. – Существуют барьеры, через которые трудно переступить. И не забывай: Морин умирает. Может быть, из-за меня.
– Не говори так! – отчаянно воскликнула Сьюзен.
– Собирай чемодан. Нам пора.
– Но почему бы не решить хотя бы финансовую проблему?
– Мне неловко брать деньги даже у родного брата.
– Брат – другое дело. А я…
– Пора собираться.
Сьюзен с непривычной резкостью отвернулась и ушла в ванную комнату. Я, сидя на краешке кровати, прикрыл глаза и постарался ясно представить ближайшие перспективы. Чем больше думал, тем сильнее охватывала меня томительная слабость. Она вся в синяках и кровоподтеках. Они подумают, что ее убил я. Избил до полусмерти и запихал в рот таблетки. Сохраняются ли на теле отпечатки пальцев? Если да, то ситуация хуже некуда.
Вдруг голова стала холодной и мокрой. Сьюзен стояла рядом и лила из стакана ледяную воду мне на темя. Я подумал: недаром говорят, что жестокость порождает жестокость. И это Сьюзен, для которой причинить человеку малейшую неприятность – горе горькое!
– Я тебя ненавижу, – сказала она, топнув ногой.
Мы сложили вещи, перевязали бечевкой коробку с бутылками морской воды (подарок Шпильфогелю) и покинули Атлантик-Сити, где много-много лет назад я открыл для себя таинство романтической любви; Питер Тернопол отправился в Нью-Йорк держать ответ.
В больнице, слава богу, не оказалось ни Валдуччи, ни полицейских с наручниками, ни фотовспышек, ни телекамер, нацеленных в лицо убийцы, в глаза титулованного писателя. А откуда всему этому взяться? Параноидальные фантазии, жалостливые видения нарциссиста, омывающегося чувством вины в озере амбивалентности. Может быть, Шпильфогель прав, и я принял за женщину дикое чудовище по кличке Морин только из-за ослепившей меня самовлюбленности? Э, нет! Пусть самолюбования, как вы говорите, во мне больше, чем веса в Гаргантюа, но суть в ином. Я сочувствовал ей, я понимал ее, я осознавал, что с таким, как Питер Тернопол, Морин Джонсон должна врать и лицемерить. Ибо он лучше, чем она. В некотором смысле я провоцировал ее на бесконечные обманы. Вот мы и квиты, Морин. Если в подобных рассуждениях и есть самовлюбленность, то не болезненная, а осознанная. Так-то, доктор Шпильфогель. А теперь расступитесь. Я в порядке и хочу видеть ее. Извольте пропустить.
Поднявшись на лифте в реанимационное отделение, я представился молоденькой медсестре за столом у входа и спросил: «Как там моя жена?» – «Доктор как раз у нее; сейчас он освободится и поговорит с вами». – «Но она жива?» – «Конечно жива». – Медсестра участливо коснулась моей руки. «Отлично. А каковы ее шансы?» – «Вам следует поговорить об этом с доктором, мистер Тернопол».
Понятно. По всему видно, что еще может умереть. Во тьме продолжал мерцать лучик свободы.
Свободы. В тюрьме.
Но я ведь не убивал!
Кто-то тронул меня за плечо.
– Вы – Питер?
Невысокая женщина с волосами, тронутыми сединой. Живое, несколько вытянутое лицо. Строгое синее платье, туфли на каблуках благоразумной высоты. Взгляд внимательный и слегка смущенный. (Как я позже выяснил, она была лишь на пару лет меня старше, школьная учительница с Манхеттека; они с Морин занимались в одной психотерапевтической группе; вы спросите, что же привело туда педагогическую даму? Периодические запои.)
– Вы – Питер?
Она чем-то напоминала библиотекаршу из маленького городка. В другом месте я не обратил бы на нее особого внимания. Но здесь, в реанимационном отделении, где во мне все видели врага, волей-неволей приходилось быть настороженным и мстительным. С чего это она? Я отступил на шаг.
– Вы – Питер Тернопол, писатель?
Вот оно. Медсестра из жалости солгала. Морин мертва. Я арестован по обвинению в убийстве первой степени[143]143
Убийство первой степени – убийство человека, которое было спланировано ранее и выполнено по злому умыслу.
[Закрыть]. Женщина-полицейский со слегка смущенным взглядом – последнее, что довелось увидеть на воле.
– Да, – выдавил я, – писатель.
– А я Флосси.
– Кто?
– Флосси Кэрнер. Из одной группы с Морин. Я столько слышала о вас!
Писатель Питер Тернопол изобразил слабое подобие беспомощной улыбки. Значит, Морин мертва, но полиция об этом еще не знает.
– Хорошо, Питер, что вы здесь, – мелко закивала Флосси.
– Приходя в сознание, она только о вас говорила.
(О, блаженное прошедшее время!)
– Морин и жизнь… Эти понятия кажутся неразделимыми.
– Флосси подбадривающе сжала мой локоть; ее глаза за толстыми стеклами очков затуманились слезами; вздох был траурен и глубок. – Да-да, неразделимыми.
– Надо держаться, что ж теперь поделаешь, – произнес я.
Мы сели рядышком на стулья стали ждать врача.
– У меня такое чувство, будто я вас давно знаю, – призналась Флосси.
– Неужели?
– Морин так живо рассказывала! Я словно переносилась вместе с ней в Италию – обедала с вами в Сиене, жила в крошечном пансионате во Флоренции…
– Во Флоренции?
– Ну да, напротив садов Боболи. Помните хозяйку, милую пожилую даму?
– Даму… Ах да, разумеется.
– А забавного котенка, у которого мордочка была испачкана соусом от спагетти?
– Про котенка как-то запамятовал.
– Ну что вы! Это же было в Риме, около фонтана.
– Нет, увы, не помню.
– Извините. Конечно, столько воды утекло… Вы, Питер, для Морин – все. Предмет гордости и восхищения. Она просто хвасталась вами. А попробуй кто слово – нет, не дурное, просто холодное – сказать про «Еврейского папу», тут уж она бросается, как свирепая львица на защиту детеныша.
– Вот оно как…
– Такой характер. Основное в нем – верность.
– Свирепая, – уточнил я, – верность.
– Точно сказано. Еще бы – писатель! Морин все жизненные события как бы опрокидывала на вас. На похоронах отца в Элмайре…
– Он умер? Я не знал.
– Два месяца назад. Инфаркт. Скончался в автобусе. Она думала сообщить вам, очень хотела, чтобы вы приехали, но боялась быть неправильно понятой. И в Элмайру с ней отправилась я. «Одна я не смогу, Флосси, проводи меня, пожалуйста». Морин считала своим долгом простить отца за все, что он сделал.
– А что он сделал?
– Это ее тайна. Я должна молчать.
– Он ведь работал ночным сторожем, верно? На какой-то фабрике…
– Когда Морин было двенадцать лет… – Флосси взяла меня за руку.
– Слушаю.
– Отец изнасиловал ее. Но она нашла в себе силы простить. Сама слышала, как Морин шептала слова прощения над могилой. Я тоже плакала. «Ты прощен, отец», – сказала она.
– Изнасиловал? Почему же Морин никогда не рассказывала мне об этом?
(А очень просто: вычитала душещипательную историю у Крафта-Эбинга[144]144
Крафт-Эбинг Ричард фон – немецкий психотерапевт, автор исследования «Психопатия сексуальности» (1886).
[Закрыть]. Или в скандальной колонке «Санди таймс». Или в каком-нибудь романе. И обработала для исповедального повествования на психотерапевтической группе. Интересно же, трогательно и требует дружеской поддержки. Есть что обсудить.)
– Как же она могла вам рассказывать, – удивилась Флосси, – она вообще об этом молчала, пока не пришла к нам в группу. Боялась, что ужасный случай, став известным, еще больше унизит ее. Даже матери не говорила.
– Вы знакомы с ее матерью?
– Морин брала меня с собой, когда навещала мать. Два раза. Они целыми днями вспоминали прошлое. Морин прилагала массу усилий, пытаясь простить и ее.
– Мать тоже нуждалась в прощении?
– Ее не назовешь образцовой мамой, Питер. – Флосси дала понять, что обрывает тему, да и я не склонен был углубляться в тонкости отношений покойной жены с родителями. – Морин не хотела, чтобы вы знали о той детской истории. Мы в группе много работали, убеждая ее, что она не несет вину за кровосме – сительное происшествие. Морин, конечно, и сама это понимала, но… В некотором смысле – классический случай.
– Наверное.
– Я как раз убеждала ее открыться вам. Доказывала, что вы все поймете.
– Да, я бы понял.
– Она не должна умирать! С каким упорством она боролась со своим прошлым – ради будущего, ради выживания! С какой волей! Мы помогали ей по мере сил. В последний раз Морин вернулась из Элмайры сама не своя. Вот группа и решила устроить поездку в Пуэрто-Рико. Взбодрить согруппницу. Она ведь вообще-то веселая и прекрасно танцует, не мне вам говорить.
– Ах, танцует…
– Ни танцы не помогли, ни солнце, ни море. То есть сначала казалось, что помогли. И вдруг – срыв. Она у нас до чего ж гордая! Иногда, я думаю, даже слишком. И все принимала так близко к сердцу! Мы уговаривали ее: не принимай близко к сердцу, та девушка с конским хвостом – просто увлечение, с мужчинами бывает. А Морин каждый раз, как вы начнете умолять ее вновь соединиться в семье, сперва обрадуется, но потом говорит: нет, ему нельзя доверять. Тут, конечно, чувствуется влияние мистера Игена и его жены. Морин их во всем слушалась. А они оба ревностные католики. Вам не понять, Питер, вы ведь еврей, но католики совсем иначе относятся к супружеским обязанностям. Уж я-то знаю, сама выросла в такой семье. Мои родители тоже вас осудили бы. Они не видят, как сильно изменился мир, ничего не хотят видеть. Мы – люди другого поколения. Мы понимаем – трудно противостоять назойливым безнравственным кокеткам, которым вынь да положь, а что мужчина им в отцы годится, так это ничего особенного…
Ее спас приход врача.
Я уже знаю, доктор, что Морин умерла. Мне суждено остаток жизни провести за решеткой. Но жалеть не о чем: мир стал лучше.
Врач оценил свою весть как хорошую. Мистер Тернопол, в принципе, может повидать супругу. Она вне опасности и пришла в сознание, хотя и очень слаба; при посещении следует иметь в виду, что больная может не совсем адекватно реагировать. Вообще-то, сказал медик, миссис Тернопол сильно повезло: она запивала таблетки чистым виски, что вызвало обильную рвоту, освободившую организм от большей части снотворного; иначе летальный исход был бы неизбежен. Не волнуйтесь из-за кровоподтеков у нее на лице. (Кровоподтеки? Да откуда же?) Видимо, пациентка долгое время лежала, уткнувшись в матрац, вот некоторые сосудики и деформировались. Но и это к лучшему: лежи она лицом вверх, захлебнулась бы рвотной массой. На бедрах и ягодицах тоже есть гематомы. (Неужели?) Очевидно, в бессознательном состоянии миссис Тернопол перевернулась на спину и, покуда ее не обнаружили, находилась в таком положении. Появились синяки, но наладилось дыхание. Одним словом, сплошная удача.
Я мог спокойно жить дальше.
И Морин тоже.
– Кто, – спросил я врача, – ее нашел?
– Я, – ответила Флосси.
– Мы должны быть очень благодарны мисс Кэрнер, – слегка поклонился врач.
– Звонила ей, звонила, но никто не брал трубку. А вчера вечером она не пришла на групповое занятие. Я почувствовала неладное – Морин и раньше иногда пропускала группу, флейта там или что еще, – но я почувствовала: на этот раз нечто серьезное. Уж больно долго она пропадает. Ужас, как я волновалась. Сегодня утром попросила заменить меня на уроке математики, взяла такси – и к Морин. На стук никто не открыл, а уж когда я услышала Делию…
– Кого вы услышали?
– Делию, кошку. Она мяукала. Тогда я легла на пол: под дверью есть небольшая щель, я всегда говорила, что это небезопасно. И вот я легла, стала через щель подзывать Делию, кис-кис, и увидела руку, свешивающуюся с кровати, до самого ковра. Позвонила от соседей в полицию. Полицейские приехали, взломали дверь. А там – Морин в нижнем белье. Вот и все.
– Могу ли я увидеть жену немедленно? – обратился я к доктору; на самом деле в голове свербил вопрос к Флосси насчет содержания предсмертной записки, но мне удалось сдержаться.
– Полагаю, можете, – ответил врач, – только на несколько минут.
В затемненной комнате стояли шесть обтянутых по бокам сеткой кроватей. В одной из них лежала Морин. Глаза закрыты, к телу, накрытому простыней, тянутся трубки и провода от капельниц и каких-то приборов. Нос распух, словно после потасовки. Ничего себе «словно»!
Я молча рассматривал Морин. Потом сообразил, что не посоветовался со Шпильфогелем, ехать ли мне в больницу. Может быть, не стоило? Что я здесь делаю? Как это сказала Сьюзен: дрессировщица крикнула: «Ап!» – и песик прыгнул? Или это подростковая игра в геройство? Или не игра, а поступок, по зрелому размышлению совершаемый зрелым мужчиной? Но что тогда зрелый возраст, как не зыбучие пески?
Морин открыла глаза. С видимым напряжением сфокусировала взгляд на мне. Я перегнулся через сетку, приблизил лицо к распухшему носу и произнес со всей возможной убедительностью:
– Знаешь, где ты, Морин? Ты в аду. Теперь уже навечно.
– Недурно, – ответила она, и губы раздвинулись в косой улыбке. – Приятно встретить тебя в таком месте.
– Это ад, – повторил я (мне так хотелось, чтобы Морин поверила!), – и вот назначенная мука: до скончания веков видеть меня и слушать, какая ты лживая дрянь.
– Чем же преисподняя отличается от земного существования?
– Кажется, ты все-таки не умерла. – Мои ладони сжались в кулаки.
– О да. Так больно бывает только при жизни. Вся жизнь – непрестанная боль. – И она заплакала.
Придуриваешься, сука. Придуриваешься сейчас передо мной, как раньше перед Флосси Кэрнер, как перед своей дурацкой группой, как перед всеми без исключения. Давай, поплачь, а я плакать с тобой не буду!
Душа мужчины окаменела. Детство стало исходить из него градом слез, закапавших на простыню, покрывавшую тело жены.
– Боль, Морин? Это ложь, переполняющая тебя, принимает форму боли. Скажи хоть слово правды – и станет легче.
– Проваливай отсюда вместе со своими крокодиловыми слезами. Доктор! Доктор! Кто-нибудь, помогите… – Голова заметалась на подушке.
– Успокойся, успокойся. – Я взял Морин за руку, и мои пальцы ощутили слабое пожатие.
– Господи, что ж это делается, – простонала она.
– Все образуется.
– Я только-только пришла в сознание, а ты уже обвиняешь меня. Что я такого тебе сделала? – спросила Морин обиженным голосом младшей сестры.
– Источник твоей боли – ложь. Ложь – причина отвращения, которое ты сама к себе испытываешь.
– Чушь собачья. – И она выпустила мои пальцы. – Отвращение ко мне испытываешь ты. И хочешь моей смерти, чтобы избавиться от алиментов. Но я не умерла. И плевать хотела на алименты.
– Да катись все это к черту!
– Я не против, – улыбнулась Морин и закрыла глаза. Не навсегда. Просто задремала от слабости.
Я вышел в коридор.
В холле реанимационного отделения рядом с Флосси Кэрнер стоял крупный белокурый мужчина; ботинки с квадратными носами начищены до блеска, модный дорогой костюм сидит как влитой. От красавчика так и разило здоровьем. Видно было, что у него-то все в порядке. Типичный детектив, в любом фильме о полицейских обязательно есть такой… Потом я обратил внимание на бронзовый загар и догадался: и этот тоже вернулся из Пуэрто-Рико!
Он протянул мне широкую загорелую руку. Мягкие широкие манжеты рубашки; золотые запонки; уверенное пожатие. Благородство. Спокойствие. Аристократизм. Где она только его подцепила? Чтоб захомутать такого, нужна моча как минимум от герцогини!
– Билл Уокер, – представился плейбой, – я прилетел сразу же, как смог. Что она? Может говорить?
Уокер! Дорогой мой предшественник, обещавший после женитьбы оставить мальчиков в покое, но не сдержавший слова. Бог мой, он просто ослепителен. Я и сам (по меркам ашкенази) далеко не урод, но куда мне до Уокера!
– Опасности нет. Она уже говорит. Почти не отличишь от прежней.
Он улыбнулся тепло и широко, как будто язвительная шутка ему понравилась. А он и не заметил никакой шутки – просто был искренне рад, что Морин жива.
– Да уж, ничего не скажешь, ока умеет выбирать мужчин! – оценивающе разглядывая нас, воскликнула Флосси, тоже несказанно обрадовавшаяся моей информации.
Я вспыхнул. Выбрав Уокера, а потом меня, Морин только показала свою всеядность. А вот как, интересно, мы могли выбрать ее?
– Может быть, где-нибудь выпьем и побеседуем? – предложил Уокер.
– Извините спешу, – ответил я. Такой ответ дал бы Шпильфогелю пищу для размышлений.
– Если будете в Бостоне, – Уокер вытащил из жилетного кармана визитную карточку, – или захотите связаться со мной по поводу Мор, вот мои координаты.
– Благодарю. – Визитная карточка свидетельствовала, что Билл в настоящее время работает на телевидении. Неужели он действительно озабочен судьбой «Мор»?
– Мистер Уокер, – обратилась к нему Флосси, лучась радостью от того, что Морин вне опасности, – мистер Уокер, вы не могли бы… – Она вытащила из сумочки листок бумаги. – Я бы не стала вас беспокоить, но это для моего племянника. Он собирает автографы.
– Как его зовут?
– Вы так добры! Его имя Бобби.
Уокер что-то размашисто написал на листке.
– Питер, – мисс Кэрнер чуть смущенно улыбнулась мне, – может быть, и вы не откажете? Раньше, пока с Морин все было не ясно, я, конечно, не осмеливалась, но сейчас… – Она протянула мне тот же листок.
Я без слов поставил подпись, подумав: ей бы еще автограф Мецика, и будет полный состав. Или тут не глупость старой девы, а ловушка? Очередная западня? Флосси и Уокер, сговорившись, затеяли что-то? А может быть, выполняют чье-то задание? Чье? Поди разберись.
– Кстати, – прервал мои размышления Уокер, – я в восторге от «Еврейского папы». Прекрасный материал. Думаю, вы совершенно верно ухватили смысл моральной дилеммы, стоящей перед американскими евреями. Когда можно ожидать продолжения?
– Сразу же, как только мне удастся вышвырнуть из головы реанимируемую суку.
(Флосси так никогда и не смогла до конца поверить своим ушам.)
– Да вы что? – еле сдержался Билл. Низкий голос глухо дрожал от подавляемого гнева. – Ей через многое пришлось пройти, этой девочке, но все-таки она не сломалась и выжила. Пытается выжить.
– Я тоже немало перенес, дружище. Из-за нее, Билли. – Лоб и щеки покрылись испариной, руки дрожали; давайте поставим памятник «этой девочке».
– Вы-то, конечно, перенесли, – с холодным сарказмом произнес Уокер. – Своя рубашка, как говорится, ближе к телу.
Что относится и к другому белью. – Его губы презрительно дернулись.
– Как?! И это говорите мне вы, который…
– Мистер Уокер, Питер выбит из колеи происшествиями последних дней! – поспешно вклинилась между нами Флосси.
– Будем считать так, – сказал Билл и решительно направился к столику медсестры, крупной симпатичной девушки лет двадцати, до того тактично не обращавшей на нас внимания. – Я Уокер. Доктор Маас…
– Да, да. Пройдите к больной. Только ненадолго.
– Благодарю.
– Мистер Уокер, – приподнялась, заалев, со своего места медсестра, – не дадите ли и мне автограф?
– С большим удовольствием, – ответил он, склонившись над столом, – ваше имя?
– Джекки, просто Джекки. – Медсестра покраснела еще пуще.
Уокер подписался на подсунутом квитке и пошел в палату.
– Кто он? – спросил я у Флосси.
– Разве вы не знаете? – удивилась она. – Муж Морин. Между вами и этим… мистером Мециком.
– И по этой причине все хотят его автографов? – хмыкнул я.
– Вы серьезно?
– Вполне.
– Да он же из бостонской команды «Хантли – Бринклей»[145]145
Коллектив телевизионных журналистов компании ABC, которым руководили Чет Хантли и Дэвид Бринклей.
[Закрыть]! Репортажи с места событий для шестичасовых новостей. Его портрет напечатан на обложке последнего «Спутника телезрителя»! А раньше мистер Уокер играл в шекспировском театре.
– Тогда ясно.
– Питер, я уверена, что не Морин позвала его сюда. Не надо ревновать. Он просто хочет ей помочь по старой памяти.
– И это с ним она ездила в Пуэрто-Рико.
Деморализованная моим справедливым утверждением, Флосси лишь слабо повела плечами. Требовалась иная сила духа, чтобы удерживать в равновесии, как ей явно мечталось, силы натяжения, управляющие нашим сюжетом, в котором мисс Кэрнер увязла по уши. Она следила за коллизиями мыльной оперы; вдруг – бах! – является Фортинбрас. «Уберите трупы». Хорош шекспировский театр!
– В общем… – прервала Флосси затянувшееся молчание.
– И, должно быть, целом.
– Вы правы. В общем и целом, они, я так, во всяком случае, думаю, вместе были в Пуэрто-Рико. А с кем она еще могла поехать? После того, что было у вас с Карен…
– Понимаю, – сказал я, натягивая пальто.
– Но ревность неуместна. Они – как брат и сестра, ничего больше. Просто кто-то близкий протягивает руку помощи. Она давно поняла, клянусь вам, что его волнует только карьера. Он, конечно, может просить ее вернуться, хоть до второго пришествия умолять, но Морин никогда не свяжет судьбу с человеком, для которого не существует ничего, кроме работы. Это чистая правда. А с вами – свяжет. Совершенно уверена.
Выходя из больницы, я не воспользовался телефоном-автоматом, чтобы позвонить адвокату или Шпильфогелю. Я знал, как поступить, я видел выход и поэтому спешил. В квартире Морин на Семьдесят восьмой улице, всего в нескольких кварталах отсюда, наверняка найдутся свидетельства того, что она сознательно заманила меня в капкан. Морин вела дневник. Что, как в нем сохранилось описание аферы с мочой? Предъявим неоспоримую улику Мильтону Розенцвейгу, федеральному судье, стоящему, как одинокий форпост, на защите прав невинных и беззащитных женщин, обитающих в округе Нью-Йорк штата Нью-Йорк. Что скажете, ваша честь, на это – вы, всеми силами отметающий доводы представителей пола, к которому сами принадлежите? Боитесь обвинений в мужском шовинизме? О, я прекрасно помню дело, рассматривавшееся перед моим, – мы с адвокатом пришли тогда в суд заранее. Ответчик – некий Кригель фон Кригель. Когда я вошел в зал, он, грузный бизнесмен лет пятидесяти, с мольбой взывал к вам, отмахиваясь от своего поверенного, пытавшегося утихомирить клиента. Кригель, уверенный в беспристрастности справедливого суда, упрямо гнул свою линию.
– Ваша честь, мне прекрасно известно, что она живет в доме без лифта. Но это не мой выбор. Это ее выбор. На те деньги, которые ей выплачиваются, можно жить в доме с двумя лифтами. Я не могу построить ей лифт.
Судья Розенцвейг, который, благодаря целеустремленности, в годы юности выбрался из нью-йоркских трущоб и закончил юридический факультет; шестидесятилетний Розенцвейг, неплохо держащийся для своих лет низкорослый пузатый борец за изничтожение рода мужского, направляющий указательным пальцем раструб уха в сторону говорящего, словно стремясь не пропустить мимо своей евстахиевой трубы ни слова из потока чуши и глупости, адресованных суду, – судья Розенцвейг сохранял незыблемую высокомерно-презрительную мину. Казалось, престарелый фельдмаршал (пусть и в мантии) выслушивал докучные донесения о действиях войска, и без того ему наперед известных.
– Ваша честь, – не унимался Кригель, – я занимаюсь, как уже говорилось, переработкой птичьего пера. Я покупаю перо, сэр, и я продаю перо. На пере не заработаешь миллионы, что бы она ни утверждала.
– Однако на вас очень приличный костюм от «Хайки-Фримен»[146]146
Мужские костюмы, выполненные этой компанией, отличаются классическими стилем, высочайшим качеством и безупречной ручной обработкой деталей и элементов костюма.
[Закрыть], – отметил Розенцвейг, явно довольный этим внезапно открывшимся доказательством мужской низости. – Если глаза меня не подводят, он потянет долларов на двести.
– Ваша честь, – отвечал Кригель, протягивая к судье раскрытые ладони, будто предъявляя перья, предназначенные для переработки, – уважая суд, я не хотел являться сюда в обносках.
– Суд учтет это обстоятельство.
– Спасибо, сэр.
– Я не слеп, Кригель. У вас в Гарлеме есть собственность покрупнее той, что имеет Картер, ну, тот, пилюли для печени.
– У меня? Позвольте, не у меня, а у моего брата, Луиса Кригеля. Я – Джулиус.
– А ваша доля?
– Моя доля?
– Это ведь ваша совместная собственность?
– Только в некотором роде, ваша честь…
Затем наступил мой черед. Я не юлил, как Кригель, но Розенцвейг заподозрил бы в намерении обмануть суд хоть Томаса Манна, хоть Льва Толстого – и добился бы от них правды.
– Широко известный соблазнитель студенток… Как я должен это понимать, мистер Тернопол?
– Как гротеск, ваша честь.
– Уточните: вы не пользуетесь широкой известностью как соблазнитель или не соблазняете студенток?
– Я вообще никого не соблазняю.
– Но в исковом заявлении недвусмысленно говорится о ваших успехах на указанном поприще. Почему?
– Не знаю, сэр.
Мой адвокат, сидевший на скамье защиты, одобрительно кивал; инструкции, данные клиенту в такси по пути на заседание, неукоснительно выполнялись: «Ссылайтесь на незнание и непонимание… не выдвигайте встречных обвинений… не называйте ее лгуньей – только „миссис Тернопол“, и все… Розенцвейг очень сочувствует брошенным женщинам… не дайте спровоцировать себя… он туп как пробка и интересуется только буквой закона, а буква закона не одобряет, когда преподаватель трахается со своими студентками». – «Я никогда не трахался со своими студентками». – «Вот и отлично. Так ему и говорите. Внучка Розенцвейга учится в Бернард-колледже, понимаете? В совещательной комнате стоит ее фото. Друг мой, старый хрен исповедует в семейных делах добрый сталинский коммунистический принцип: „От каждого по способностям, каждой по потребностям“ – но с последующим возмездием. Помните об этом, Питер, ладно?» Я помнил; но всему же есть предел!
– Вы утверждаете, – зудел Розенцвейг, – что мистер Иген представил суду ложные сведения и сделал это со слов и при согласии миссис Тернопол. Так или не так?
– Если имеется в виду «широко известный соблазнитель студенток», то именно так.
– Тогда потрудитесь указать, что именно в обсуждаемом утверждении ложно. Я задал вопрос, мистер Тернопол. Жду ответа. Не задерживайте суд.
– Мне нечего сказать. Я ни в чем не чувствую себя виновным…
– Ваша честь, – вмешался адвокат, – мой клиент…
– У меня действительно, – не дал я заткнуть себе рот, – была любовная связь.
– Да? – расцвел в улыбке Розенцвейг, и указательный палец, управлявший ушной раковиной, победно взметнулся ввысь.
– Наконец-то заговорили! И с кем же?
– С девушкой из моей преподавательской группы, с девушкой, которую я любил…
Дальше было неинтересно. Признание решило исход процесса. Розенцвейгу стало ясно, кто виноват. Но на этот раз будет иначе. Откроется, на ком в самом деле лежит вина. И тогда я скажу! Я все смогу сказать!
Я скажу: «Ваша честь! Вы помните, конечно, что при прошлых наших встречах в суде я не выдвигал никаких обвинений в адрес миссис Тернопол. Мы с адвокатом решили, что это было бы некорректно и в конечном счете бессмысленно, ибо никаких вещественных доказательств чудовищного обмана, предпринятого в моем отношении, тогда не имелось. Мы с пониманием отнеслись к тому, что вы, ваша честь, не примете и не можете принять ничем не подкрепленных заявлений. Но сейчас, судья Розенцвейг, у нас есть собственноручное письменное свидетельство истицы, извлеченное из ее дневника. Итак, в марте 1959 года она путем сговора приобрела в Нижнем Ист-Сайде за два доллара двадцать пять центов (наличными) мочу у беременной негритянки (приблизительно сто граммов). Мы также располагаем неоспоримыми доказательствами того, что вышеуказанное мочевыделение было сдано для теста на беременность в аптеку на углу Второй авеню и Девятой улицы; при этом истица подложно представилась как миссис Тернопол»…
Нет, я не потерял память. Я прекрасно помнил неоднократные утверждения адвоката, что никакие свидетельства ее обмана не облегчат моего положения. И все-таки надеялся. Я найду, найду доказательства – и это заставит Морин притихнуть, заткнуться, исчезнуть из моей жизни! Хватит Питеру Тернополу выступать в роли исчадия ада, искателя приключений, безответственного мужа-дебошира, разрушителя домашнего очага в пекущемся об этом очаге государстве!
И действительно, повезло. Дверь ее квартиры, взломанная полицейскими, была приоткрыта; вокруг – никого. Да здравствует небрежение служебными обязанностями, царящее в городе городов! Я потоптался перед входом, проверяя реакцию соседей, – никто из них и не подумал выглянуть. Слава всеобщему безразличию Большого Яблока, в котором яблоку негде упасть! Вошел. Пушистая персидская кошка спрыгнула откуда-то на пол, приветствуя визитера. Здравствуй, Делия, приятно познакомиться. Между прочим, Морин, ничего изысканного в этой пушистости нет. А я и не говорю, что есть, – по привычке принялась отбрехиваться она, – изысканность в «Золотой чаше»[147]147
«Золотая чаша» – роман Генри Джеймса.
[Закрыть], а тут жизнь, не возвышенное искусство.