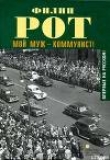Текст книги "Моя мужская правда"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
Но пока мы с Кеттерером окончательно не выяснили отношений, он искал во мне союзника. «Почему ты явился в два? – спрашивала Лидия – Мы ведь договаривались на пол-одиннадцатого утра!» Кеттерер оборачивался ко мне, разводил руками и говорил, как все понимающему родному брату: «Ох уж эти женщины». – «Идиотство! Кретинизм! – кричала в ответ Лидия. – Как такой мордоворот смеет рассуждать о женщинах? Или о мужчинах? Или детях? Почему ты привез ее так поздно, Юджин?» Он пожимал плечами и бубнил, глядя в сторону: «Не заводись», или «Хватит тебе», или «Ладно, Лидия, время назад не воротить». Или обращался ко мне: «Видишь, Нати? Вот оно как». Примерно то же самое повторялось воскресными вечерами, когда он приезжал за Моникой – либо слишком рано, либо слишком поздно. «Послушай, ну я же не часы. И никогда ими не был». – «Ты никогда ничем не был, потому что ты вообще ничто!» – «Да уж, я такой-сякой, зато ты – леди Годива. Без вас знаем». – «Ты садист, вот кто ты! Тебя нравится мучить меня, ну и бог с тобой. Но я не дам тебе мучить несчастного ребенка! Ты из года в год, воскресенье за воскресеньем издеваешься над нами! Ты – пещерный человек! Троглодит безмозглый!» – «Ладно, пора ехать, Гармошка, – такое прозвище он почему-то придумал девочке, – злой серый волчище повезет тебя домой».
У Лидии Моника целый сидела перед телевизором, не сняв шляпку, словно с нетерпением ждала, когда серый волк разлучит ее с любимой мамочкой.
– Моника, – говорила Лидия, – нельзя без конца таращиться в телевизор.
«Угу».
– Моника, ты что, оглохла? Уже три часа. Хватит на сегодня телевизора. Ты принесла домашние задания?
Не отрываясь от экрана: «Мои что?»
– Домашние задания на следующую неделю, чтобы мы позанимались?
Приглушенное бормотание: «Забыла».
– Но мы ведь договаривались! Я же говорила, что позанимаюсь с тобой. Ты сама не справляешься!
Резко: «Сегодня воскресенье».
– Ну и что?
Возмущенно: «Я что, и по воскресеньям должна заниматься?»
– Не смей так отвечать, прошу тебя. Ты и в шесть лет так не отвечала.
Сварливо: «А что такое?»
– Нельзя отвечать вопросом на вопрос. Папочкина манера… И пожалуйста, сядь нормально.
Злобно: «Я сижу нормально».
– Ты сидишь по-мальчишески. Если тебе нравится так сидеть, надень брюки. Или сиди так, как должна сидеть девочка.
Вызывающе: «Как хочу, так и сижу».
– Моника, давай повторим вычитание. Это можно сделать без тетради и учебника, раз уж ты их не принесла.
Умоляюще: «Но сегодня воскресенье!»
– Ты должна разобраться с вычитанием. Вот что тебе нужно, а не церковь. У тебя катастрофа с математикой. Моника, сними, наконец, шляпку! Я сказала, сию же минуту сними эту идиотскую шляпку! Уже три часа, ты что, весь день собираешься проторчать в этой шляпе?
Безапелляционно: «Моя шляпа – хочу и ношу!»
– Но это мой дом! А я твоя мать! И я велю тебе снять шляпу! Что за ослиное упрямство! Я твоя мать, Моника, и ты это знаешь! Я люблю тебя, а ты любишь меня! Помнишь, как мы играли, когда ты была маленькая?.. Сними шляпку, пока я не сорвала ее с твоей дурацкой башки!
Провокационно: «Только дотронься до моей головы, и я все расскажу папочке!»
– И не смей называть его папочкой! Не могу слышать, как ты называешь человека, который мучает нас обеих, папочкой! И сядь, как должна сидеть девочка! Ты что, оглохла? Сдвинь ноги!
Лживо: «Они и так сдвинуты».
– Нет, расставлены, и ты выставляешь всем напоказ свои панталоны. Чтобы больше этого не было! Ты уже не маленькая – сама ездишь в автобусе, ходишь в школу и, если уж носишь платье, должна вести себя соответственно. Нельзя все воскресенье сидеть у телевизора, раздвинув ноги, – особенно когда ты не знаешь, сколько будет два плюс два. Сколько будет два плюс два?
Философски: «Какая разница?»
– Большая! Ты можешь к двум прибавить два? Я хочу знать! Смотри на меня – я спрашиваю совершенно серьезно. Я должна выяснить, что ты знаешь и чего ты не знаешь, и с чего начать наши занятия. Сколько будет два плюс два? Отвечай.
Невнятной скороговоркой: «Актоегознает».
– Ты обязана знать! И говори четко, когда говоришь. Сколько будет два плюс два, отвечай!
Истерически: «Сказано же: не знаю! И отстань от меня!»
– Моника, а сколько будет от одиннадцати отнять один? Ну, отними от одиннадцати один. У тебя было одиннадцать центов, а кто-то забрал у тебя один, сколько осталось? Моника, дорогая, какое число стоит перед одиннадцатью?
Плаксиво: «Да не знаю я!»
– Знаешь!
Отмахиваясь: «Двенадцать».
– Ну откуда двенадцать? Двенадцать же больше, чем одиннадцать, а я спрашиваю, что меньше, чем одиннадцать. От одиннадцати отнять один – сколько получится?
Пауза. Размышление. Открытие: «Один».
– Нет! У тебя есть одиннадцать, и ты отнимаешь один.
Просветление: «A-а, отнимаю…»
– Ну конечно же, отнимаешь! Отнимаешь!
Решительно: «А у нас еще не было отнимания».
– Было! Должно было быть!
Стальным голосом: «Я не вру, у нас в школе Джеймса Мэдисона не было отнимания».
– Моника, это называется вычитанием — его изучают везде, в каждой школе, и вы не могли не проходить этого математического действия. Милая моя девочка, наплевать на шляпу, да и на твоего папочку тоже – с ним все кончено. Я думаю только о тебе и о том, что с тобой будет. Пойми, ты не можешь навсегда остаться младенцем, который ничего не знает. Иначе твоя жизнь станет ужасной. Ты растешь; ты должна знать, сколько центов в долларе и какое число стоит перед одиннадцатью; кстати, в будущем году тебе исполнится ровно столько лет; и ты должна сидеть как следует – пожалуйста, не сиди так, как сейчас, Моника, прошу тебя: не сиди так в автобусе и вообще на людях, ты ведь знаешь, как надо сидеть, а сейчас просто хочешь позлить меня, правда?
Обиженно: «Что ты такое говоришь?»
– Моника, ты уже почти взрослая. Почему они одевают тебя по воскресеньям, как пластмассового пупса?
Праведное негодование: «Это же для церкви».
– Для церкви! Зачем тебе церковь? Научиться читать и писать – вот что тебе надо. Моника, ты же понимаешь, я все это говорю только потому, что люблю тебя и не хочу, чтобы тебе было плохо. Я правда люблю тебя, знай! Не верь их россказням. Я не сумасшедшая и не лунатик. Ты не должна бояться меня или стыдиться – я была больна, но сейчас в порядке и просто прихожу в отчаяние оттого, что отдала тебя ему. Я думала, он даст тебе нормальный дом и нормальную семью и все остальное, необходимое маленькому ребенку.
А вышло, что у тебя вместо матери – надутая особа, которая одевает девочку черт-те как и подсовывает ей Библию, а ты и прочесть-то не можешь, о чем там написано! А вместо отца у тебя этот тип. Надо же, сколько отцов есть на свете, а тебе достался именно он!
Все это я имел счастье слушать, попивая в кухне остывший кофе. Вдруг раздались пронзительные вопли Моники, и я пулей влетел в комнату. Оказалась, что Лидия, подчеркивая интимность и важность своих слов, приобняла дочь. Девчонка поняла ее жест своеобразно.
– Я хотела только приласкать тебя, – заплакала Лидия.
Мое появление в гостиной подтвердило худшие опасения Моники. Она заорала как резаная, разинув рот во всю ширь: «Не надо! Не надо! Два плюс два будет четыре! Только не бейте меня! Перед одиннадцатью стоит десять!»
Подобные сцены разыгрывались у нас каждое воскресенье по два, а то и по три раза на дню. Какая-то нелепая смесь мыльной оперы (никуда от этого жанра не деться), Достоевского и запомнившихся с детства рассказов бабушек о нравах и повадках польских крестьян – корни моей семьи тянулись оттуда, и старшее поколение еще не забыло тамошнюю жизнь. Из мыльной оперы был демонстративный, немного даже с перебором, накал чувств (уж тут если вражда, так вражда, если любовь, так любовь). Правда, зритель, отделенный от происходящего экраном, может, опираясь на логику, здравый смысл и собственный опыт, сохранять эмоциональный комфорт, воспринимая драматические коллизии с чувством юмора – тем более, что и участники мыльных опер его, как правило, не до конца теряют. Иное дело – Достоевский. У него в эпизодах, напоминающих наши воскресенья, сам воздух, кажется, пропитан духом смертоубийства – какие уж здесь юмор и здравомыслие. Конечно, тема домашних заданий, доводящих родных по крови людей до взрывоопасного уровня противостояния, – тема не «Идиота» или «Братьев Карамазовых», в ней есть что-то специфически американское, но, наблюдая за разворачивающимся ежевоскресным сюжетом, трудно было предположить, что он может разрешиться без пожарища с обгорелыми трупами, пистолетной стрельбы, удавки и топора. И это даже имея в виду, что Моника проявляла невообразимое тупое упрямство в основном для того, чтобы продемонстрировать мне свою неприязнь. Я без особого труда мог представить ее с ружьем в руках – пиф-паф, и ты покойник, и никакого вычитания. Но Лидия, Лидия! Она, чуть ли не с помощью дубинки внушающая ребенку правила хорошего тона, приводила меня в форменный ужас.
Воспоминания о бабушкиных рассказах вызывал у меня Кеттерер. Жестокость и бездушие, царящие в гойских семьях. «Их» пьянство, «их» жесткость, «их» извечная ненависть к нам. Лютые звери и невинные жертвы. Волосы встают дыбом. Удивительное дело, но в детстве реакцией на эти истории стало у меня неприязненное отношение к еврейским сверстникам, особенно к тем, кто был слаб физически, кто своим видом напоминал об изгойстве, кто ходил с видом побитой собаки. Как я. Повзрослев и избавившись от своих бесконечных детских болезней, нарастив мускулы, я уже и слушать не хотел семейные повествования о вековечном еврейском страдании. В них описывалась правда, это так. Я не мог оспорить факты. И гетто, и концентрационные лагеря без всяких преувеличений существовали, спору нет. Но, говорил горячащийся подросток, я родился евреем не в Нюрнберге двенадцатого века, не в Мадриде пятнадцатого, не в Лемберге девятнадцатого, а в штате Нью-Джерси в тот год, когда Франклин Рузвельт приступил к исполнению своих обязанностей, – и так далее… Сейчас подобного рода речи в устах американского подростка из семьи эмигрантов второго поколения никого не удивят. Твердость, с которой я стоял на избранной позиции, давала иногда довольно забавные результаты. К примеру, когда моя сестра первый раз вышла замуж, я прекрасно понимал, что ее избранник – совершенно ничтожный тип. Ни его вид, ни его манеры мне, пятнадцатилетнему подростку, ничуть не импонировали вечно закатанные рукава белой рубашки на волосатых руках, светлые мокасины телячьей кожи, массивное кольцо из дешевого золота, раздражающая привычка за разговором постоянно поглаживать что-нибудь вертлявыми пальцами: портсигар, собственные волосы, щеки молодой супруги, – ничего хорошего не было в этом женоподобном бездельнике. И тем не менее я горячо спорил с родителями, считая, что они не одобряют Сонин выбор только потому, что зять – католик. А она имеет полное право выйти замуж хоть за язычника. Отец с матерью не стали со мной объясняться по этому поводу. Прошло немного времени, и, конечно, стало ясно: родители были совершенно правы в своих печальных предчувствиях. То, что я считал предубеждениями, оказалось житейской мудростью; оба Сониных брака обернулись дурацкой ошибкой – и не из-за одного лишь ее пристрастия к итальянским мальчикам из Южного Фили. Но понял я это спустя годы, поднабравшись собственного опыта.
Понял, но, видимо, не до конца. Сестра не желала слушать родителей – а я? Я был еще более упрям, чем она, – еще более, ибо в отличие от Сони вполне осознавал, что делаю. Во всяком случае, чувствовал. Судьба Лидии полностью соответствовала духу бабушкиных рассказов об ужасах, творящихся в гойских семьях. Разумеется, ребенку не повествовали об изнасилованиях и кровосмешениях, но дух, повторяю я, дух. История Лидии не потрясла бы ни одну из моих бабушек так, как меня, университетского профессора: они видывали и слыхивали не такое. Мать, ведущая себя не по-матерински; отец, ведущий себя не по-отцовски; жуткие в своем занудстве тетки – ну и что? У гоев такое случается сплошь и рядом. Но куда смотрит Натан? Он что, ослеп? Нет, нет, я понимал. Однако если Сонины избранники были совершенно довольны собой и своими корнями, то Лидия, которую я выбрал, испытывала отвращение к собственной наследственности. Она заплатила немалую цену за отречение от прошлого – оно довело ее до помешательства, это прошлое; она жила для того, чтобы окончательно с ним расквитаться, написать о нем, написать о нем для меня.
А Кеттерер и Моника, вошедшие в мою жизнь вместе с Лидией, оставались плотью от плоти того мира, в котором существовали их предки. Это были типичные бабушкины, прабабушкины, прапрабабушкины «они»: жестокие, неразборчивые, хладнокровные. Гой и малолетняя шикса. Страшилки из еврейского прошлого – только реальные, как Сонины сицилийцы.
Конечно, я не мог оставаться зрителем творившейся на моих глазах катавасии. Нужно было что-то предпринять. Сначала я только утешал Лидию после учебно-воспитательных взрывов; потом уговаривал оставить Монику в покое вместе с ее раздвинутыми ногами и дурацкой шляпкой и попробовать наслаждаться воскресным общением с дочерью. О том же говорила и доктор Рутерфорд, но наши совместные усилия пропадали втуне, несмотря на доверие, которое в других вопросах испытывала к нам Лидия. Она продолжала обрушивать на девочку лавину поучений и наставлений, язвить насчет ее познаний в грамматике и арифметике, обсуждать ее одежду и осуждать манеры, так что к концу дня мать и дочь находились на грани полного морального и физического истощения. Затем приезжал Кеттерер и увозил Монику в свою берлогу – на окраину Чикаго, в Хоумвуд.
Пытаясь изменить ситуацию, я принял на себя обязанности учителя воскресной школы. Если, конечно, в выходной меня не валила с ног мигрень. И Моника стала проявлять некоторый интерес – если, конечно, была в настроении. Я обучал ее вычитанию (отниманию), сложению, заучивал с ней названия штатов, рассказывал о разнице между Атлантическим океаном и Тихим, Вашингтоном и Линкольном, запятой и тире, предложением и абзацем, минутной и секундной стрелками. С часами получалось даже весело: Моника изображала стрелки руками.
Мы выучили стихотворение, которое я сочинил сам в пять лет, лежа с очередными соплями; родители считали его большим поэтическим достижением: «Тик-так, проходят годики, я не Натан, а ходики». Моника переделала стишок на свой лад: «Тик-так, проходят годики, не Муни я, а ходики». А теперь покажи девять пятнадцать. О, я не напрасно выбирал такое время: руки в стороны, и белое крахмальное платье, с каждым месяцем все более тесное, платье для церкви, четко обрисовывало едва сформировавшиеся холмики грудей. Кеттерер начал меня ненавидеть, Моника влюбилась в меня, а Лидия видела во мне последнее средство спасения. И она спаслась-таки от преследовавших ее жизненных невзгод, а я, благодаря Извращенности, или Изощренности, или Безгрешности, или Безутешности, или Скрытой Ярости, или Грядущей Старости, или Самоедству, или Счастливому Детству, или Житейскому Опыту, или Душевному Ропоту, или Безрассудству, или Паскудству, или Сомнамбулизму, или Героизму, или Иудаизму, или Мазохизму, или Мыльной Опере, или Стильной Опере, или Наплевательству, или Писательству, или ничему этому не благодаря, а может быть, благодаря этому и еще много чему, обрел путь к самому себе. Я не находил его, блуждая по закоулкам собственного сознания после ужинов в университетской столовке, не находил в букинистической лавке, где ради своей мечты о личной библиотеке растратил за годы сотни долларов – растратил с той же легкостью и беззаботностью, как и время, отпущенное на взросление и возмужание.
2. ИСТИННАЯ ПРАВДА
Питер Тернопол родился в Йонкерсе, штат Нью-Йорк, тридцать четыре года назад. Здесь он закончил среднюю школу, а затем, в 1954 году, с отличием завершил высшее образование в Броуновском университете. Недолго проучившись в аспирантуре, он затем два года служил в частях военной полиции армии США во Франкфурте (Германия), ставшем местом действия его первого романа «Еврейский папа»[70]70
«Еврейский папа» – название романа созвучно с еврейской народной песней «Моя еврейская мама», прославляющей самоотверженность еврейской матери, ее доброту и заботу о детях.
[Закрыть], за который в 1960 году Тернополу была присуждена премия Американской академии искусств и литературы и стипендия Гуггенхейма.Позже он опубликовал всего лишь несколько рассказов, посвященных в основном описанию кошмара, каким оказался брак с Морин Джонсон из Элмайры, штат Нью-Йорк, заключенный не в добрый час и сдуру. Миссис Тернопол в течение своей жизни последовательно была барменшей, художницей-абстракционисткой, скульпторшей, официанткой, артисткой (да еще какой!), писательницей и все это время – лгуньей и психопаткой. В 1959 году началось их супружество, а с 1962 года – раздельное проживание в соответствии с судебным решением: Мильтона Розенцвейга, судью Верховного окружного суда штата Нью-Йорк, особенно впечатлило заявление миссис Тернопол о том, что ее муж «широко известен как соблазнитель студенток». (Мистер Тернопол преподавал литературу и литературное творчество в университете штата Висконсин, а позднее в университете Хофстра на Лонг-Айленде.) Брак прекратился в 1966 году по причине скоропостижной смерти супруги. На момент кончины она чинилась безработной и посещала сеансы групповой психотерапии на Манхэттене; муж выплачивая ей по сто долларов еженедельно в качестве моральной компенсации.
С 1963 по 1966 год у мистера Тернопола был роман со Сьюзен Сибари Макколл, молодой манхеттенской вдовой; когда трехлетняя связь стала видимо ослабевать, миссис Макколл попыталась покончить с собой, но неудачно – и сейчас ведет безрадостное существование в Принстоне, штат Нью-Джерси, вдвоем с матерью, которую терпеть не может. У миссис Макколл, как и у мистера Тернопола, нет детей, но она, пока ее время еще не вышло, страстно желает завести ребенка – причем обязательно от мистера Тернопола. Перспектива повторной женитьбы, а также некоторые другие аспекты ситуации пугают последнего.
С 1962 по 1967 год мистер Тернопол пользовался услугами доктора Отто Шпильфогеля, психотерапевта из Нью-Йорка, публикации которого о творческой деятельности и связанных с этим неврозах часто появляются в журналах, особенно часто – в довольно солидном «Американском форуме психотерапевтических исследований». По мнению психотерапевта, мистер Тернопол принадлежит к группе лиц, страдающих нарциссизмом в ярко выраженной форме, что, в общем и целом, характерно для деятелей искусства. Шесть месяцев назад мистер Тернопол отказался от услуг доктора Шпильфогеля и, взяв отпуск, обосновался в колонии Квашсай, благотворительном восстановительном центре для писателей, художников, скульпторов и композиторов, расположенном в тихом уголке штата Вермонт. Здесь большую часть времени он проводит в одиночестве, денно и нощно размышляя о своей жизни. Выводы мистера Тернопола в основном весьма неутешительны, а мысли о покойной супруге до сих пор приводят его в состояние чрезвычайного нервного возбуждения.
Мистер Тернопол давно подумывал временно отойти от художественной прозы и приступить к написанию автобиографии. Однако не спешил с этим, не вполне уверенный в целесообразности и полезности задуманного труда. Сомнения были вызваны не только тем, что публикация сугубо личного материала породит серьезные проблемы этического, если не юридического свойства. Мистер Тернопол опасался напряжением памяти и строгим следованием за фактами усугубить некоторые навязчивые идеи, и без того мучающие его. Тем не менее пришло время проверить, может ли беспристрастная истинная правда расставить вещи по своим местам, сумеет ли она в отличие от художественных приемов (и психотерапевтических приемов доктора Шпиль-фогеля) избавить автора от чувства собственного крушения – чувства гнетущего и явно несоразмерного.
П. Т.Квашсай, Вермонтсентябрь 1967 г.
ПЕППИ
Изменилось ли хоть что-нибудь?
Я сейчас говорю не о внешности (хотя ее тоже нельзя пренебрежительно сбрасывать со счетов: внутреннее и внешнее взаимосвязаны). Как сравнивать сегодняшнего мужчину тридцати четырех лет с тогдашним юнцом, который летом 1962 года самым серьезным образом собирался, пусть и под влиянием порыва, покончить собой? Впервые переступив в тот июньский день порог приемной доктора Шпильфогеля, я и не предполагал, что через минуту переступлю через гордость и стыд, откажусь от всех претензий и амбиций и, закрыв лицо руками, стану оплакивать уходящие силы, исчезающую уверенность в себе и гибнущую веру в будущее. В то время я был (какое счастье, что этот глагол можно поставить в прошедшем времени!) женат на женщине, к которой испытывал как минимум брезгливость. Избавиться от этой особы я не мог. Мастерица шантажа, она, как никто, умела придавать мелким семейным неурядицам накал высокой драмы, превращая сущие пустяки в вопросы жизни и смерти, окрашивая банальнейшие коллизии в краски зловещей драмы, как это принято в вечерних телевизионных сериалах и беллетристических публикациях журнала «Нэшнл энкуаейр», – а я всегда, как малое дитя, попадался на одну и ту же удочку. За два месяца до упомянутого визита к Шпильфогелю я узнал, к какой изобретательной стратегии прибегла она три года назад, чтобы заставить меня жениться. Морин сама поведала об этом. Откровенность накатила на нее после очередной суицидной попытки – она профилактически предпринимала их примерно каждые полгода. Ее рассказ лишил меня последних надежд и иллюзий; мне еще не приходилось испытывать подобного унижения. Я был раздавлен и смят; все сделалось безразлично; существование продолжалось как бы по инерции.
Вскоре мне пришлось поехать из Висконсина на Восточное побережье: двухнедельный семинар по литературному творчеству в Бруклин-колледже. Заниматься вопросами искусства отправлялся живой труп, не ощущавший привязанности ни к чему в этой жизни – разве что, как оказалось, к ней самой. В один из нью-йоркских дней я внезапно почувствовал необходимость ухватиться за ограждение на платформе метро – меня так и тянуло вниз, где рельсы. Пока поезд не прошел станцию и не скрылся из виду в туннеле, я стоял, изо всех сил вцепившись в металл ограды. «Ты завис над пропастью на вертолете, – твердил я себе. – Держись!» Чуть успокоившись, но так и не ослабляя судорожной хватки, Питер Тернопол бросил косой взгляд на поездные пути, только что соблазнительно предлагавшие ему из трупа живого превратиться в полноценный мертвый труп. Смешно! У тебя едва хватает духа глянуть на рельсы, где уж тут шагнуть с платформы! Я и сам до сих пор не знаю, что остановило меня в тот день от самоубийства. То ли некая небесная длань, в последний момент по-отцовски ухватившая оступившегося маленького Питера за шиворот, то ли собственная рука, рефлекторно схватившаяся за ограду при приближении поезда, потому что я слишком привык жить и в глубине души не так уж жаждал забвения, обещанного рельсами.
На открытии семинара в большой аудитории Бруклин-колледжа присутствовало больше сотни студентов; каждому из четырех членов оргкомитета предоставлялось по пятнадцать минут для вступительного слова. Когда очередь дошла до меня, я не смог промолвить ни звука. Стоял за кафедрой, смотрел на зал, перебирал листочки с тезисами; в легких – вакуум, в гортани – Аравийская пустыня. По аудитории пошли смешки, переходящие в общее недоуменное шушуканье. Единственное, чего мне по-настоящему хотелось, так это уснуть. Усилием воли я продолжал бодрствовать и даже пару раз открыл рот – словно рыба, выпрыгнувшая из воды. Я был вне себя; я был вообще вне всего; я был сплошным сердцем; сердце бухало, как тамтам: там-там. Постояв еще немного, я поклонился и покинул кафедру. И службу. Незадолго до того в Висконсине, проведя весь уикенд в непрерывном скандале с женой… О, это была выдающаяся склока: Морин не понравилось, что в пятницу я слишком долго любезничал на вечеринке с хорошенькой аспиранткой; но я, во-первых, не любезничал, а говорил о деле; во-вторых, не слишком долго (хотя, конечно, понятие времени относительно). Нервотрепка завершилась лишь в понедельник утром: благоверная, впившись ногтями (когтями) мне в руку, исцарапала ее до крови, и я ушел. Посреди литературного семинара со старшекурсниками (с семи до девяти вечера) Морин появилась в дверях аудитории. «У тебя еще есть шанс!» – проинформировала она меня – и остальных. Все десять студентов, в основном уроженцы Среднего Запада, уставились сначала на нее, грозно стоявшую руки в боки, а потом – с глубоким пониманием – на мою руку, густо расписанную зеленкой. («Кот», – объяснил я им перед началом занятия, подчеркивая блуждающей улыбкой извинительность проступка, совершенного вымышленным представителем семейства кошачьих.) Я бросился к Морин и оттеснил ее в коридор, прежде чем она успела добавить хоть что-нибудь. «Сейчас же иди домой, – произнесла вытесненная супруга тоном библейского пророка, – нечего тебе здесь делать среди блондинистых профурсеток!» – «Убирайся, – прошипел я, – пошла вон, пока тебя не спустили с этой чертовой лестницы! Сейчас я тебя убью!» С этими словами Питер Тернопол резко повернулся на каблуках и тут с ужасом понял, что, выталкивая незваную гостью, в спешке оставил дверь открытой. Толстушка из Эплтона, типичная фермерская дочка, не сказавшая за весь семестр ни одной внятной фразы, настежь распахнутыми глазами неотрывно смотрела на Морин, мрачно застывшую за моей спиной; остальные студенты с пристальным интересом листали «Смерть в Венеции» – ни одна книга еще не привлекала столь сильного их внимания. «Итак, – промямлил я, с грохотом захлопнув проклятую дверь, – почему Манн отправил Ашенбаха в Венецию, а, скажем, не в Париж, или в Рим, или в Чикаго?» На глазах эплтонской пышки появились слезы, а остальные наперебой принялись высказывать предположения, отвечая на мой вопрос, – никогда раньше за ними не наблюдалось такой активности. Почему я об этом вспомнил? Потому что, взойдя на кафедру в Бруклин-колледже, я вдруг увидел Морин в проеме дверей запасного выхода; мне ясно представилось, как она, перекрывая криком вступительное слово, начинает истерически сыпать разоблачениями, касающимися моей низменной натуры. Я не тот, за кого себя выдаю: не успешный писатель, не филолог, чьи соображения о литературном процессе имеют существенное значение, не профессор, а самозванец (и это еще самое малое, что можно сказать). Вот тут-то мне и захотелось уснуть, и ни слова не вырвалось из моих запечатанных позором уст. Что бы я ни произнес, какими бы трюизмами и тривиальностями ни потчевал аудиторию, Морин будет кричать: «Ложь! Гнусная самовлюбленная ложь!» Я стану (как и намеревался) цитировать Конрада, Флобера, Генри Джеймса, а она – вопить: «Обманщик! Оборотень! Тать в нощи!» И я молчал. И сто человек видели, что, сходя, во всех смыслах слова, со сцены, я ощущал страх, только страх и ничего кроме страха.
Мое собственное творчество целиком и полностью отражало в тот период наш семейный кавардак. По пять-шесть часов в своем университетском кабинете я без устали заправлял в пишущую машинку один лист за другим. Клавиши стучали, и из-под них появлялись на свет по-графомански бесцветные строчки и абзацы. Мое воображение иссякло; я сумел бы, наверное, недурно составить инструкцию по эксплуатации производственного оборудования или использованию стирального порошка (возьмите мерный стаканчик и отмерьте нужное количество содержимого коробки). Или, наоборот, фрагменты оказывались столь фантастичны, клочкообразны и бессвязны, что я сам ничего не мог в них понять; меня так и тянуло прочь из кабинета; я казался себе роденовским мыслителем, сгорбившимся в мучительном вопросе: «Кто сочинил всю эту чушь и где я был, пока она писалась?» Вопрос оставался безответным.
Килограммы страниц, накопившихся за время нашего брака, были в основном этому браку и посвящены. Зверек попал в капкан. Как выбраться? Не перегрызать же, в самом деле, ногу. Но зверек к тому же еще мнил себя писателем. Поэтому, перебирая способы спасения, он отстукивал их передними лапами на пишмашинке, намереваясь придать проблеме очертания романа. За три года я придумал сотни три выходов из ситуации; каждый новый требовал кардинального изменения сюжета. В результате месяц за месяцем на столе скапливались разнообразные варианты первой главы, не имеющей надежды быть когда-нибудь оконченной. Я буквально сходил с ума. Периодически я собирал отпечатанные страницы и запихивал их, не боясь помять, в картонную коробку из-под винных бутылок, которая отправлялась в чулан, где уже хранились несчетные детища моих жалких фальстартов. И – снова за работу, опять начиная с первой фразы. Сколько сил я тратил на характеристики героев! (Увы, и сейчас трачу не меньше.) Менялись сюжетные коллизии, места действия, цвет моих глаз, цвет ее волос, второстепенные персонажи (родители, любовницы, враги и союзники), что-то появлялось из ничего, что-то исчезало бесследно, но по существу все пребывало на прежнем месте. А я вновь и вновь бросался в холодные просторы прозы с отчаянием мономана, пытающегося растопить полярные льды собственным дыханием. Конечно, куда разумней было бы выбросить из головы навязчивую идею. Но (считал я) не написав о том, что меня убивает, нельзя изменить сложившееся положение вещей и выжить.
Подведем итог: творческая импотенция, плюс невозможность наладить семейную жизнь, минус окончательная потеря профессиональных позиций, занятых на третьем десятке, – так сложились условия неразрешимой задачи, обдумывая которую я выбрался из большой аудитории Бруклин-колледжа и, не чувствуя ничего, даже стыда, механическим шагом лунатика побрел ко входу в метро. На мое счастье, поезд уже стоял у платформы, заполняясь пассажирами. Смешавшись с ними, я без приключений влился в вагон. Лучше уж мне ехать в поезде, чем поезду по мне. Через час я добрался до станции «Коламбиа-кампус», в нескольких кварталах от которой жил мой брат Моррис.
Его сын Абнер, удивленный и обрадованный моим приездом в Нью-Йорк, открыл бутылку содовой и приготовил бутерброд с копченой колбасой. Почему не в школе? «Простудился, – ответил он сиплым голосом. – Дядя Пеппи, а ты знаком с Ралфом Эллисоном?[71]71
Эллисон Ралф Уолдо – американский писатель (по профессии учитель), известность которому принес единственный написанный им роман «Невидимка» (1952).
[Закрыть]» (За ланчем Абнер читал «Невидимку».) «Шапочно», – ответил я и завыл, как раненое животное (никогда не предполагал, что способен исторгать из себя такие звуки); слезы хлынули потоком. «Дядя Пеп, что с тобой?» – «Вызови отца». – «Он на занятиях». – «Вызови его, Абби. Мальчик позвонил в университет: „Передайте мистеру Тернополу: его брат очень болен!“» Моррис мигом примчался. К этому времени я стоял на коленях перед унитазом, каждые пять минут отдавая поклоны приступам рвоты. Меня, словно заплутавшего полярного путешественника, сотрясала неукротимая дрожь, а по лицу при этом рекой лился пот. Мо с необыкновенным для двухсотфунтового тела проворством опустился на кафельный пол рядом со мной. Он гладил мои безвольно висящие руки, слегка колкой щекой касался моего покрытого испариной лба. «Пеппи, Пеппи, все будет хорошо, Пеп», – успокаивал он меня, как в далеком детстве.