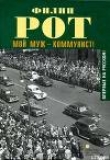Текст книги "Моя мужская правда"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
Нет, правда: вот везение так везение! На обеденном столе – общая школьная тетрадь, в которую Морин имела обыкновение заносить то, что называла своими мыслями. Обычно она портила бумагу сразу после очередной перебранки. Имей в виду, Питер, в дневнике отражено все – и кто начинает скандалы, и кто из нас сдвинулся. И в Риме, и в Висконсине она старательно припрятывала тетрадь: это моя личная собственность, Питер, и попробуй только сюда сунуться – подам в суд! А сама без малейших угрызений совести вскрывала адресованные мне письма: «Мы – жена и муж. Какие могут быть тайны? Или тебе есть что скрывать?» Нет, тебе есть что скрывать! Я бросился к дневнику, будто обнаружил клад.
«15.08.58». Самое начало наших отношений. «Пытаясь правильно оценить себя, нужно учитывать впечатление, которое производишь. По трезвой оценке, воздействие моей личности среднее». И дальше в том же духе, описание средней неотразимости ее личности. Глубина мысли на уровне пятого класса. «Я могу быть достаточно остроумной и привлекательной и, мне кажется, если повезет, добьюсь своего».
Следующая запись: «Четверг, 9 октября 1959 года». Мы уже женаты, живем за городом – небольшой домик в окрестностях Нью-Милфорда. «Прошел почти год…» В самом деле. А где же история с мочой? Неужели она догадалась вырвать нужную мне страницу?
«…мое существование стало совсем другим. Просто удивительно, как мы меняемся в зависимости от обстоятельств. Все еще продолжается ужасная депрессия, но я тем не менее смотрю в будущее с оптимизмом и только в самые черные моменты думаю о самоубийстве. Вижу его в подробностях, хотя и не решусь на этот шаг, уверена. П. сейчас нуждается во мне больше, чем когда-либо, хотя и не говорит. Со мной он окунается в реальность, волей-неволей выходит из-за каменной спины своего Флобера. Как П. вообще пишет, зная лишь то, о чем прочитал в книгах? Иногда я пугаюсь: слепорожденный сноб! Почему он все время отталкивает меня? Я могла бы стать его музой, а он обращается со мной, как с врагом. Моя цель – сделать П. лучшим в мире писателем. Он же сопротивляется как может – и в этом заключена жестокая ирония».
Где же та страница, куда она подевалась? Эй, Морин, расскажи, как случилось, что П. стал нуждаться в тебе «больше, чем когда-либо»!
«Мэдисон, 24 мая 1962 года». Месяц с того дня, когда она подслушала мой телефонный разговор с Карен, всего месяц. Следом таблетки, бритва, признание про мочу. Читать стало тошно. До этого я стоял, опершись на стол, теперь сел. Трижды перечитал запись, датированную 24 мая 1962 года. «Почему-то» – почему-то!..
«Почему-то П. испытывает ко мне враждебность; стоит нам оказаться лицом к лицу, она становится прямо-таки ненавистью. Отчаяние и безнадежность, состояние полной безысходности. Я люблю П., мне нравится наша совместная жизнь; нет, не так: мне нравится наша жизнь, какой она могла бы стать, не будь он таким неврастеником. Но он именно такой. Грустно, грустно. Холодность П. растет с каждой минутой. Его неспособность любить просто пугает. Он не прикасается ко мне, не целует, не улыбается – ничего; я люблю, но люблю одна. Как это надоело! Хочется покончить со всем, совсем покончить. Жизнь – не набор догм и правил, в чем по своей наивности уверен П. Надо бы собраться с силами, добраться до причин его невроза, уговорить пройти курс психотерапии – ведь он действительно ненормальный. Но лечение потребует долгих лет, я не выдержу. Иногда думаю: пусть П. бросит меня – и неминуемым образом найдет спутницу жизни себе под стать, озабоченную только собственными проблемами. То-то удивится! То-то добрым словом вспомнит обо мне! От души этого ему желаю. Но не себе. Потому что, если так случится, если он не одумается, моя звезда, может быть, взойдет, зато сердце навсегда окаменеет. Это не принесет мне радости».
«78-я улица, 22.03.66». Предпоследняя запись, сделанная всего три недели назад, после очередной встречи в суде. После Розенцвейга. После назначения алиментов. После двух мучительных финансовых экспертиз. После Игена. После Валдуччи. Через четыре года после разрыва. Через семь лет после мочи. Вот эти слова, слово в слово.
«Как быть? Куда деваться? Питеру на меня начихать. И всегда так было! Он и женился-то из идейных соображений. Господи! Все стало абсолютно ясным. Какая дура! Если эту унизительную ясность дала мне группа, лучше бы я в нее не ходила. Полюбите меня! Полюби меня кто-нибудь: меня, а не идиотское представление обо мне, с которым (каждый по-своему) имели дело Мецик, Уокер и Тернопол. Мне только любви и не хватает, чтобы выжить».
И последняя запись. Предсмертная записка. Никому и в голову не пришло искать прощальное письмо среди дневниковых записей. И почерк, и стиль свидетельствовали о начавшемся действии таблеток. Прощальное письмо самой себе:
«Мерилин Монро Мерилин Монро Мерилин Монро Мерилин Монро кому нужна Мерилин Монро такая Мерилин такая как я Мерилин»
И все. Написав это, она добралась до кровати и почти умерла, как Мерилин. Почти.
Стоя на пороге, на меня смотрел полицейский, уж не знаю, сколько времени. С револьвером в руке.
– Не стреляйте! – закричал я.
– Почему бы нет? – спросил он. – Встать!
– Да-да.
Я вскочил со стула и застыл на негнущихся ногах. Меня пошатывало. Питер Тернопол поднял руки. Так уже когда-то было. Восемь лет. На поясе портупея с пустой кобурой. Мне в ребра упирается дулом японское пластмассовое ружье, отличное оружие для охоты на шоколадного зайца. Лучший друг Барри Эдельштейн, весь покрытый ссадинами и в залихватском сомбреро, грозно цедит сквозь зубы, подражая Сиско Киду[148]148
Сиско Кид (Малыш Сиско) – герой фильмов о Диком Западе, борец со злом и несправедливостью.
[Закрыть]: «Руки вверх, amigo[149]149
Amigo – друг, приятель (исп.).
[Закрыть]». Полезная подготовка к перипетиям, ожидающим в мужской жизни.
– Питер Тернопол, – торопливо представился я, – муж Морин Тернопол. Это ведь ее квартира? Мы проживаем раздельно. Законно, по решению суда. Я зашел за зубной щеткой и кое-какими другими мелочами для нее. Моя жена в больнице…
– Я знаю, кто в больнице.
– Вот видите! Она – в больнице, а я – ее муж. Дверь была открыта. И никого. Я решил, что надо посторожить. Ведь кто угодно может войти. Сидел здесь и читал.
Полисмен продолжал торчать в дверях, не убирая револьвера. Ошибка, опять прокол. Я ни за что не должен был говорить ему о раздельном проживании, я ни за что не должен был говорить Розенцвейгу о романе с Карен, я ни за что не должен был говорить Морин: «Будь моей женой». Последняя оплошность – самая первая в списке по значимости.
Я добавил еще что-то по поводу сломанного замка и слесаря.
– Сейчас придет, – успокоил меня полицейский.
– Сейчас? Очень хорошо. Хотите, чтобы я предъявил водительское удостоверение?
– Оно при вас?
– В бумажнике. Можно достать?
– Валяйте, только медленно и без резких движений, – произнес он гораздо дружелюбней, убрал револьвер и вошел в комнату. – Я буквально на минуту вышел за кока-колой. Тут в холодильнике тоже есть, но по инструкции брать нельзя.
– Ну что вы! Никто бы и не заметил. Что каблуки стаптывать?
– Слесарь недотраханный, – буркнул он, глядя на часы.
Только теперь я толком разглядел полисмена и поразился его молодости: курносый мальчишка, каких полно на любой станции подземки, только с оружием и полицейским значком на форменной куртке. Чем-то похож на Барри Эдельштейна. Юный представитель закона старался не встречаться со мной глазами. То ли был смущен тем, что выхватил пистолет, будто герой вестерна, то ли задним числом раскаивался в грубости по отношению к невинному взрослому человеку, или чувствовал себя неудобно при свидетеле своего ухода с поста. Еще один представитель мужского пола, оконфузившийся при исполнении возложенных обязанностей.
– Значит, – полувопросительно сказал я и сунул под мышку дневник, – беру зубную щетку, кое-что еще и ухожу…
– Не обращайте внимание на матрас. – Мой полувопрос остался без ответа. – Конечно, это против инструкции, но уж больно противно он вонял. Я взял немного средства «Аякс» и немного «Мистер Клин». Поэтому матрас мокрый. Зато не пахнет. А пятен не будет, фирма гарантирует.
– Что вы, что вы, большое спасибо. Очень любезно с вашей стороны.
– Моющие средства я поставил на место – в шкафчик под кухонной раковиной.
– Прекрасно.
– «Мистер Клин» хорош в деле.
– Да, я слышал. Так я возьму вещички и пойду. – Мы стали почти друзьями.
– А ваша жена – кто? Актриса?
– Можно и так сказать.
– На телевидении?
– Нет, просто изображает всякое.
– На Бродвее?
– А где придется.
– Точно, чтобы пробиться на Бродвей, нужно время. Наверно, ей надоело ждать.
Я вошел в спальню, узкую клетушку, в которой теснились постель, столик с лампой и шкаф. Его дверца открывалась лишь наполовину – мешала кровать. Пришлось шарить на ощупь. На плечиках попалась ночная рубашка. «Ага, вот она, – не оборачиваясь, сообщил я оставшемуся в комнате полисмену, – жена так и говорила». Для натуральности со скрипом выдвинул ящик столика.
Консервный нож. В ящике лежал консервный нож. Зачем в спальне консервный нож? Ясное дело – банки открывать.
Вот как выглядел этот инструмент. Гладкая деревянная рукоятка дюймов двух с половиной в обхвате и около пяти длиной, закругленная на нерабочем конце. С другой стороны – металлический корпус наподобие небольшой зажигалки со стальным лезвием и небольшим зубчатым колесиком с припаянным к нему ключом вроде заводного. Устанавливаем приспособление горизонтально на краю консервной банки; с усилием вдавливаем лезвие в ее жесть; при помощи ключа вращаем колесико, зажав рукоятку в левом кулаке; при этом лезвие будет плавно перемещаться по краю ободка до тех пор, пока крышка не отделится от цилиндрической части емкости. Такие консервные ножи продаются в любом хозяйственном отделе и стоят от доллара до доллара с четвертью – впоследствии я специально обращал внимание на их наличие и цену. Производство компании «Эгланд», Бурлингтон, штат Вермонт. Консервный нож модели «Юлнор № 5» сейчас, когда я пишу эти строки, лежит передо мной на столе.
– Порядок? – спросил полицейский.
– Без проблем. – Я сунул в карман продукцию компании «Эгланд», задвинул ящик и шагнул в гостиную; Делия, урча, терлась о мои брюки. – Я готов.
– Матрас уже почти высох, верно?
– В лучшем виде. Еще раз спасибо. Уж простите – спешу, слесаря ждать не буду.
Я уже спустился на один марш лестницы, когда юный полисмен что-то крикнул с верхней площадки, свесившись в пролет.
– Не понял! В чем дело?
– А зубная щетка?
– Вот черт!
– Ловите!
Пришлось поймать.
Интерьер такси, в котором я добирался через весь город до Сьюзен, был оформлен на манер тюремной камеры, доставшейся многолетнему рачительному арестанту. Похоже, кстати, выглядит и комната послушного подростка в добропорядочном доме: семейные фотографии на рулевой панели, большой круглый будильник, пристегнутый кожаным ремешком поверх счетчика, дюжина простых карандашей в белом пластмассовом стаканчике, присобаченном скотчем к решетке, отделяющей пассажирские сиденья от водительского и вдобавок украшенной бело-голубыми фестончиками. Под самой крышей салона обивочными гвоздиками с золотистыми головками было запечатлено три имени: «Гарри, Тина, Роз»; видимо, имена детишек, нарядных и улыбающихся на фото около руля: день рождения, чья-то свадьба, бар-мицва. Шофер, человек в летах, по всей видимости приходился этим персонажам дедушкой.
При других обстоятельствах я не преминул бы поиронизировать над внутренним убранством машины (да и любой, думаю, не удержался бы от шуток на этот счет), но сейчас все мое внимание целиком занимал «Юниор № 5» компании «Эгланд». Шел эксперимент. Я свел кольцом большой палец правой руки с указательным; деревянная рукоятка мягко вошла в образовавшееся отверстие. Потом гладкую деревяшку обхватили остальные три пальца, и она очутилась внутри кулака.
Следующий этап: консервный нож чуть притоплен в вертикальном положении между сведенными ляжками. Сжимавший его кулак начал ритмическое движение: вниз-вверх.
Такси резко затормозило.
– Ну-ка, вылезай, – брезгливо буркнул шофер.
– Что случилось?
– Выметайся к черту! Ублажай себя где хочешь, только не в моей машине! – Из-под кустистых седых бровей на меня смотрели сердитые глаза с темными мешками под ними. Маленький человечек в толстом шерстяном свитере и пиджаке.
– Я же ничего такого не делал!
– Пошел вон, ты что, оглох? Не то получишь этой штуковиной по башке!
– Да объясните же, Христа ради, с чего вы взъелись? – спросил я, оказавшись на тротуаре.
– Грязный сукин сын! – И машина рванула с места.
Я остановил другое такси. И снова – не слава богу. Только устроился на заднем сиденье с консервным ножом в кармане и дневником на коленях, как водитель, молодой парень в рыжеватой бороденке, зыркнув в зеркальце заднего вида, воскликнул:
– Ба, Питер Тернопол!
– И что с того?
– Питер Тернопол, писатель!
– Обознался, дружище.
– Не юлите: Тернопол, одно к одному.
– Первый раз о таком слышу.
– Бросьте разыгрывать. Вы – он, точно. Мне на писателей везет. Прошлым вечером подбросил Джимми Болдуина[150]150
Болдуин Джеймс – известный американский писатель.
[Закрыть].
– Это кто?
– Смешно. Вы остроумный. А знаете, кого я еще возил? Мейлера[151]151
Мейлер Норман – американский писатель-романист.
[Закрыть]! – торжественно произнес он. – А недавно опять сел один из вашей чертовой братии, такой худющий, настоящий скелет, кило на сорок, не больше. Не верите? Да чтоб у меня яйца отсохли! Длинный и тонкий как жердь, с короткой стрижкой. Ехал в аэропорт. Вы слушаете?
– Ну?
– Беккет, мать вашу за ногу. Да Беккет[152]152
Беккет Сэмюэль – ирландский писатель и драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе (1969).
[Закрыть] же! Я сразу понял и говорю: «Вы Сэмюэль Беккет», – а он отвечает: «Нет, Владимир Набоков». Ну что ты скажешь!
– Может, это и был Набоков?
– Нет, это был не Набоков. Это был Беккет. Теперь поедем дальше…
– Приехали. Пожалуйста, сюда, к этому подъезду.
– Надеюсь, мистер Тернопол, у вас все тип-топ. Чего и коллегам вашим желаю.
Я молча расплатился и вылез.
– Мы везучие, – крикнул он мне вслед через открытое окно, – сейчас заверну за угол, и меня стопорнет Маламуд[153]153
Маламуд Бернард – американский писатель, известный своими рассказами и романами на еврейскую тему.
[Закрыть]. Чувство такое. Точно, Маламуд.
Консьерж вырос словно из-под земли, когда, доставая из кармана консервный нож, я шел к лифту, и неожиданное «Добрый вечер!» заставило вздрогнуть. Победно размахивая изделием компании «Эгланд» («Юниор № 5»), я вошел в квартиру.
– Глянь-ка, что у меня есть!
– Она жива? – нервно спросила Сьюзен.
– Еще как!
– А что полиция?
– Глазами хлопает. Ты лучше посмотри!
– Это же консервный нож.
– Ничего себе нож! Она им мастурбировала! Я проверил. Обрати внимание на железяку. Сколько удовольствия она, должно быть, получала! Какой экстаз! Сядет перед зеркалом и…
– Откуда он у тебя, Питер?
– Из ее дома, из прикроватного столика. – У Сьюзен в уголках глаз набухло по слезинке. – Ну вот, ты опять собралась плакать. Не веришь мне, что ли? Тут вся суть в железяке. Ведь мужчина для Морин – орудие пытки. Еще пострашнее консервного ножа.
– Ничего не понимаю. Как он у тебя оказался?
– Я же сказал: нашел в ящике ночного столика.
– Унес из ее квартиры?
– Да!
Последовал подробный рассказ о происшествиях дня. Потом Сьюзен, не говоря ни слова, ушла на кухню и занялась своим овалтином. Я поплелся следом.
– Слушай, не ты ли твердила, что нельзя покорно и безропотно сносить все ее закидоны? – (Молчание.) – Вот я и отбросил покорность. Возроптал. – (Молчание.) – Мне надоело считаться главным на свете половым извращенцем, виновным во всем и вся.
– Ты сам возложил на себя несуществующую вину. Никто не считает тебя ни в чем виноватым.
– Ах, не считает! И поэтому я должен до конца дней содержать ненавистную женщину, на которой был женат всего три года? И поэтому мне не дают развестись с ней? Потому что я один считаю себя виноватым, да? Нет, один я считаю себя невиновным!
– Если так, зачем занимаешься мелким воровством?
– А как быть, когда мне на слово никто не верит?
– Я верю.
– Но не ты ведешь процесс! Не ты принимаешь решения, имеющие силу закона в штате Нью-Йорк! Не ты сжимаешь клыки на моей глотке! Так что я не мог поступить иначе.
– И какой же тебе толк в консервном ноже? Откуда известно, что она использовала его именно так, а не иначе? А если даже так? Вероятнее всего, Питер, она им открывала консервные банки.
– В спальне перед сном?
– А что, в спальне перед сном открывать консервные банки категорически запрещается?
– Заниматься любовью на кухне тоже, в принципе, можно. Но обычно выбирают другое помещение. Этот консервный нож – дилдос, Сьюзен, муляж члена, нравится тебе такая идея или нет. Морин, во всяком случае, она нравилась.
– Пусть ты прав. Ну и что? Тебе-то какое дело?
– Ха! Все, происходящее со мной, – ее дело, и дело судьи Розенцвейга, и дело психотерапевтической группы, и дело дружков-приятелей! Меня застукали с Карен и отправили в ад. А она преспокойно удовлетворяется с открывашкой – ну и на здоровье?
– Кажется, ты собираешься предъявить эту улику суду… Тебя же засмеют, Питер. Примут за умалишенного. Им ничего другого не останется. Вот уж безумие так безумие! Ладно, выложишь консервный нож на судейский стол – а дальше?
– Есть еще дневник!
– Сам ведь говорил: в нем ничего особенного.
– Я его всего лишь пролистал.
– А прочтешь внимательно – и вовсе потеряешь разум. Станешь еще ненормальнее, чем сейчас!
– Я АБСОЛЮТНО НОРМАЛЕН.
– Вы оба два не в себе. С меня хватит, а то стану третьей.
– Сьюзен дрожала от волнения. – Никакого овалтина не хватает. Пойми, Питер, я больше так не могу. Ты невыносим.
– Еще как!
– А что полиция?
– Глазами хлопает. Ты лучше посмотри!
– Это же консервный нож.
– Ничего себе нож! Она им мастурбировала! Я проверил. Обрати внимание на железяку. Сколько удовольствия она, должно быть, получала! Какой экстаз! Сядет перед зеркалом и…
– Откуда он у тебя, Питер?
– Из ее дома, из прикроватного столика. – У Сьюзен в уголках глаз набухло по слезинке. – Ну вот, ты опять собралась плакать. Не веришь мне, что ли? Тут вся суть в железяке. Ведь мужчина для Морин – орудие пытки. Еще пострашнее консервного ножа.
– Ничего не понимаю. Как он у тебя оказался?
– Я же сказал: нашел в ящике ночного столика.
– Унес из ее квартиры?
– Да!
Последовал подробный рассказ о происшествиях дня. Потом Сьюзен, не говоря ни слова, ушла на кухню и занялась своим овалтином. Я поплелся следом.
– Слушай, не ты ли твердила, что нельзя покорно и безропотно сносить все ее закидоны? – (Молчание.) – Вот я и отбросил покорность. Возроптал. – (Молчание.) – Мне надоело считаться главным на свете половым извращенцем, виновным во всем и вся.
– Ты сам возложил на себя несуществующую вину. Никто не считает тебя ни в чем виноватым.
– Ах, не считает! И поэтому я должен до конца дней содержать ненавистную женщину, на которой был женат всего три года? И поэтому мне не дают развестись с ней? Потому что я один считаю себя виноватым, да? Нет, один я считаю себя невиновным!
– Если так, зачем занимаешься мелким воровством?
– А как быть, когда мне на слово никто не верит?
– Я верю.
– Но не ты ведешь процесс! Не ты принимаешь решения, имеющие силу закона в штате Нью-Йорк! Не ты сжимаешь клыки на моей глотке! Так что я не мог поступить иначе.
– И какой же тебе толк в консервном ноже? Откуда известно, что она использовала его именно так, а не иначе? А если даже так? Вероятнее всего, Питер, она им открывала консервные банки.
– В спальне перед сном?
– А что, в спальне перед сном открывать консервные банки категорически запрещается?
– Заниматься любовью на кухне тоже, в принципе, можно. Но обычно выбирают другое помещение. Этот консервный нож – дилдос, Сьюзен, муляж члена, нравится тебе такая идея или нет. Морин, во всяком случае, она нравилась.
– Пусть ты прав. Ну и что? Тебе-то какое дело?
– Ха! Все, происходящее со мной, – ее дело, и дело судьи Розенцвейга, и дело психотерапевтической группы, и дело дружков-приятелей! Меня застукали с Карен и отправили в ад. А она преспокойно удовлетворяется с открывашкой – ну и на здоровье?
– Кажется, ты собираешься предъявить эту улику суду… Тебя же засмеют, Питер. Примут за умалишенного. Им ничего другого не останется. Вот уж безумие так безумие! Ладно, выложишь консервный нож на судейский стол – а дальше?
– Есть еще дневник!
– Сам ведь говорил: в нем ничего особенного.
– Я его всего лишь пролистал.
– А прочтешь внимательно – и вовсе потеряешь разум. Станешь еще ненормальнее, чем сейчас!
– Я АБСОЛЮТНО НОРМАЛЕН.
– Вы оба два не в себе. С меня хватит, а то стану третьей.
– Сьюзен дрожала от волнения. – Никакого овалтина не хватает. Пойми, Питер, я больше так не могу. Ты невыносим.
Взгляни на себя со стороны! Носишься с консервным ножом, как с писаной торбой!
– Ах, невыносим?! Уж какой есть. И останусь таким, пока не добьюсь своего. Да чтоб у меня яйца отсохли!
– Питер! Ты никогда раньше так не выражался. Успокойся! Я люблю тебя.
– А я себя не люблю.
– В этом-то и ужас.
– Ужас в том, что я не могу добиться справедливости. Но добьюсь. Сейчас или позже. И плевать на средства. Если тебя это не устраивает, я уйду.
– Ты можешь думать о чем-нибудь кроме развода?
– Не могу. В грязи, которой меня окатили, нельзя думать о чистом и быть любимым.
– Тогда, наверное, тебе лучше…
– Уйти?
– Да.
– Вот и прекрасно, – промямлил я, потрясенный ее небывалой решимостью, и направился к двери.
Сьюзен молчала.
Я ушел с консервным ножом и дневником.
Расположившись в спальне своей квартиры (в гостиной все еще пахло), я провел бессонную ночь за чтением интимных записей жены. Захватывающее занятие. Стиль то ли пародийный, то ли безумный. Отдельные, ничем не связанные эпизоды. Клочки мыслей. Фразы, обрывающиеся на полуслове. Смесь невежества и самообольщения. Мыльная опера «Жизнь женщины». Впрочем, дневники больших писателей тоже иногда разочаровывают: не всегда и не каждому удается придать собственной личности такую же гармоничную завершенность, как художественному произведению. А Морин хотела стать писательницей. Я даже был слегка удивлен (только слегка), обнаружив, сколь настойчиво мечтала она о литературной карьере. Вот лишь несколько примеров: «Не буду напрасно оправдываться за то, что долго ничего не записывала: Вирджиния Вулф тоже порой не притрагивалась к дневнику месяцами». Или: «Я должна описать странное событие, случившееся сегодня утром в Нью-Милфорде; оно, уверена, могло бы лечь в основу отличного рассказа; осталось только найти для этого время». Или: «Сегодня впервые поняла (о, эта проклятая наивность!), что опубликуй я рассказ или роман, П. сгорел бы от ревности к сопернику. Разве можно доводить П. до такого состояния? Щадя его, я упускаю возможность за возможностью, но иначе нельзя».
Кроме записей, в дневнике находился добрый десяток газетных вырезок, они были приклеены скотчем к отдельным листам, вложенным в тетрадь. Различные упоминания обо мне (период «Еврейского папы», первый год нашей семейной жизни). Рецензии. Сообщение в «Таймс» о смерти Фолкнера с перепечаткой его многословной и малосодержательной Нобелевской речи. Последний абзац подчеркнут: «Голос поэта не может быть простым эхом, он должен стать опорой, основой, помогающей человеку выстоять и восторжествовать». На полях – пометка: «П. и я?» Вероятно, Морин собиралась обдумать пророческий пассаж особо.
Особенно интересна для меня была запись о визите Морин к Шпильфогелю. Я знал об этом посещении от доктора. Два года назад миссис Тернопол без предварительной договоренности явилась к нему под конец рабочего дня, чтобы посоветоваться, «как вернуть Питера». По словам психотерапевта, он порекомендовал ей вовсе отказаться от этой идеи. «Я готова на все, – ответила Морин. – Надо продемонстрировать силу – продемонстрирую. Слабость – пожалуйста. Лишь бы был результат».
Версия другой стороны:
29 апреля 1964 г.
Я должна подробно описать вчерашний разговор со Шпильфогелем, а то забуду подробности. Он сказал, что я допустила только одну серьезную ошибку, а именно: призналась во всем П.
Не спорю. Меня привела в отчаяние его интрижка со студенточкой, вот тормоза и отказали. Иначе этого не случилось бы. Теперь у П. есть определенные основания не доверять мне. Шпильфогель сказал, что предполагает, как поведет себя муж, сойдись мы снова: станет изменять мне направо и налево, Ш. опирается в выводах на свои профессиональные знания о психике творческих людей; не мне судить, прав ли он, советуя «побороть» чувства к П. и найти кого-нибудь другого. Я сказала, что слишком стара для этого; он отмел «хронологически-возрастные» критерии и сделал комплимент на предмет моей внешности: «очарование, привлекательность плюс пикантность». Счастливого брака с актером или писателем вообще быть не может, говорит Ш., «они все одинаковые». Он упомянул в качестве доказательства лорда Байрона и Марлона Брандо. Неужели Питер такой же? Пытаюсь разобраться. Практически ничего не могу делать. Ш. еще сказал, что наш случай – проявление писательского нарциссизма, полной зацикленности на собственной персоне. Я рассказала ему теорию, выработанную совместно на групповой психотерапии: П., боясь проявить несостоятельность с женой, решил «попрактиковаться» с зависимой от него партнершой, чтобы укрепиться в сознании своей силы и непогрешимости. Ш., кажется, заинтересовался. Но П., заверил Ш., всегда теперь будет ходить вокруг и около моей маленькой хитрости, «рационализируя» таким образом неспособность любить жену – и вообще кого бы то ни было. Это омертвение чувств характерно для нарцисстического типа. Интересно, что говорит Ш. Петеру обо мне?
Прочитав запись от 29 апреля, я задумался, как легко и просто разбираются в моих побуждениях, в моей семейной жизни все кому не лень – все, кроме меня. Морин, Морин, напрасно ты жертвовала литературной карьерой, щадя самолюбие мужа. Лучше бы царапала бумагу, чем изо дня в день когтить мою душу! Бумага стерпит, а на живой шкуре остаются шрамы.
Боже, неужели ты и впрямь думала обо мне? Это даже трогательно. Только – правда ли?
Несколько раз за ночь я откладывал дневник и принимался за Фолкнера. «Я верю, что человек не просто выстоит, он восторжествует. Он бессмертен не потому, что никогда не иссякнет голос человеческий, но потому, что по своему характеру, душе человек способен на сострадание, жертвы, непреклонность». Я перечитал Нобелевскую речь от начала до конца и подумал: «О чем вы толкуете, мистер? Вы, написавший „Шум и ярость“, вы, сочинивший „Святилище“, – о чем это вы теперь?»
Временами я поглядывал на «Юниор № 5», инструмент для самоудовлетворения, суррогат члена. Не поленился сравнить со своим, подлинным. Ну, кто из вас не просто выстоит, но восторжествует? Разумеется, подлинность. Она всегда выше любой, даже самой изощренной, имитации. Так и скажем Шведской академии, если до этого дойдет дело!
Сколько желчи кипело во мне в эту ночь! Сколько всплывало горьких вопросов! Что мне делать с консервным ножом? С дневником? С признанием признания? С самим собой – не человеком вообще, а с Питером Тернополом? Кто даст ответ?
«Будьте терпимы», – говорит Шпильфогель. «Выбрось все из головы», – говорит Сьюзен. «Никуда не денешься, – говорит адвокат, – она женщина, а вы мужчина». – «Никаких сомнений?» – спрашиваю я. «Вы писаете стоя – значит, мужчина». – «А если стану присаживаться?» – «Слишком поздно, уже ничего не изменишь», – отвечает он.
Прошло шесть месяцев. Мы со Сьюзен позавтракали, я просмотрел «Таймс», добрался до своей квартиры и едва начал работу (унылый привычный просмотр фрагментов ненаписанного романа, жалкое копошение в коробке из-под винных бутылок), как зазвонил телефон. Флосси Кэрнер сообщила о смерти Морин.
Я не поверил. Очередной трюк. Хотят спровоцировать на рискованное высказывание, записать его на магнитофон и представить суду при очередном слушании об увеличении алиментов. Если я скажу: «Вот здорово!» или что-нибудь вроде этого, Розенцвейг и иже с ним удостоверятся, что Питер Тернопол как был, так и остается социально опасным типом, и, дабы обуздать его разрушительное либидо, необходимо применить еще более строгие дисциплинарные меры. Нет, больше меня не проведешь!
– Ах, умерла?
– Да. Погибла в Кеймбридже, штат Массачусетс. В пять часов утра.
– Погибла? Кто же ее погубил?
– Машина врезалась в дерево. За рулем сидел Билл Уокер. Ой, Питер, – сказала Флосси, сдерживая плач, – как она любила жизнь!
– Значит, умерла… – Меня начал бить озноб.
– На месте. По крайней мере, не мучилась… И почему только она не пристегнулась?
– Что с Уокером?
– Ничего страшного. Ушибы. Но «порше» – всмятку. А ее голова… ее голова…
– Что там с головой?
– Морин врезалась лицом в ветровое стекло… Не надо было ей туда ехать. Мы в группе пытались ее отговорить, но она так сильно переживала…
– Из-за чего?
– Из-за рубашки.
– Какой рубашки?
– Мне трудно говорить об этом. Не подумайте, я его не обвиняю…
– О ком вы, Флосси?
– Питер, оказалось, что Билл Уокер – бисексуал. Морин раньше не подозревала. Она… – Флосси разрыдалась, а я до боли сжал челюсти, чтобы зубы не клацали друг о друга. – Она подарила ему рубашку, шелковую. Просто так. А размер не его, так он, во всяком случае, объяснил. Можно было бы поменять в магазине на другую, подходящую, но Билл не поменял, а передарил рубашку своему другу, с которым… Ну, вы понимаете. Морин решила встретиться с Уокером и все высказать в глаза. Потом, наверно, выпили – они встречались на какой-то вечеринке…
– Так.
– Тут уж нечего искать виноватого.
Значит, правда. Морин больше нет. На самом деле нет. Она мертвым-мертва. Так мертва, как бывают мертвы только мертвые. Морин умерла. Скончалась. Отошла в мир иной. Окочурилась. Сдохла, сука.
– Где тело? – спросил я.
– В Бостоне. В морге. Я думаю… мне кажется… Питер, вам надо забрать ее. Отвезти в Элмайру. Кто-то должен сообщить матери… Я не могу, нет. Сделайте это, Питер!
Питер заберет тело. Питер перевезет его в Элмайру. Питер поговорит с матерью… Если вы до сих пор не лгали, Флосси, если вы не участница лучшего из розыгрышей, задуманных и осуществленных Морин Тернопол, и не приглашенная на роль второго плана звезда в мыльной опере, поставленной радиовещательной сетью для психопатов, – то зачем Питеру все это надо? Зачем ему забирать, перевозить и говорить? Пусть тело спокойно лежит себе и разлагается!
Но я все еще не был уверен, что наш разговор не записывается на магнитофон и не попадет в конце концов к судье Розенцвейгу, и поэтому вздохнул:
– Конечно, Флосси, я заберу ее. Вы поедете со мной?
– Если вам так удобней… Я так любила ее! А она так любила вас, вы даже представить себе не можете, как она к вам относилась!
Тут разговор прервался, потому что Флосси зарыдала горько и отчаянно, буквально завыла, и сомнения в ее искренности оставили меня. Кое-как успокоив мисс Кэрнер, я сговорился приехать к ней для детального обсуждения планов через час и позвонил своему адвокату за город, где он по обыкновению проводил уикенд. Мне требовалась консультация.