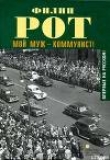Текст книги "Моя мужская правда"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
Я разбил Шпильфогеля в пух и прах, но с каждым новым прочитанным словом недоумение и досада охватывали меня все сильней. Ни в одной фразе не обнаруживалось понимания вопроса, сплошь туманные догадки и смазанные нюансы, извращающие проблему, вносящие невообразимую сумятицу. Весь пассаж об «американском поэте итальянского происхождения» занимал две страницы, но я, то и дело мысленно всплескивая руками от возмущения, потратил на просмотр текста битых десять минут. «… Ввиду постоянного чувства обеспокоенности, возникшего на почве разрыва с женой и порожденных этим невротических состояний… Амбивалентность, то есть двойственность переживания… Кастратофобия… Подавленные эмоции… Фаллический образ властной матери…» И дальше в том же духе. Ну уж нет! «Его отец обладал нервной конституцией, был постоянно обеспокоен. Не достигнув жизненной цели, он целиком подчинился властной жене». Это еще что? Откуда вы это взяли, доктор? Мой отец обладал нервной конституцией, но он подчинялся не жене, а добровольно возложенной на себя неоспоримой обязанности обеспечивать семью всем необходимым для безбедного комфортного существования – любой ребенок нашего квартала мог бы подтвердить мое утверждение под присягой. О да, он был постоянно обеспокоен – энергия переливалась в нем через край, а время, ему доставшееся, не способствовало ощущению покоя. Его цель формулировалась не так уж сложно: «Всегда делай то, что должен делать настоящий мужчина», и он буквально молился на этот постулат. И что же, он, по-вашему, не достиг своей цели? Моему «не достигшему жизненной цели» отцу случалось работать по двенадцать часов в сутки с одним выходным, а то и без него. Если надо было – еще и подрабатывать. Даже когда покупателей в магазине оказывалось меньше, чем оседлого населения в заполярной тундре, домочадцы нашего отца, «не достигшего жизненной цели», не чувствовали себя обделенными ни в чем. Разоренный кризисом и измотанный работой, как раб на хлопковой плантации, он не запил, не выбросился из окна, не начал избивать жену и детей – и два года назад, решив уйти на покой, продал свое дело, приносившее уже двадцать тысяч годового дохода. Боже мой, мистер Шпильфогель, именно пример «не достигшего жизненной цели» отца внушил мне, что мужественность – это труд, ответственность и самодисциплина. Я приходил по субботам в магазин и весь день распаковывал и сортировал товар в подсобке. Я внимательно слушал консультации, которые отец («не достигший жизненной цели») давал клиентам относительно благодатных последствий вплетения дополнительной нейлоновой нити в пятку носков модели «Интервоувн» или касательно достоинств сорочек фирмы «Макгрегор». Знаете почему? Потому что он умел все это делать. Потому что ему доверяли самые известные компании и самые придирчивые покупатели. А если что и мешало отцу жить, то не подавляющая властность жены, но потрясающая неустроенность мира. И головные боли, накатывавшие порой до темноты в глазах, но он не уходил с поста и не помышлял о том, чтобы сдаться. Не морочьте голову себе и коллегам. Я рассказывал вам об отце сотню раз. Напрасно вы мне не верите. Напрасно громоздите горой ворох небылиц обо мне и моей семье, чтобы подтвердить свои умозрительные идеи. Напрасно губите талант. Вы же типичный литературный критик: давайте я буду сочинять рассказы, а вы – объяснять профанам их тайный смысл! «Убедив себя в том, что жена пытается узурпировать его право на сексуальное удовлетворение, поэт неразборчиво начал вступать в интимные половые связи вскоре после заключения брака». Чушь и белиберда. Или вы говорите о каком-то другом гипотетическом пациенте, не обо мне. «Неразборчиво начал вступать в половые связи» – это про Карен, что ли? Доктор, у нас был испепеляющий роман — безоглядный, безрассудный, безнадежный, страстный, мучительный, неудержимый, как в ранней юности; я жаждал человеческих отношений, о которых с Морин и не мечталось; а вы – «неразборчиво»! Да, проругавшись с ней в Неаполе сорок восемь часов без перерыва, я хлопнул дверью и переспал с проституткой. И еще с одной в Венеции; действительно, целых две неразборчивых связи.
«Вскоре после заключения брака»… Он продлился всего три года. Так что в некотором смысле все, что было после свадьбы, включая разрыв, произошло «вскоре после». «…Однажды на вечеринке он познакомился с девушкой…» В Нью-Йорке, доктор, спустя много месяцев после того, как сбежал от Морин. И что бы там ни считал окружной суд штата, супружеские обязательства никак меня морально не связывали, это факт. «…Поэт перенес вину за постигшие его неудачи на женщин вообще. Произошла трансформация озлобления в тотальную сексуальную агрессию, которая в силу принципиальной своей нереализуемости сублимировалась в едва ли не демонстративную мастурбацию». Что вы несете? По-вашему, Карен Оукс была для меня объектом сексуальной агрессии? Нет? Значит, со Сьюзен Макколл я занимаюсь «едва ли не демонстративной мастурбацией»? И поэтому уговорил, буквально уломал ее вернуться в колледж – чтобы не мешала? И еженощно довожу себя чуть не до инсульта в тщетной надежде помочь ей достичь оргазма?! Но лучше вернемся к главному: к Морин, основной причине моих неудач. Я, действительно, многое перенес, но ни на кого не перенес вины – даже на нее. Боже, с чего вы взяли? Напротив: умудрился увидеть в лживой истеричке человеческое существо, за которое несу моральную ответственность. Абсурд. Распял себя вместе с нравственными принципами на кресте ее безумия и скотства. Или, если без стилистических красот, явил миру собственное малодушие. И не пробуйте уверять, будто я испытываю к Морин «сексуальную агрессию». Не испытываю ничего, тем более – ничего сексуального. Чувствуя хоть что-нибудь, я бы разглядел истинную сущность Морин, и тогда ни о каком мужском долге, ни о каком браке речь бы уже не шла. Неужели, доктор, вам ни разу не пришла в голову такая мысль: объектом сексуальной агрессии стал именно я, Питер Тернопол? Вы все поставили вверх ногами, уважаемый Шпильфогель, перевернули шиворот-навыворот. Как это случилось? Как вы, умница, попали впросак? А ведь материал для выводов есть. Есть чем порадовать коллег на очередном симпозиуме. Поэт не держит на женщин зла. Наоборот: питает к ним непростительно глубокое уважение. Мое мужское достоинство не в потенции, а именно в моем мужском достоинстве. Вот, увы, корень моих несчастий. Подчиняясь велениям члена, а не других более (или менее) почтенных органов, я не оказался бы в нынешнем своем положении. Я спал бы с Диной Дорнбущ! Она была бы моей женой!
Дальнейший текст заставил меня вскочить с дивана, словно кошмарный сон сменился еще более ужасным пробуждением. До боли сжав веки, я попытался успокоиться, твердя, что в журнале говорится не о тридцатилетием американском прозаике еврейского происхождения по фамилии Тернопол, а о безымянном поэте сорока лет, к тому же итальянце. «Оставляя сперму на мебели, полотенцах и прочих предметах, он давал таким образом выход нереализованной агрессии; ярким проявлением демонстративности в ответ на женскую холодность следует считать рецидивные случаи самооблачения в нижнее белье жены: ее трусы, бюстгальтер и чулки…» Какие чулки? Черт подери, я их не надевал! Вас хоть на ломаный грош интересует истина, доктор? Вы лжец, Шпильфогель! «Рецидивных случаев» было всего три, а что до пресловутой холодности… Первый раз «самооблачение» произошло после того, как Морин инсценировала попытку самоубийства. Второй раз – когда призналась в обмане с тестом, и я осознал, что три года (три года!) нес тяжкую ношу супружества не во имя принципов, а как одураченный осел, трусящий за привязанной к палке морковкой. В третий – вслед за угрозой скандальных разоблачений, которые превратили бы жизнь Карен в сущий ад…
Дальше было еще хуже. В следующим абзаце Шпильфогель срывал все маски. Он привел один из эпизодов, описанных мною в автобиографическом очерке, опубликованном «Нью-Йоркером» в прошлом месяце.
Вторая мировая. Моррис служит во флоте. Дочь хозяина нашей квартиры, занимавшей второй этаж небольшого дома, вышла замуж. Домовладелец настойчиво предложил нам съехать как можно быстрее: молодоженам потребовалось жилье. Пришлось искать новое пристанище взамен привычного – наша семья прожила здесь девять лет, с момента моего рождения и переезда Тернополов из Бронкса в Йонкерс. Родителям удалось найти неподалеку, всего через шесть домов, вполне подходящее помещение, по планировке и размеру почти такое же, как прежнее, и, к счастью, не намного дороже. Казалось бы, обошлось, но у мамы, вылизывавшей квартиру все эти годы, и у отца, лелеявшего небольшой дворовый палисадник, остался горький осадок из-за неожиданной резкости хозяина, от которого они не без оснований ожидали более деликатного и дружеского отношения. Я же, проведший на одном месте всю жизнь, был совершенно выбит из колеи и чувствовал себя растением, грубо выдранным из родной почвы и пересаженным на чужой участок. Как неприятно было ложиться спать в комнате, неприбранной после переезда – я привык к порядку и уюту, тщательно охраняемым матерью. Неужто так теперь будет всегда, ужасался я. Нас выгнали. Мы в изгнании. Все пошло наперекосяк. А вдруг это общее неустройство коснется и корабля, на котором мой брат плавает в опасных водах Северной Атлантики? Моррис зазевается, а тут немецкая торпеда – и… Возвращаясь на следующий день из школы, я в задумчивости автоматически пришел по старому адресу, туда, где в покое и безопасности провел девять лет под добрым присмотром мамы, отца, брата и сестры. Поднялся на второй этаж. О ужас! Дверь распахнута настежь, из комнат доносятся громкие мужские голоса. Застыв в прихожей, пол которой долгими мамиными усилиями был превращен в сверкающее ровное зеркало, совершенно забыв о вчерашнем переезде, я погрузился в жуткие предположения. Фашисты! Они сбросили на Йонкерс парашютный десант, захватили нашу улицу и увезли всех жителей неведомо куда. Они забрали мою маму. Конечно, я струсил. Уж и не знаю, как хватило отваги заглянуть в гостиную. «Фашисты» оказались малярами, сидящими на заляпанном мелом линолеуме. Они ели бутерброды, завернутые в вощеную бумагу. Я бросился вниз по ступенькам, знакомым как свои пять пальцев, и помчался к нашему новому жилищу. Мама! Вот она, мама, в неизменном своем фартуке, – не избитая, не окровавленная, не истерзанная, а лишь немного обеспокоенная отсутствием маленького сына, который всегда приходит из школы вовремя. Я кинулся в материнские объятия и зарыдал от пережитого испуга и обретенного счастья.
В интерпретации Шпильфогеля, будущий поэт плакал, «осознавая чувство вины за агрессивные фантазии по отношению к матери». Нет: это у вас агрессивные фантазии по отношению ко мне, доктор. В опубликованном очерке, названном «Дневник ровесника Анны Франк», слезы в полном соответствии с истиной объяснялись тем, что мать жива и невредима, новая квартира стала точной копией старой, а мы все живем в благословенном округе Уэчестер – не в разоренной Европе, где евреев ненавидят и всегда ненавидели.
Сьюзен пришла из кухни, недоумевая, чем я занимаюсь.
– Что случилось, Питер? У тебя странный вид.
– Шпильфогель, – я протянул ей журнал, – написал статью о творческих способностях. И между прочим, о моих.
– Назвал тебя?
– Нет, но не узнать нельзя. Он привел эпизод, мной же ему и рассказанный, о том, как я в девять лет случайно ошибся адресом. Доктор приписал этот случай какому-то вымышленному поэту итальянского происхождения. А история уже опубликована под моим именем!
– Погоди, я что-то не понимаю…
– Да вот же, смотри! Он вывел меня под видом чертова итальянца. Почитай-ка эту чушь.
– Ой, Питер! – обеспокоенно воскликнула Сьюзен, проглядев, примостившись на диване, пару абзацев.
– Читай до конца.
– Тут сказано…
– Тут много чего наговорено.
– Тут сказано, что ты надел на себя нижнее белье Морин: трусики, бюстгальтер, чулки… Он что, рехнулся?
– Это я сейчас рехнусь. Читай, читай.
– Неужели ты и вправду… – На ее глазах выступили две слезинки.
– Какая уж правда! Бред собачий. Больное психоаналитическое воображение. Чулки я не надевал, не надевал! Не на бал трансвеститов собирался. Собирался сказать: «Смотри, Морин, кому из нас к лицу женские трусики! Вот как устроена наша семья». И все. А Шпильфогель ничего не понял. Хренов аналитик!
Сьюзен, покачав головой, снова уткнулась в журнал. Но через минуту уронила его на колени.
– Бедный Питер…
– Почему – бедный?
– Твой доктор пишет…
– О сперме?
– Да.
– Это тоже было – со мной, а не с итальянцем. Но уже прошло. Нет, ты читай, читай!
– Хорошо, – и Сьюзен кончиком мизинца смахнула две свои слезинки, – только не надо кричать. Как он мог такое напечатать? А врачебная тайна? Шпильфогель поступил неэтично и непрофессионально. А ты еще говорил, что он дельный специалист. Умный и прозорливый. Ничего себе ум и прозорливость!
– Дочитай до конца, Сьюзен, эту напыщенную бессмысленную писанину, до самого конца, все подряд, с цитатами из Гете и ссылками на Бодлера, притянутыми за уши, чтобы доказать связь между нарциссизмом и искусством! А что здесь, собственно, доказывать? О господи, «как писал Софокл» – хорошенькое доказательство! Не пропускай ни строчки, Сьюзен. Но держись, не то упадешь. У него каждый абзац – как бездонная пропасть!
– Что ты собираешься делать?
– А что я могу сделать? На чужой роток не накинешь платок.
– Но нельзя же сидеть сложа руки и делать вид, будто ничего не произошло. Он выставил напоказ самое тайное! Обманул твое доверие!
– Увы.
– Это же ужасно.
– Кто спорит?
– Так сделай же что-нибудь!
Я позвонил Шпильфогелю. «Если вы взволнованы настолько, насколько можно судить по вашему тону…» – промямлил он. «Я взволнован гораздо сильнее,» – заверил взбешенный пациент. Доктор сказал, что, в принципе, готов задержаться после сеанса с последним пациентом и вторично встретиться со мной. Я выбежал от Сьюзен, огорченной не меньше моего, доехал на автобусе до Мэдисон-стрит и уселся в приемной Шпильфогеля, ожидая, когда он освободится. В голове выстраивался сценарий предстоящего бурного объяснения, в результате которого я, быть может, откажусь от услуг своего доктора.
Разговор действительно оказался резким, но ни к чему не привел. Мы возвращались к нему на каждом сеансе последовавшей недели. В конце концов именно Шпильфогель, несказанно удивив и озадачив, предложил мне поискать другого психотерапевта. Я, право слово, такого не ожидал. Просто представить себе не мог. Даже шок от чтения статьи был менее острым. Это я при случае намеревался отказаться от общения с ним, а не наоборот. Итак: шел привычный в последнее время ожесточенный спор; аргументы летели от кушетки к креслу и от кресла к кушетке. Вдруг он встал и, не отвечая на очередную резкую реплику, молча обошел стол и приблизился ко мне.
Обычно на сеансах я, лежа пластом, не видел лица доктора, но обращался к книжному шкафу, потолку над собой, фотографии Акрополя, висевшей на противоположной стене. Теперь же Шпильфогель оказался рядом. Я приподнялся на кушетке, сел.
– История зашла слишком далеко, – промолвил, кашлянув, доктор. – Либо вы забудете о злосчастной статье, либо мы прекратим сеансы. Продолжать в том же духе бессмысленно.
– Нелегкий выбор, – ответил я, чувствуя лихорадочное сердцебиение, а он стоял посреди комнаты, опершись рукой о спинку кресла. – Вы занимаетесь мною уже больше двух лет. Сколько нами обоими вложено в лечение – сил, времени, надежд, денег. Я не считаю, что здоров, и не думаю, что в состоянии сам себе помочь. Да и вы, наверняка, придерживаетесь того же мнения.
– Согласен. Но вы расцениваете ту статью как «вероломную», «неэтичную», «постыдную» и «гнусную». Нет, нет, уязвленное авторское самолюбие тут ни при чем. Просто я сам в ваших глазах стал, естественно, человеком вероломным и гнусным. При таких условиях никакое лечение невозможно.
– Перестаньте, прошу вас. Я хочу остаться вашим пациентом.
– Из каких же соображений?
– Потому что я до сих пор боюсь остаться с собой один на один. Потому что с вами я чувствую себя сильнее. Потому что вы помогли мне окончательно порвать с Морин, а это вопрос жизни и смерти. Не избавься я от нее, был бы в тюрьме или могиле, без всякого преувеличения. Вы вернули меня к нормальному повседневному существованию. Вы были со мной в самое трудное время. Вы удержали меня от совершения неописуемо нелепых и неестественных поступков. Очевидно, что наше общение результативно. И все же, как ни печально, я не могу не придавать значения вашей статье, а уж тем более попросту забыть о ней.
– Мы говорим о докладе всю неделю. Мне нечего больше добавить в свое оправдание. Да и в чем каяться?
– В том, что поступили вероломно и неэтично.
– Опять двадцать пять! Именно столько раз я отмел все ваши обвинения. Не вижу в своих действиях ничего вероломного.
– Вы изложили в статье обстоятельства, не только доверенные вам, но опубликованные мною в качестве автобиографического очерка. И сделали это сознательно.
– Мы писали одновременно, я уже объяснял.
– А я предупреждал заранее, что намерен напечатать описание эпизода с перепутанным адресом.
– Видимо, запамятовали: намеревались предупредить. Я узнал о ваших творческих планах как о свершившимся факте, прочитав очерк в «Нью-Йоркере». На тот момент статья находилась уже в печати.
– Значит, надо было исправить эту часть статьи в корректуре. А что до моей памяти, так я ничего не запамятовал.
– Ой ли? Согласитесь: сначала вы пеняли на то, что, стремясь сделать пациента неузнаваемым для читателей, я намеренно дал неверное описание вашей персоны. Вы, мол, еврей, а не итальянец, прозаик, а не поэт и пришли ко мне в двадцать девять, а не в сорок. Такие искажения, дескать, вероломны и неэтичны. Теперь же выясняется, что вероломно и неэтично приоткрывать перед публикой ваше подлинное лицо. Разве такая чехарда обвинений может быть признана последовательной? Разве это не очередное свидетельство амбивалентности?
– Амбивалентность, как же! Не наводите, ради бога, тень на плетень. Вы и в разговоре, как в статье, напускаете туману на совершенно прозрачные обстоятельства. Давайте подробно обсудим написанное каждым из нас.
– Мы уже обсуждали написанное каждым из нас донельзя подробно. Не раз, не два и не три.
– И все-таки, даже если ваша статья уже находилась в печати, вы, прочитав мой очерк, не имели права оставлять ее без изменений, ибо в противном случае предстали бы (как, увы, и произошло) разгласителем чужих секретов и обманули доверие пациента.
– Я не имел возможности исправить текст.
– Тогда у вас была возможность отказаться от публикации.
– Не слишком ли многого вы от меня требуете?
– Что для вас важнее: какая-то статья или мое доверие?
– Боюсь, что не думал о необходимости подобного выбора.
– Но она имела место.
– Едва ли где-нибудь помимо вашего разыгравшегося воображения. Оставим это. Сами видите: наши отношения зашли в тупик. Разумней всего их прекратить. Пользы все равно не будет.
– Вы говорите странные вещи. Еще недавно я едва осмеливался выйти на улицу. Перед вами пациент!
– Совершенно нетерпимый к своему врачу.
– Придется потерпеть, – сказал я хорошо знакомым Шпильфогелю тоном хорошо знакомые ему слова: он частенько прибегал к ним, урезонивая меня. – Не будем категоричны. Поглядим на проблему со стороны. Кто-то знает или хотя бы подозревает, что некто собирается описать весьма важный для себя эпизод; неужели же первый, не спросив позволения второго, может использовать ту же тему в собственных интересах?
– О господи! Вы-то сами обращаетесь за разрешением к людям, о которых пишете?
– Я не врач, не психотерапевт! Сравнение совершенно неуместно. Писатель имеет право на вымысел. «Еврейский папа», скажем, основан на реальном фундаменте, но это не хроника моей семьи и не портрет Питера Тернопола или Греты. Неужели вы не понимаете? Многое берется из жизни, но в целом читателю предлагается выдумка, преломленное призмой творческого сознания отражение действительности. Я, доктор, сознательно даю свободу воображению, художнику ни к чему фотографическая точность и скрупулезное следование фактам.
– Мне вы в этом отказываете? – спросил Шпильфогель, глядя в упор.
– Само собой. Во-первых, объем и характер информации, получаемой вами, накладывает несомненные профессиональные ограничения. Если люди и доверяют мне кое-что, то отнюдь не самое интимное и не в надежде на исцеление. Вот видите, тут нечего возразить. Во-вторых, основная задача писателя – рассказать о личности персонажа. Цель психотерапевта – помочь больному. Роли несопоставимые! Вы занялись не своим делом, доктор Шпильфогель. Да, я отказываю вам в свободе на воображение. Лечите чужие болезненные фантазии, а не развивайте свою! Точка. Предмет спора исчерпан.
– Так ли? Предмет нашего спора – научное исследование. Я и мои коллеги обрекли бы себя на молчание, обязавшись испрашивать у пациентов разрешения на обнародование их характерных отклонений от нормы. Между прочим, вы не единственный больной, жаждущий ввести подобного рода цензуру. Уверяю вас, боязнь публичного обсуждения – тоже повод для психотерапевтического вмешательства.
– Ваши слова не выдерживает критики, сами понимаете. Я бы рад выслушать правду о себе – и всегда был рад, – но только правду. Более того, многие пользовались моей открытостью к откровенному обсуждению – например, небезызвестная Морин. Но она передергивала факты. Печально, что доктор Шпильфогель пошел по ее стопам.
– Рады? Открыты? Вы, ощетинившийся во все стороны, как еж, видящий в каждой фразе попытку оскорбить и унизить! Увы, нарциссизм искажает пропорции. Обратите внимание, описанию вашего случая в статье посвящены две страницы из пятнадцати. Но для мистера Тернопола имеют значение только они. Агрессивные фантазии по отношению к матери – какой ужас! Кастратофобия вам не нравится? Мне она тоже не нравится. Однако куда денешься! Вы возмущены тем, что я обнаружил в обсуждаемом индивиде черты его отца, не достигшего жизненной цели. При этом не меньшее отторжение вызывает и замечание о достигнутых пациентом профессиональных успехах. Что же получается? Не достиг – ложь. Достиг – неправда. Вы обретаете душевное равновесие, только ощущая себя невинной жертвой.
– Я ощущаю себя невинной жертвой, будучи поставлен в двойственное положение. «Обсуждаемый индивид»… Вот именно. О ком это – обо мне или не обо мне? В Нью-Йорке, вероятно, добрая дюжина людей, подходящих под ваше описание. Но я не вхожу в их число! Может быть, «обсуждаемый индивид» – некий универсальный пациент, обобщенный образ? Тогда все сводится к проблеме самовыражения, и статью следует рассматривать как художественный текст.
– Ну и как она видится в этих критериях?
– Полагаю, что письменное изложение мыслей – не самый главный ваш талант.
– Так-так, – усмехнулся Шпильфогель. – Вот мы и добрались до сути. Беда не в том, что я, приведя ваш рассказ, сделал прозаика Тернопола узнаваемым, а в самом факте использования чужого материала. Плагиат, да? Бросьте! Я вам не соперник: письменное изложение мыслей – не самый главный мой талант. Не бойтесь, английская словесность не так уж сильно пострадала от непрошеного вмешательства.
– Ничего я не боюсь. Вы как Морин, право. А что до талантов, то уж извините. Ваш стиль оставляет желать лучшего. Считайте это объективной оценкой, писатель я или плясун на канате.
– А почему, собственно, вас так сильно занимает мой стиль?
– Как так «почему»? – Вопрос доктора, по-видимому искренний, меня обескуражил; в глазах потемнело от сердцебиения и подступающих слез. – Неужели не понимаете? Ведь я, я объект описания! Мой образ окарикатурен вашим корявым языком! – Слезы хлынули. – Вы были мне дуэньей, которой доверялось буквально все, не исключая ни малейшей подробности. Я рассчитывал, что буду правильно понят и, уж коли дело дойдет до описания, верно изображен…
– Дорогой мистер Тернопол! Вы заблуждаетесь, думая, будто весь мир жадно кинулся читать невзрачный научный журнальчик. Уверяю вас, тут не тот случай. Это не «Нью-Йоркер» или хотя бы не «Кенион-ревю». Даже большинство моих коллег не заглядывает в «Форум психотерапевтических исследований». И вам не стоило. Мировое сообщество нетерпеливо ожидает последних подробностей о тайной жизни Питера Тернопола? О нет! Их ждет лишь ваш собственный комплекс Нарцисса.
– Оставьте нарциссизм в покое! Боюсь, что это навязчивая психотерапевтическая идея. – От злости слезы высохли. – Бедный древнегреческий юноша у вас к каждой бочке затычка. Где грань между необходимым самоуважением и болезненной самовлюбленностью, между мужской гордостью и манией величия? И потом: говоря о моей горячности и вашей холодности при обсуждении возникшей проблемы, следует ли относить очевидное различие подходов исключительно на счет моих психических отклонений? И у доктора Шпильфогеля есть психика. Он тоже человек. Или я не прав? У вас же получается вот что: демонстрируя высокие нравственные нормы и чувство ответственности по отношению к Сьюзен, нарциссист тайно услаждает тщеславие; но стоит мне согласиться с этим, как я превращаюсь в нарциссиста, который думает только о своем благополучии. Морин, доложу вам, прибегала к такой же казуистике, чтобы опутать меня по рукам и ногам. Как ни поступи – кругом виноват. Почему, почему я всегда кругом виноват? Засорится кухонная мойка – что же ты наделал, Питер! По дороге из Рима во Фраскати повернул не на то шоссе – и она полмили честит меня так, словно я исчадие ада, выбравшееся из преисподней и плюхнувшееся на водительское место, на минутку перед тем заскочив в Уэчестер, чтобы на всякий случай отметиться в Плющевой лиге. Хорошенькое дело!.. Нет, я не «перескочил» на Морин. Она имеет к происходящему самое прямое отношение. Предположим, миссис Тернопол достанет где-нибудь «Форум» и прочтет ваш опус. Ничего невероятного: Морин всегда начеку и следит за всем, что может иметь отношение ко мне – то есть к алиментам. Вы вообще, без сомнения, несколько преувеличили, заявив, будто никто нигде никогда не раскрывает этого журнала: с чего бы тогда в нем печататься?.. Вообразите: она находит вашу статью и с выражением оглашает ее на очередном судебном заседании. И с каким выражением! Представляю себе реакцию окружного судьи. Господи Боже!
– Какое дело судье до ваших неврозов?
– Не лукавьте. Вы отлично понимаете, что я имею в виду. К примеру, место про половые связи с другими женщинами сразу же после вступления в брак. Можно подумать, что я пресловутый американский поэт итальянского происхождения, каждый день по окончании работы над очередной лирической миниатюрой инспектирующий в поисках вдохновения самые грязные притоны. Вы изобразили меня типом, одержимым манией трахаться, как кролик. Ей-богу, это не соответствует действительности. Наши отношения с Карен были глубоко серьезны. А ваше отношение к этим отношениям я отношу… Тьфу, вы меня совсем запутали!
– А проститутки?
– Две за три года. Чуть-чуть больше, чем полпроститутки в год. Достойно книги рекордов Гиннесса по разделу супружеской верности. И это при том, что я был женат на Морин, которая затевала тошнотворные сцены каждый день на каждой улице, каждой площади, в каждом соборе, каждом музее, каждой траттории, каждом пансионе Итальянского полуострова! Да другой не только не вылезал бы из публичного дома – другой бы отвертел ей башку! Легко понять югослава Мецика, моего предшественника: бац – и в челюсть. Но я – цивилизованная личность, интеллектуал. Я совестливое вместилище морали. И мне должно быть стыдно за три сотни лир, потраченных на проститутку и ставящих меня на одну доску с вашим поэтом итальянского происхождения, так, что ли?
– Другой, – ответил Шпильфогель, отмахнувшись рукой от моих доводов, как от назойливой мухи, – вероятно, ответил бы на давление жены более осмысленными поступками.
– Единственно осмысленный поступок, который можно было противопоставить давлению Морин, – убийство! А физическое уничтожение человека, даже собственной половины, даже полностью безумной, смертный грех. Я не вступал в половые связи – я спасался от худшего. И, между прочим, спасал Морин. Мне нужна была разрядка.
– Хорошо. С проститутками вы разряжались. А на кафедре английской филологии?
– Вы дотошны, как Коттон Метью[124]124
Коттон Метью – американский пуританский священник и писатель.
[Закрыть]. Пусть я такой, пусть я сякой, пусть я тоскливый Нарцисс – но не потаскливый кот. В моем жизненном плавании не член кормило. Почему вы все время хотите представить меня несостоявшимся сексуальным маньяком? Повторяю: мы с Карен…
– Я говорю не о Карен, а о жене вашего коллеги из Висконсина. Помните, торговый центр в Мэдисоне, случайная встреча и так далее?
– Раз у вас такая память, могли бы вспомнить, что к филологии это не имело никого отношения. И к сексу тоже. Мы знали друг друга бог знает сколько лет. А тут она неожиданно села ко мне в машину. Ну и что? Мой брак тянулся, как каторга. Ее тоже был не сахар. Произошел не половой акт, а дружеский! Акт великодушия, акт сердечной боли, акт отчаяния, если хотите. Те сладостные и безгрешные десять минут на заднем сиденье автомобиля были возвращением в юность, в детство, в игру «папа и мама». Можете смеяться, но мы сознательно решили считать случившиеся несостоявшимся, никакого продолжения – и как дисциплинированные солдаты после краткосрочного отпуска вернулись в опостылевшие окопы переднего края. Судите сами, ваше благородие, можно ли назвать это «вступлением в неразборчивые интимные связи вскоре после заключения брака». Так-то, ваша честь!
– А как, по-вашему, это называется?
– По-моему, я вел почти монашеский образ жизни. Две уличные проститутки в Италии, подруга юности в Мэдисоне – и Карен… Да меня в рамку надо обрамить, учитывая, что Морин не замуж за меня вышла, а вышла за всякие границы пристойности. Но я – или ваш поэт итальянского происхождения, как хотите, – все равно хранил верность чудовищу, исполнял свой долг, делал то, что считал достойным мужчины… Трус он и размазня, ваш итальянец. Подкаблучник, как говорит Моррис. А две итальянские проститутки, подруга детства и Карен были справедливым ответом на бесконечные издевательства.
– Вот видите, мы говорим одно и то же, только разными словами.
– Потрясающее наблюдение! Оно подтверждает, что вы находитесь в плену своих заблуждений и слушаете меня вполуха. Спорить бессмысленно – точно как с Морин. Прекратим бесполезные дебаты о смысле вашей статьи.
– Я уже неоднократно предлагал поступить именно так. – В его голосе не чувствовалось ни гнева, ни огорчения; еще бы, ведь Шпильфогель ничего не теряет от нашего разрыва. – Мистер Тернопол, я не ваш студент. Литературный талант пациента не имеет для меня никакого значения. Как и его мнение о моих стилистических способностях, лежащих за рамками профессии. Скажите лучше, наша совместная работа приносит плоды?