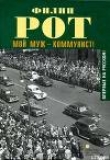Текст книги "Моя мужская правда"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
Разумеется, до рукоприкладства дошло не сразу. Ей пришлось немало постараться, чтобы довести меня до ручки. Поначалу я действовал иначе, пытаясь найти приемлемый финал для наших отношений, с каждым днем все более невыносимых и мучительных, становящихся опасными для здоровья и даже жизни. К тому же мне было искренне жаль Морин. Я уже отчетливо понимал, что толкает ее на дикие, поистине безумные демарши: полнейшая беспомощность. Нападая, она отчаянно защищалась, – именно так обстояло дело. Проходили месяц за месяцем. Я все яснее понимал ее сущность. За что бы Морин ни бралась, она неизбежно терпела фиаско. Иначе и быть не могло: гнусные козни подстерегали ее везде и повсюду. Настоящая мания преследования. Послушать только эти рассказы: директор театра на Кристофер-стрит обещал перевести из билетерш в актрисы – и обманул; преподаватель актерского мастерства из Вест-Фортиса зазывал в ассистентки, но оказался психом; один работодатель – «рабовладелец», другой – «дурья башка», третий – «бабник». Иной раз она покидала с трудом и унижениями добытое место со скандалом и хлопаньем дверей, иной – просто покидала, но в любом случае являлась ко мне в слезах и озлоблении. Середина дня. Пишмашинка только что не дымится. Работа в самом разгаре. Кажется, дело пошло. Рубашка взмокла на спине, будто я весь день гонялся по городу за шайкой бандитов. Но – очередной наниматель нарушил очередное обещание, которыми ее кормили все кому не лень. Морин внезапно врывается в полуподвал. При виде человека, получающего удовольствие от труда, в костер лютого гнева против эксплуататоров-кровососов подливается масло зависти и горечи по поводу собственной невостребованности. Учтем при этом, что ей нравились мои опубликованные рассказы, хотя, говоря об этом, она не столько хвалила их, сколько ругательски ругала критиков. А впрочем, нравились не рассказы, а имя, которое я приобретал. Я – значит, и она тоже. При определенных обстоятельствах. Что дал ей Мецик? Подложил шестнадцатилетнюю в койку к приятелю. Уокер? Блудил с гарвардскими первокурсниками, наплевав на нее. А я? Питер Тернопол демонстрировал трепетное служение искусству, юношескую неиспорченную честность и мог дать имя. Свое имя.
Наша связь так или иначе шла к концу. И пришла бы. Но тут Морин сказала… Да вы прекрасно знаете, что она сказала. А я хоть и почуял обман, но позволил себя переубедить. Не поверил, что она действительно способна на такое – она, которая вообще ни на что не способна. От ситуации за милю несло дерьмом; другой бы сразу ноги в руки – и бежать. Я – нет. Представить себе не мог ничего подобного. Зачем лгать Питеру Тернополу? Чтобы выйти за него замуж? Тоже мне, подарочек. Ведь ясно же, что от такого союза никто не сможет получить удовольствия. Водить за нос? Ради женитьбы? Меня? Слишком бессмысленно – даже для Морин. Мне Только Что Стукнуло Двадцать Шесть. Я Работаю Над Большим Романом. Я Только Начинаю Жить. Я уже тысячу раз говорил, что наши отношения, которые с самого начала были ошибкой, превратились в кошмар. «Мы оба одинаково в этом повинны, Морин», – говорил я, хотя сам-то не знал за собой ни малейшей вины, но хорошо, пусть, поделим прегрешения пополам, и каждый понесет их дальше своей дорогой, да не пересекутся больше наши пути, и не надо сцен, хватит, примем единственное разумное решение. Оставим в прошлом подтасовки и потасовки. «Между нами, – говорил я холодно и рассудительно, оставив побоку сантименты и романтическое заламывание рук, – не было и нет ничего общего; так пусть и не будет». Она слушала и кивала в знак молчаливого согласия (попробуй не согласись со столь разумными и исчерпывающими доводами). Прощай. Удачи тебе, Морин.
Пустое. Она возвращалась, и безобразные склоки вспыхивали по десять-пятнадцать раз на дню. Остыв, я снова говорил, и она опять кивала. Но как-то раз не кивнула, а произнесла, примирительно улыбаясь: «Как так – ничего общего?
Я тоже собираюсь заняться литературным творчеством». Мне чуть не стало дурно. Покинь мой дом. «Вот в чем дело! – начала она новый раунд. – До чего же просто, яйца выеденного не стоит! Ты боишься! Сам знаешь в глубине души, что у меня, женщины, получится не хуже твоего, вот и не даешь попробовать!» Перебранка набирала обороты. Слово за слово – Морин укусила меня за левое запястье. Свободная правая рука сама собой сжалась в кулак и резко ударила по носу начинающей писательницы. «Ты такая же скотина, как Мецик! Никакой разницы!» Да, первый муж (Морин почему-то нравилось об этом рассказывать) ежедневно устраивал ей кровопускание, так что нос превратился в «водопроводный кран» (цитата). Для меня же столкновение кулака с женским органом дыхания было внове. Я застыл, мрачно уставившись на свое запястье с глубокими следами маленьких острых зубов. С детства мне внушали, что насилие – самый неподходящий способ для решения конфликтов. Не доводи дело до крови, Питер. Ты мужчина, Питер. Никому не делай больно, Питер, но и не позволяй никому сделать больно тебе. Сейчас оба эти принципа были нарушены, но я не чувствовал ни капли стыда. Мужское достоинство пострадало от ее укуса, но было восстановлено моим ударом. Око за око, Питер, нос за запястье. «Убирайся! – заорал я, трясясь от ненависти. – Немедленно вон отсюда!» Она испугалась: ей еще не доводилось видеть меня в таком состоянии. Пока Морин собирала чемодан, я стоял у нее за спиной и в буквальном смысле рвал на груди рубаху – страшно подумать, что иначе сделали бы руки. Она тем временем успокоилась и, уходя, попыталась прихватить мою вторую пишмашинку. Это еще зачем? А затем, что задумана проза «про одного тупоголового инфантильного сукина сына, так называемого художника слова, а как он будет именоваться в рассказе, догадайся сам».
– Сейчас же поставь машинку на место!
– А на чем мне тогда печатать?
– Хватит дурить! Совсем рехнулась? Хочешь выставить меня на всеобщее посмешище и думаешь, что я снабжу тебя всем необходимым для этого?
– У тебя две машинки. У меня – ни одной. По справедливости надо делиться. У нас свобода слова. Пускай все узнают о существовании самовлюбленного чудища с мозгами недоразвитого эмбриона!
– Сделай милость, исчезни. Поставь пишмашинку на место. Я сам напишу о недоразвитом эмбрионе. Потом. Когда отойду от этого бардака с кусанием и мордобитием. Уходи! Мне надо работать!
– Да пропади пропадом эта работа! Ты когда-нибудь думаешь о чем-нибудь, кроме своей возвышенной писанины?
– Тебе-то теперь какое дело? Выметайся! Черт с тобой, бери машинку, только оставь меня!
Я больше не рвал на груди рубаху. Я ее уже разорвал. Морин, очевидно, обратила на это внимание, сообразила, что теперь сама может быть разодрана в клочья, и сочла за лучшее ретироваться, прихватив портативный реминггон-ройял, подаренный мне родителями на бар-мицву: пиши, Питер, ведь творчество для тебя превыше всего.
Через три дня Морин снова появилась на пороге – в голубом шерстяном пальто и гольфах, бездомная бродяжка из ночлежки. В ее мансарде на Кармин-стрит было так одиноко! Невозможно, просто совершенно невозможно. Поэтому она провела эти дни в Гринич-Вилиджа у друзей, пожилой супружеской пары. Я их знал и терпеть не мог; они отвечали тем же, считая меня и мои произведения «одноклеточными». Супруг («старый друг Кеннета Петчена»[95]95
Петчен Кеннет – американский поэт-экспериментатор в области формы, романист, живописец и график.
[Закрыть]) обучал когда-то Морин скульптуре по дереву. Потом, как вы помните, его жена оказалась слишком ревнива для продолжения занятий. Но общение все равно не прервалось. Месяца за два до нашего разрыва, Морин говорила мне о них разные гадости, называла «шизиками», но в чем там дело, я так и не понял.
Итак, она вернулась, по обыкновению делая вид, что, в сущности, ничего особенного не произошло. Ну, ты и даешь, Питер, ха-ха-ха. Как можно принимать всерьез слова, сказанные в раздражении? Ну, укусила, ну, ударил – всякое бывает. Действительно, думал я в тоске, правы супруги-скульпторы: мы с моей прозой – одноклеточные. У нас есть принципы, мы знаем границы, за которые нельзя переходить. Я – средний американец, еще более средний, чем Джордж Ф. Бэббит[96]96
Джордж Ф. Бэббит – герой романа «Бэббит» американского писателя Синклера Льюиса.
[Закрыть], не великовозрастный битник с Бликер-стрит, которому наплевать на все и вся; примерный еврейский мальчик из Уэстчестера, маленькими шажками планомерно идущий к самореализации. Для них я то же, что Дина Дорнбущ – для меня.
«Ты пользуешься моими слабостями. Другой бы давно свернул тебе шею. Но сути это не меняет». Она сидела на стуле, не сняв пальтеца. Я держал себя в рамках приличий, но был демонстративно холоден и отстранен, не давая ни малейшего шанса подумать, что можно вернуться к прошлому. Отшатнулся, когда, входя, Морин попыталась как ни в чем не бывало чмокнуть меня в щеку. Она хихикнула.
– Ты принесла назад пишмашинку? – спросил я, подчеркнув и вопросом, и тоном: в данном случае никакой другой повод не считается достаточным для нанесения визита.
– Ты мелкобуржуазный монстр! – окрысилась Морин. – Кто вытолкал меня на улицу? Я сплю на полу у практически чужих людей. Там, между прочим, шестнадцать кошек. Всю ночь они тыкаются мне в лицо усами и попами, не уснешь. А ты – «пишмашинка»! Ну как же, это ведь твое имущество! Но всего лишь имущество, Питер, вещь, а перед тобой – живой человек!
– Про кошек очень трогательно. Почему бы тебе не ночевать в своей квартире? Отлично выспалась бы.
– В своей мне одиноко. Тот, у кого вместо сердца сосулька, этого не поймет. Сосулька не может сочувствовать. Сам знаешь, моя квартира и не квартира вовсе, а чердак с сортиром. Ты бы там и минуты не спал.
– Весьма вероятно. Но что с машинкой?
– Кусок железа твоя машинка! Ты лучше спроси, что со мной? – И, вскочив со стула, она решительно направилась ко мне, вращая сумочку, как пращу.
– ТОЛЬКО ПОПРОБУЙ, МОРИН. ТОЛЬКО УДАРЬ. Я ТЕБЯ УБЬЮ.
– Давай, убивай! Меня еще никогда не убивал ни один высоконравственный поклонник Флобера! Хочется попробовать.
– Она отбросила сумочку, бросилась мне на шею и разревелась. – Питер, у меня ничего и никого. Совсем никого и ничего. Я не знаю, как быть. Мне не хочется возвращаться к скульпторам и кошкам. Пожалуйста, не гони меня. Я три дня не мылась. Можно хотя бы принять душ? Сначала прийти в себя, а потом уж уйти – обещаю, что навсегда!
Дальнейшее сбивчивое повествование выглядело в общих чертах так: в один из вечеров все обитатели квартиры на Бликер-стрит (кроме кошек) отправились есть спагетти на Четырнадцатую улицу; в дом залезли грабители; пропали инструменты для работы по дереву, две флейты, моя пишмашинка и великолепный Блатштейн (я было подумал о ружье или револьвере, но оказалось, что речь шла о художнике).
Не поверив ни единому слову, я, когда Морин отправилась в ванную и оттуда послышался шум воды, влез в карман ее шерстяного пальтишка. Россыпь мелких монет. Бумажные носовые платки. Наконец – квитанция из ломбарда. Недаром я жил в двух шагах от Бауэри[97]97
Бауэри – улица и район в Нижнем Манхэттене, известные ночлежками, питейными заведениями, ломбардами, дансингами и ростовщическими конторами дурной репутации.
[Закрыть] – иначе догадка о том, что Морин просто-напросто заложит мою пишмашинку, могла бы и в голову не прийти. Кое-какие жизненные уроки все-таки усваивались, пусть и не так быстро, как хотелось.
Что сделал бы на моем месте другой человек – ну, хоть тот же Джордж Ф. Бэббит? Он вспомнил бы старую заповедь джентльмена: «Не лезь на рожон». Он положил бы квитанцию обратно в карман пальто и постарался забыть о ней. Пускай дамочка прополощется и, как обещала, дует на все четыре стороны, сказал бы себе Джордж Ф. Бэббит, и да воцарятся снова в твоем доме мир и покой. Но я не Джордж Ф. Я бросился, размахивая квитком, в ванную комнату, и там начался такой тарарам, что молодожены, снимавшие квартиру этажом выше, жизнь которых в последние месяцы была из-за нас сущим кошмаром (супруг, редактор одного издательства, по сей день со мной не раскланивается), начали яростно молотить шваброй об пол.
– Мелкая воровка! Карманница!
– Но я это сделала только ради тебя!
– Ради меня? Ты заложила мою пишмашинку ради меня?
– Вот именно!
– Что за бред?
Она опустилась в ванне на корточки, сжавшись в комок, словно струйки воды из душа сделались слишком тяжелым грузом, и невнятно запричитала. Обнаженная Морин обычно напоминала бездомную кошку: поджарую, настороженную, взведенную, как пружина, готовую и к бегству, и к нападению. Но сейчас, когда ее тело безвольно скорчилось, когда мокрые черные волосы отдельными прядями упали на лицо, когда сложенные крест-накрест руки обхватили плечи, а острые соски почти уткнулись в колени, я увидел перед собой австралийскую аборигенку или африканку из племени, до сих пор пребывающего в первобытном состоянии, – такие фотографии время от времени появляются на обложке «Нэшнл джеографик»: каменный век, молитва богу-солнцу о прекращении дождей.
– Конечно, бред, – пожаловалась она своему доисторическому божку, – я беременна. Не хотела тебе говорить, думала раздобыть денег на аборт – и дело с концом. Питер, я и в магазинах подворовывала.
– Ты шутишь?
– У Альтмана и немного у Клейна. Вот так.
– Но ты не можешь быть беременна, Морин, – мы же не спим вместе бог знает сколько!
– Я БЕРЕМЕННА УЖЕ ДВА МЕСЯЦА.
– Два месяца?
– Два месяца. Я скрывала, потому что не смела отвлекать тебя от работы.
– И напрасно, черт возьми. Я бы дал тебе нужную сумму.
– О, какие мы щедрые и великодушные! Но о чем говорить, теперь уже слишком поздно. Сожалею. Хватит стелиться перед вами, мужиками. Или ты на мне женишься, или я себя убью. Выбирай. Я готова, Питер, в самом деле готова! – вопила она, колотя кулачками по краю ванны. – Учти, Питер, это не пустая угроза! Я сорвалась с вашего поводка, самовлюбленные, напыщенные, инфантильные, безответственные ублюдки из Плющевой лиги[98]98
Плющевая лига – объединение, в которое входят восемь старейших американских университетов и колледжей.
[Закрыть], родившиеся в сорочке!
С сорочкой вышел явный перебор. Но истерика есть истерика. Я не стал спорить.
– Аванс в кармане и священное служение Искусству на аркане, да меня тошнит от вашего Искусства, это просто ширма, за которой удобно прятаться от реальности. Терпеть тебя не могу и твоего дерьмового Флобера терпеть не могу, но ты женишься на мне, Питер, потому что – хватит! Достаточно я натерпелась! Жертв принесено с избытком. Не рассчитывай, что отделаешься от меня, как от той девушки!
«Той девушкой» Морин обычно именовала Дину, чье место заняла без всяких душевных терзаний; теперь же, пригвождая меня к позорному столбу, призвала в союзницы и ее, и Грету, и студентку из Пемброка – все пошли в ход. Что между ними общего? Да только одно: ты нас использовал, Питер, поматросил и бросил, дунул-сплюнул.
– Но мы не пивная пена, Питер, не фантики и не окурки, мы живые, с нами нельзя обращаться подобным образом! Мы не позволим таким, как ты, швырять нас в урну!
– Ты не беременна, Морин! И ты, черт подери, прекрасно это знаешь. Скажешь тоже – «мы»! Я отлично понимаю, чего ты хочешь.
– Не обо мне разговор. Речь идет о тебе. Ты хоть отдаешь себе отчет, почему всех бросаешь: студенточку из Пемброка, немецкую медсестру, ту девушку, меня?
– Морин, ты не беременна, – бог знает в какой раз повторил я, пропуская мимо ушей ее психотерапевтические выкладки. – Это неправда.
– Нет, правда. Ты, как дикарь огня, боишься брака, детей, семьи, вообще длительных связей, вообще женщин. Ты все губишь на корню. Потому что ты одушевленный ремингтон, хоть и без души. А еще потому, что ты…
– Педераст, – пошутил я.
– В точку! И зря пробуешь отшутиться – тут уж не до шуток.
– Еще бы!
– Ты самый явный скрытый гомосексуалист в моей жизни. Ты – Мецик. Одно к одному. Он заставил меня взять в рот у его дружка, чтобы посмотреть со стороны. Сам был бы не прочь этим заняться, да кишка тонка. Вот и заставил. А ты…
– Тебя заставишь! Где были твои зубы, Морин, твои острые клыки? Что ж ты не откусила ему причиндалы?
– Уж откусила бы. Только об этом и мечтала. Женщины, если хочешь знать, всегда только об этом и мечтают. Но они бы меня потом изувечили, напившиеся орангутанги. Так-то, мистер Тернопол! А иначе откусила бы член под самый корень и выплюнула прямо в пьяную харю, как сейчас плюю на тебя, великого и неповторимого, который гонит на улицу беременную женщину! На третьем месяце! – При этом Морин не переставала рыдать, и сгусток слюны, предназначенный мне, стек по ее трясущемуся подбородку.
На ночь я предоставил ей кровать (впервые за три дня сплю в постели, не преминула напомнить Морин), а сам до утра просидел за письменным столом, обдумывая, куда бы дать деру. Исчезнуть можно было немедленно, мест для этого хватало. Была супружеская чета в Провиденсе, преподаватели университета, которые на короткое время наверняка дали бы мне приют; был армейский друг в Бостоне; были однокашники из колледжа, живущие в Чикаго; Джоан, родная сестра, в Калифорнии. И конечно, брат Моррис. Уж он-то примет меня с радостью и на сколь угодно долгий срок. Лучшего и более близкого убежища не придумаешь. С тех пор как я обосновался в Нью-Йорке, Мо звонил не реже двух раз в месяц: справлялся, не нужно ли мне чего и звал в гости – в любой день и час. Как-то я воспользовался приглашением и одним воскресным утром заявился на бейгелах[99]99
Бейгелах – бублики (евр.).
[Закрыть] с паштетом из копченой рыбы. Морин была при мне. Еда ей понравилась, а домашняя атмосфера – нет. Я не удивился: Мо был не очень приветлив, он всегда относился с величайшим подозрением ко всем моим новым знакомствам. К тому же характерный для него темп жизни (быстрей, быстрей, быстрей) мог смутить любого гостя со стороны. «Неужели ты такой же, как он?» – спросила промолчавшая практически весь визит Морин на обратном пути. Поистине удивительный вопрос. Конечно, не такой. Моррис – с давних лет существо публичное: университет, комиссии ООН, политические митинги; при этом (и несмотря на это) он оставался настоящим главой семьи.
– Я не о том, – сказала Морин.
– О чем же?
– Твой брат тиран.
– В каком смысле?
– Посмотреть только, как по-скотски он обращается с женой. Нет слов.
– Побойся Бога, Морин, она для него самый близкий человек!
– Она для него вообще не человек. Она для него воробей, которому милостиво разрешено подбирать крошки. Моррис – властелин, а жена при нем состоит. Вот и весь смысл ее жизни.
– Это не так.
– Может быть. Не будем спорить. Просто мне неприятны и он и она.
Моррис с самого начала отвечал Морин взаимностью, но до определенного момента на словах сдерживался: во-первых, не хотел лезть в чужую епархию, а во-вторых, считал (как, впрочем, и я), что не пройдет недели – и странноватая подружка младшего брата исчезнет бесследно. Когда же мои отношения с Морин перешли в затяжную фазу, Тернопол-старший обеспокоился и попробовал поговорить со мной начистоту, но наткнулся на ежовые иглы. Я не младенец и не нуждаюсь в опеке. Если у меня и впрямь возникнут проблемы, запросто справлюсь с ними сам. Так я тогда полагал. Потому что был самоуверен, ослеплен молодостью и успехом, потому что не видел истинной глубины пропасти, в которую влез, потому что основы, на которых зиждилась в высшей степени достойная жизнь Морриса, казались мне не столь уж основательными, потому что опыт, извлеченный из художественной литературы, представлялся мне вполне достаточным. По всему по этому я ответил, когда брат стал настойчиво зазывать меня на обед (но только приходи, пожалуйста, один, Пеппи):
– Не беспокойся, Мо, как-нибудь разберусь. Мое дело.
– Твое дело – проза, а не маленькая индианка. С ней тебе самому не разобраться, не строй иллюзий.
– «Индианка» – должно быть, эвфемизм. Если ты про Морин, то ее мать из ирландской семьи, а отец немец.
– Правда? А судя по волосам и глазам, твоя подружка из племени апачи. Несколько диковата, правда, Пеп? Ты что, злишься? Ладно, проехали. Можешь не отвечать. И зря смеешься: еще наплачешься. Погоди, дикарка снимет с тебя скальп.
– Ухоженный благопристойный еврейский скальп.
– Ухоженный благопристойный еврейский скальп с умных и талантливых еврейских мозгов. Разве не жалко? Спасайся, дружок. Оставь львов Хемингуэю.
– Каких таких львов? Ты о чем, Мо?
– О ком. О тебе. Ты похож на недотепу, заснувшего в джунглях неподалеку от львиного логова.
– Я сплю в полуподвале на Девятой улице.
– Хорошо. Ты спишь в полуподвале на Девятой улице с дикой львицей. Странная забава. Только этого дерьма не хватало тебе на голову.
Тут я бросил трубку. Не надо лезть мне в душу. И этот тон… Младший брат подошел к зеркалу. Грозной печати рока на лице не наблюдалось. Прежний Тернопол-Победитель. Недолго же ему осталось.
На следующее утро после обсуждения двухмесячной беременности я настоял, чтобы Морин сдала мочу на анализ в ближайшую аптеку, угол Второй и Девятой. Тест покажет, как обстоят дела в действительности. «Насколько я понимаю, ты не веришь мне на слово. Что ж, посмотрим». – «Пожалуйста, займись мочой». Она сделала, как я сказал; почти: моча была не ее. Подробности выяснились три года спустя, когда после очередной суицидной попытки Морин потянуло на откровенность. Итак: прежде чем зайти в аптеку, она направилась в Томкинс-сквер, ставший позже излюбленным местом хиппи, а в пятидесятые собиравший под солнышком на своих скамейках всякую окрестную пьянь-рвань. Там Морин подошла к беременной негритянке, которая плелась по аллее, толкая перед собой коляску с предыдущим своим порождением. «Я – сотрудница исследовательского центра; не хотите ли за соответствующую плату сдать мочу на анализ?» После недолгого торга стороны достигли соглашения. В подъезде многоквартирного дома беременная негритянка спустила до колен панталоны и присела на корточки в донельзя загаженном углу. Тут Морин не соврала. Через несколько лет вернувшись в Нью-Йорк, я посетил место совершенного против меня преступления – подъезд оставался именно загаженным и именно донельзя. Чернокожая мамаша пустила мощную струю в услужливо и своевременно подставленную банку. Так была решена моя судьба. Морин это обошлось в два доллара двадцать пять центов. Ничего не скажешь, выгодная сделка.
Анализ, сказала Морин вернувшись, будет готов через четыре дня, плюхнулась в мою постель и не вылезала из нее трое суток, все это время бредя о прошлом (либо бродя по прошлому; либо делая вид, что бредит или бредет). Она собачилась с Мециком; отбивалась от его обивочного дружка; изливала потоки слез и рыданий на Уокера, разгуливающего перед зеркалом в нижнем белье молодой жены (ее чулки он запихал в бюстгальтер). Отказывалась от еды и питья. Не давала вызвать врача, с которым за пару месяцев до того консультировалась. Когда я дозвонился скульпторам с Бликер-стрит, не пожелала с ними разговаривать. Не хотите ли навестить заболевшую приятельницу, спросил я, надеясь, что они уговорят ее что-нибудь съесть. Выхватив трубку у мужа, супружница злобно рявкнула: «Эта так называемая приятельница больше для нас не существует». Отбой. Черт его знает, что Морин начудила у шизиков… Я сидел дома, боясь оставить ее одну даже на минуту – призрак самоубийства витал по полуподвалу. Я испил полную чашу коктейля из страха и омерзения; ничего подобного мне не приходилось до того испытывать; о боже, это были только цветочки – ягодки впереди. Вечером третьего дня Морин встала с постели. Видения прекратились. Она умылась и глотнула апельсинового сока. Потом опустилась на стул в гостиной и битый час абсолютно молча и неподвижно просидела, закутавшись в мой махровый халат. Глядела в одну точку.
– Раз уж тебе стало лучше, – сказал я, – пойду пройдусь. Подышу свежим воздухом. Надеюсь, за это время ничего не случится. Будь благоразумна. Я на минутку.
– Воздухом? На минутку? – Голос ее был полон подозрительности.
– Воздухом. На минутку.
– Собираешься слинять, Питер? Как от всех прежних своих идиоток? Сунул-вынул – и бежать, верный ученик Флобера?
– Скоро вернусь.
Вдогон мне, выходящему, прозвучали слова, обращенные в пустоту… нет, не в пустоту, а к некому невидимому судье (о, прозорливая сучка, она уже тогда все предвидела!): «После этого, ваша честь, мы уже не встречались».
Дойдя до аптеки, я извинился перед дежурным фармацевтом за то, что пришел несколько раньше назначенного срока, и спросил, не известны ли результаты теста на беременность. Да-да, миссис Тернопол (так Морин обычно представлялась в общественных местах). Должны быть готовы завтра утром. Ах, сегодня утром? Очень хорошо, значит, мы ошиблись. (Она ошиблась. Она часто ошибалась. «Ну и что? – агрессивно оправдывалась Морин в таких случаях. – Я же не автомат, черт возьми! Это ты автомат для достижения успехов, а ведь есть еще и люди! Как я, например».) Если же это не ошибка, а обман, то зачем? Чтобы на день оттянуть развязку? Просто по неистребимой привычке ко лжи? Или так она понимает суть «творчества», которым собирается заняться?
Не меньше вопросов вызвал и результат анализа. Как Морин умудрилась два месяца не подавать вида, что залетела? Она, которая выплескивала на меня все подряд – включая то, чего не было и быть не могло? А тут – совершенно несвойственная скрытность. Несвойственная и бессмысленная. Я ведь чуть не выгнал ее – беременную. На третьем месяце. От меня.
Уму непостижимо. Когда мы с ней в последний раз спали? Даже не вспомнить. И тем не менее. Но, если я теперь не женюсь, ее психику непоправимо искалечит вынужденный аборт. Или придется оставить ребенка в больнице для дальнейшего усыновления. Или воспитывать незаконнорожденного. Да нет, глупости: не сумеет она никого в одиночку воспитать, она ничем не способна заниматься больше шести месяцев подряд, даже распространением театральных билетов. И – главное: плоть от плоти Питера Тернопола не может оказаться безотцовщиной. Знаете, и мысли не мелькнуло, что виновник беременности – не я, а кто-нибудь другой. Морин врала всегда и обо всем, но не в такой же ситуации! Подобного обмана я и представить себе не мог. И никто не смог бы. Ни Стриндберг в своих пьесах, ни Гарди в своих романах.
О, быть бы мне в двадцать пять с небольшим и в самом деле столь независимым, каким хотелось казаться, столь самостоятельным, столь преданным искусству, столь зрелым! Не видать бы ей тогда меня как своих ушей. Несмотря на немыслимую доверчивость, я все-таки не женился бы. Плевал бы на все «научно подтвержденные» доказательства. Пусть сперма – моя, а ребенок – все равно ее. Я бы вернулся с прогулки и сказал: «Хочешь расквитаться с жизнью – дело твое. Хочешь рожать – твое право. А жениться, Морин, не собираюсь ни при каких обстоятельствах. Жениться на тебе может только буйнопомешанный».
Но я все не возвращался и не возвращался, все бродил и бродил между Девятой улицей и пересечением Колумбия-авеню с Бродвеем, откуда всего два квартала до дома Морриса; ходил туда и обратно и дошел до того, что решил: в нынешнем затруднительном положении следует вести себя по-мужски, а именно: во-первых, сделать вид, что я не знаю результатов анализа. Во-вторых: «Морин, все происходящее – чушь собачья. Мне безразлично, беременна ты или нет. Тили-тили-тесто, начихать на тесты. Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж в любом случае. Будь моей женой». Поясняю: Питер Тернопол ни на минуту тогда не сомневался, что угрозы Морин были нешуточными. Что женщина и впрямь покончит собой, если я ее оставлю. Кто захочет стать причиной суицидного акта? И где проходит грань между самоубийством и убийством? Между потворством первому и соучастием во втором? Я не знал. Значит, выход только один: брак. Брак, в котором мне придется так или иначе доказать ей и, главное, себе, что он состоялся не вынужденно, а в результате свободного выбора, был плодом продуманного решения, а не безумного шантажа, – иначе наша дальнейшая жизнь станет хитросплетением взаимной ненависти и презрения (чем она, впрочем, и стала, несмотря ни на что).
Напрасно, напрасно. Попытка с негодными средствами. Мало того, что мы бог знает сколько времени не занимались с Морин любовью – я вообще не хотел этим с ней заниматься. Я ее не любил. Я ненавидел ее.
Но жребий был брошен. «Жизнь стала бы смертельно серьезна и нравоучительна, не оставайся с нами простодушные идеалы юности», – заметил как-то Томас Манн в одном из автобиографических эссе; эти слова я вынес в эпиграф (один из двух) к роману «Еврейский папа»; многих читателей он насторожил. О да, бродя туда-сюда по тротуарам Верхнего Вест-Сайда, терзаясь сомнениями и угрызениями совести, я решал этическую проблему, хорошо знакомую по лекциям и семинарам. Однако реальность оказалась куда серьезней, чем история литературы. Лорд Джим[100]100
Лорд Джим – герой одноименного романа Джозефа Конрада.
[Закрыть], Кейт Кроу[101]101
Кейт Кроу – персонаж романа Генри Джеймса «Крылья голубки».
[Закрыть], Иван Карамазов – и я! Не будь их, я, вероятно, не совершил бы того, что вскоре осознал как непростительную ошибку. Но, очарованный классическими образами, самым классическим образом одурманенный, я поступал единственно возможным для благородного молодого человека, каковым себя считал, манером. Книги – лучшее из всего, что ниспослала жизнь; я был в долгу перед ними; я испытывал книжное чувство долга, я исповедовал книжный кодекс чести. Потому и относился с таким трепетом к изучению литературы, потому и стал писателем. А раз литература завлекла меня в теперешнюю ситуацию, она и укажет выход. Пропади все пропадом, у меня остается творчество. Вот в него-то я и верю. Оно не виновато, что мир полон лжи.
Итак, беда крылась в том, что на середине третьего десятка я был литературным мальчиком. Не «золотым мальчиком американской литературы» (см. воскресное книжное обозрение «Нью-Йорк таймс» за сентябрь 1959 года), а именно литературным мальчиком. Ловя ящерицу жизни, я остался с хвостом нравственного содержания в руках. Романы госпожи Бовари довольно дешевы; драгоценность им придает роман Флобера. Тогда я не хотел этого понимать. Голый скелет житейских коллизий обрастал в моем восприятии тучным мясом беллетристических отношений. Я глядел на пережитое через увеличительное стекло перечитанного, создавая тем самым дополнительные препятствия в общении с реальностью, и без того труднопереносимой. Питер Тернопол, читатель и сочинитель, слишком многого не мог разрешить себе – потому и не мог толком разрешить многих проблем. Жизнь с язвительной ухмылкой подсовывала мне испытания и осложнения: ты этого хочешь, мальчик? Получай! Стучись башкой о категорический императив, на здоровье.
Я строил взаимоотношения с действительностью так, словно существовал под обложкой «Братьев Карамазовых» или «Крыльев голубки»; выходила чепуха, поскольку со всех сторон меня окружала мыльная опера. Причем список действующих лиц и исполнителей состоял из одной многообразной Морин.
Я вернулся на Девятую улицу в начале двенадцатого, прошлявшись почти три часа. Морин, к моему удивлению, сидела за письменным столом полностью одетая, даже в пальто.
– Все-таки вернулся, – сказала она сквозь слезы, уставившись на столешницу, – вот уж не ожидала.