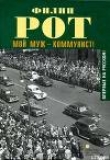Текст книги "Моя мужская правда"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
– Это произошло два месяца назад, если я правильно понял, – задумчиво пробормотал Шпильфогель. – Что же случилось дальше?
– Все очень плохо, доктор.
– А именно?
– У меня появились странности.
– В чем они проявляются?
– Ну, во-первых, я остался с Морин – куда уж страннее после всего, что сделано и сказано. Все про нее знаю и все-таки живу с ней. А куда деться? Если я завтра не прилечу домой, начнется вселенский скандал. Она недвусмысленно это пообещала, говоря по телефону с моим братом. Я уверен: Морин именно так и поступит.
– Очень хорошо, а во-вторых?
– Сперма.
– Хм, сперма? Что у вас со спермой?
– Меня, понимаете ли, неудержимо тянет оставлять ее в разных местах… как это объяснить… что-то вроде меток.
– Ну-ну…
– Вот именно, метки. Бывая в чужих домах, я мечу их спермой.
– Вы тайно проникаете в частные владения, пользуясь отсутствием хозяев?
– Как вы только могли такое подумать? – резко одернул я доктора. – Вы что, принимаете меня за ненормального? Нет, нет, меня приглашают в гости, на приемы, на вечеринки. Я захожу в ванную комнату и оставляю капли спермы на кране, скажем, или в мыльнице, где-нибудь. Всего несколько капель.
– Иначе говоря, придя в гости, вы мастурбируете в ванной?
– А как же иначе? Потом возвращаюсь к остальным.
– Вы как бы оставляете свою роспись.
– Серебряная пуля Тернопола[104]104
Имеется в виду драма Юджина О’Нила «Император Джонс» (первоначально названная «Серебряная пуля»), в которой беглый каторжник Брутус Джонс, объявивший себя императором полудикого племени, убеждал своих «подданных» в том, что убить его может только серебряная пуля. Однако причиной его смерти явилась не пуля, а собственный страх.
[Закрыть].
– Серебряная капля Тернопола в ванной, на кране или в мыльнице, – удачно отреагировал Шпильфогель на мою шутку, но я не улыбнулся и не стал продолжать в том же духе; серьезная тема не была исчерпана.
– Не только в ванной на кране или в мыльнице. В университетской библиотеке на корешках книг – тоже.
– Книг? Каких книг?
– Любых. Какие попадутся.
– А где еще? Говорите, прошу вас. Не стесняйтесь, – подбодрил меня доктор.
– Однажды, – отрапортовал я после тяжелого вздоха, – мне приспичило заклеить спермой конверт со счетом телефонной компании.
– А вот это действительно оригинально, мистер Тернопол, – хмыкнул Шпильфогель.
– Зачем мне все это нужно? – жалко всхлипнул я.
– Зачем, вы спрашиваете? Успокойтесь. Дело яснее ясного.
– Я вышел из-под контроля! – Плач так и рвался наружу.
– Ошибаетесь, – мягко произнес доктор Шпильфогель, для убедительности в такт словам похлопывая ладонями по подлокотникам кресла, – вы полностью под контролем. Под контролем Морин. Вы взвинчены до крайности. Озлоблены. Но изливаете гнев, беспрестанно рыдая, на все, что угодно, кроме его истинного источника.
– Понимаю, на что вы намекаете. Но Морин для меня – неприкасаемая. Если что, она погубит Карен. Ее репутацию, будущее, саму жизнь! У этой ищейки собраны досье на всех моих студенток. Пропадет невинное существо!
– Судя по вашему же описанию, Карен сумеет за себя постоять.
– До определенной степени. Вы не подозреваете, на что способна Морин. Хоть на прямое убийство. Я не рассказывал, как она пыталась вырвать у меня из рук руль, когда мы в Италии ехали на «фольксвагене» по горной дороге? Нет? А вы знаете, из-за чего Морин тогда решила сбросить нас под откос? Из-за того, что в Сорренто, выходя из дверей гостиницы, я не пропустил ее вперед. Целую неделю переваривала этот ничтожный инцидент, заводила себя, распаляла, – и взрыв, и пропади все пропадом. Когда вожжа попадает под хвост, на Морин нет удержу.
– Если это действительно так, предостерегите Карен. Она будет подготовлена к неожиданностям, и ничего страшного не случится.
– Схватилась за руль и стала выкручивать его в сторону пропасти! Кошмар! Трудно поверить, но я говорю чистую правду. Более того – я о многом не говорю!
Теперь, когда чувство мести во мне мертво, когда переполнявший меня гнев угас, а прах Морин давно развеян с самолета над волнами Атлантики, я думаю, что и безо всякого Шпильфогеля мог бы справиться с проблемой Морин Мецик-Уокер Тернопол, этой истеричной недоучки, игравшей мужем, как плюшевой игрушкой. Ведь, в конце-то концов, я был сильнее, умнее, образованней и куда достойней. Почему же, доктор Шпильфогель, ваш пациент превратился в безвольную уступчивую жертву? Почему не сработал инстинкт самосохранения? До поры до времени я убеждал себя, будто не могу бросить Морин в несчастье; но, поняв, что в беду ввергла меня она, почему не нашел сил для ухода? Даже посвященный в тайну мочи, даже тогда не ушел. Отчего? Отчего тот, кто всю жизнь – и в детстве, и в юности, и на пороге зрелости – настойчиво и бесстрашно отстаивал собственную самостоятельность, в результате подчинился придурочной взбалмошной Клитемнестре?[105]105
Клитемнестра – в греческой мифологии неверная жена Агамемнона и мать его сына Ореста. По возвращении в Трою Агамемнон был убит Клитемнестрой и ее любовником Эгисфом.
[Закрыть]
Ничего не ответил доктор Шпильфогель, лишь предложил приоткрыть дверь в беззаботные детские годы. Нашу вторую беседу он начал с вопроса: «Скажите, жена напоминает вам мать?» Хороший вопрос. Стало быть, он не собирается топтаться своими психоаналитическими подошвами по болезненным воспоминаниям об армии или, того хуже, о последних двух месяцах в Висконсине. «Нет, не напоминает», – честно ответил я. Морин мне вообще никого не напоминает. Она ниже всяких сравнений. И представить не могу, что есть на свете другая женщина, способная так измываться над человеком, третировать и унижать его столь изощренно и извращенно. И мужчины такого не припомню, разве что сержант в Форт-Диксе, ответственный за строевую подготовку, мог посоперничать с Морин – если бы, конечно, она дала фору. Я думаю, доктор Шпильфогель, что все обстоит как раз наоборот: жена всегда и во всем не напоминала мне мать. Моя мать – существо не злобное, не сварливое, не упрямое, не вспыльчивое, не склонное к самоубийству. Она меня никогда не обижала. Она меня всегда обожала. Пылинки готова была сдувать. Боготворила. Потакала. Представляете, как это грело? Безграничная материнская убежденность в моей исключительности – вот что подтолкнуло к развитию мои природные способности. Не скрою, я во всем подчинялся матери, когда был ребенком, – но ведь то, что дитя слушается родителей, еще не повод для разговоров о подавлении. Это естественно, это основа нормальных отношений в семье, реализм для маленьких. С пятилетним ведут себя иначе, чем со взрослым. В подростковом возрасте отношения с матерью изменились. Я перестал слепо подчиняться, но, не вступая в острые противоречия, где лаской, где наигранным страданием всегда мог подвигнуть маму на поддержку любых моих желаний и начинаний; она держала сторону младшего сына практически во всех конфликтах, вызванных, по большинству, непоколебимым в юном Питере ощущением превосходства над всеми; достичь взаимопонимания было тем проще, что в глубине души она сама была совершенно согласна с такой постановкой вопроса. Принц неумолимо шагает к коронации; не нам ему мешать.
А вот с отцом, который во внутрисемейных сюжетах был персонажем второго плана, мне не раз приходилось вести борьбу. Моя растущая самонадеянность его сильно беспокоила. В раннем детстве он не так тесно общался со мной, как мама, с утра до вечера занимаясь магазином, а в трудные времена еще и подрабатывая по вечерам: жившему по соседству шурину, торговавшему кровельными и отделочными материалами, то и дело требовалась помощь. Однажды отвлекшись от ежедневного труда, отец с понятным удивлением заметил, что клювик невинного птенчика, в который было столь много вложено, требует уже не столько еды, сколько диалога; начались споры и ссоры; язык у меня был подвешен хорошо; я часто ставил противника в тупик, пользуясь логикой и, главное, особым снисходительным тоном, принятым в такого рода беседах. После того как я с отличием окончил колледж, где был лучшим из лучших, отец смирился и практически оставил попытки наставить сына на путь истинный. Когда же стало ясно, что свою самостоятельность я не собираюсь использовать во вред, предаваясь праздности и духовному разврату, папа (и это много говорит к его чести), разумный предприниматель, несокрушимый кормилец и любящий глава семьи, сделал лучшее, что мог: предоставил мне полную свободу.
Шпильфогель, однако, видел все в ином свете. Он именовал мое счастливое детство «так называемым счастливым детством», имея в виду, что пациент внушает себе иллюзорные приятные воспоминания о прошлом, совсем не таком уж безоблачном. Пойдем дальше: почему пациент к этому стремится? Потому что пытается вытеснить память об угрозе, исходившей от матери – женщины властной, сильной, стремившейся руководить поступками ребенка, окружившей его, младшего и сверх меры любимого, коконом чрезмерной тиранической заботы. Теперь о других детях. Моррис (такой вывод сделал доктор Шпильфогель из моих рассказов) был фактически предоставлен самому себе, потому что отец занимался магазином, а мать – мной; это пошло старшему брату на пользу, развив его физическую и психическую конституцию, сделав более самостоятельным и приспособленным. Джоан. Вот что пришло в голову Шпильфогелю на ее счет. Девочка, оттесненная на периферию семейного круга. Гадкий утенок, отнюдь не избалованный добрым вниманием. Заброшенный незаметный ребенок, подавленный физической силой старшего брата и интеллектуальными способностями младшего. Если это так (а по версии доктора Шпильфогелю это было именно так), нет ничего удивительного, что и в свои сорок Джоан все еще компенсирует неполноценность детских лет экстравагантными нарядами, экзотическими путешествиями и великосветскими знакомствами. Одним словом, она стремится вызвать восхищение и зависть у окружающих. «А как у нее с любовниками?» Этот вопрос меня огорошил.
Я ничего не знал о подобных связях Джоан. Мне и в голову не приходило… «Вам многое в голову не приходило», – заверил меня Шпильфогель.
Мне казалось, что мою мать ни в чем нельзя упрекнуть. Она журила меня, когда я того заслуживал, но тут и намека не было на желание целиком и полностью подчинить ребенка своей воле, к чему нередко стремятся родители-тираны. Куда чаще мать меня хвалила. Я знал, что ее забота безгранична, а любовь бесконечна, что я всегда найду защиту, если защита действительно понадобится. Коли уж образ действия матери в чем-то и навредил, так только в одном, доктор: она, любя, внушила мне преувеличенные понятия о моих возможностях и способностях. Я был так уверен в собственной избранности, в безмятежности будущего и определенности жизненного пути, что оказался совершенно беззащитным перед реальными ситуациями и коллизиями. Я потому стал легкой жертвой для Морин, что и не предполагал существования такой гнусности в мире, который, как мне внушили, предназначался лично для Питера Тернопола – как раковина для устрицы.
В одном доктор Шпильфогель был прав: в качестве мужа я занял позицию сбитого с толка мальчика для битья. Но не потому, что когда-либо уже ощущал себя таковым, – наоборот, именно потому, что не ощущал. Шпильфогель, рассуждая о моем на исходе второго десятка крушении, оставлял в стороне годы спокойного плавания, успешного и даже триумфального. Мой «случай» (так я теперь с готовностью именовал мою жизнь) представлял, видимо, пример атавистического детского преклонения перед женщиной, благодетельницей и жрицей, защитницей и наставницей, хранительницей семейного очага. Я был рожден, поднят на ноги и возвышен Доброй Взрослой Женщиной – и не был подготовлен к встрече со Злой Взрослой Женщиной; Злая Взрослая Женщина унизила, растоптала и убила меня. Какие ясные и простые объяснения! Но Шпильфогель все твердил об авторитарности моей матери, о доминирующем влиянии ее подавляющей властности, которой я подчинялся только из страха, подсознательно протестуя и ища спасения. Разумеется, так может быть, доктор; наверное, чаще всего бывает так; абсолютная власть родителей над ребенком ведет к протесту и даже ненависти; но в моих-то воспоминаниях о первых десяти годах жизни доминируют нежность и ласка! А что до моей подчиненности… Не такой уж она была полной, никто не назвал бы маленького Питера апатичным исполнителем чужих желаний. Разве дадут прозвище Пеппи[106]106
Пеппи – энергичный, бодрый, живой (англ.).
[Закрыть] мальчику, который ведет себя, как боящийся плетки щенок? Да и наказывали меня совсем не так жестко, как других детей в нашей среде. «Вас, быть может, жестче», – съязвил я.
Но Шпильфогель не был склонен обсуждать свое детство. В вашем случае нет ничего необычного, сказал он. Младенческий страх перед грозной матерью трансформируется воспоминаниями в любовь. Правда, в вашем случае идеализация на удивление растянута по времени. Вы все еще подавлены материнской властностью и пикнуть боитесь, до сих пор опасаясь наказания. Вы и сейчас по-детски ранимы, избыточно чувствительны к боли, которую может причинить мать. Отсюда нарциссизм как основное средство защиты. Не в силах продемонстрировать отказ от подчинения, вы с юных лет компенсировали эту фрустрацию, культивируя ощущение собственного превосходства. При этом, учитывая особенности вашей личности, проявлялись острое чувство вины и все оттенки амбивалентности[107]107
Амбивалентность – двойственность переживаний, выражающаяся в том, что один субъект вызывает у человека одновременно два противоположных чувства, например симпатию и антипатию (психиатр.).
[Закрыть].
Я опять не согласился с доктором Шпильфогелем. Он ставит проблему с ног на голову. Ощущение собственного превосходства – хорошо, пусть это называется так – вовсе не защита от угрозы со стороны матери, а скорее, наоборот, желание принять ее взгляд на вещи. Я согласился с материнской оценкой, только и всего. А почему бы и не согласиться? Глупо было бы убеждать Шпильфогеля, будто я никогда не чувствовал своей исключительности: я ее, разумеется, чувствовал; но, чтобы ощущать себя выше других, любимому младшему сыну ни к чему ни амбивалентность, ни фрустрации, все куда проще.
Говоря, что спорил или соглашался, а Шпильфогель предполагал или возражал, я лишь самым поверхностным образом отражаю процесс взаимного нашего с доктором общения, посвященного все более раздражавшей меня археологической реконструкции младенчества, продолжавшейся почти год. Гипотезы доктора, высказываемые в качестве аксиом, вскоре стали казаться мне едва ли не оскорбительными. Если я от чего и защищался, то от напористого наступления Шпильфогеля на мой внутренний мир. Если чему и сопротивлялся – то его взгляду на вещи. Защита и сопротивление оказались бы более успешны, будь доктор менее опытен в борьбе с пациентами. (Прочитав эту главу – если будет на то охота, – Шпильфогель, наверное, скажет, что сопротивление в конце концов восторжествовало.) Я не желал брать на себя ответственность даже за обдумывание невероятной мысли о подавляющем и разрушительном влиянии моей матери. Но, споря с доктором и раз за разом не соглашаясь с его соображениями, я все глубже погружался в атмосферу детства и испытывал все более неудержимую потребность изложить свою версию тех безоблачных дней. Что-то в стиле Диккенса. Как и следовало ожидать, постепенно прошлое стало приобретать несколько иную окраску. Оно, как губка, впитывало горечь и слезы по оплеванной несостоявшейся жизни, обиду на отвернувшуюся от меня судьбу; с течением времени я почувствовал, как ненависть, испытываемая к Морин, выходит из берегов и заливает просторы моих воспоминаний. Я все помнил. Я не выкинул из памяти ни одного солнечного эпизода. И тем не менее разъедающее душу общение со Шпильфогелем зашло так далеко, что, когда после десяти месяцев психотерапии я приехал к родителям в Йонкерс на пасхальный обед, резкость и холодность по отношению к матери поразили и ее, бедняжку, и меня самого. Господи, как ждала она общих встреч за семейным столом! Как непростительно редки были эти визиты! И вот – дождалась. И вот… Отозвав в сторонку, Моррис сердито спросил меня: «Слушай, что с тобой сегодня?» Я только пожал плечами. Вечером, прощаясь с мамой, я через силу поцеловал ее, с трудом сдерживая неприязнь, – как будто она, с первого взгляда отторгнувшая Морин, а потом примирившаяся, пытавшаяся даже полюбить ради сына, несет ответственность за мой безумный выбор и должна принять на себя хотя бы часть ненависти, предназначенной этой женщине.
Пошел второй год сеансов у Шпильфогеля. Температура отношений с матерью достигла точки замерзания. Я много размышлял об этом и пришел к выводу, что в действиях доктора нет ни ошибки, ни злого умысла, а есть продуманная стратегия, пусть и жестокая, направленная на то, чтобы свести к минимуму мою укоренившуюся зависимость от женской любви, порожденную материнской нежностью и позволившую Морин стать хозяйкой положения, неуязвимой для моих безнадежных попыток освободиться. Разумеется, такая переадресовка говорила только о силе добрых чувств, внушенных матерью, но результат (и тут Шпильфогель снова прав) оказался опасным для жизни. Я невольно ищу в существах, схожих с мамой только принадлежностью к одному полу, а в остальном заслуживающих лишь презрения, привычной поддержки и опоры. Значит, ничего не поделаешь. Значит, как это ни горько, следует идти по дороге, указанной доктором, и, несмотря ни на что, порвать пуповину, связывающую с детством, – иначе мое будущее, мое мужское будущее обречено на катастрофу. Понадобится болезненная и решительная эмоциональная хирургия – что ж, без нее не обойтись. И нечего винить хирурга за страдания, которые неизбежно придется претерпеть мне и ни в чем не повинной миссис Тернопол. Снявши голову, по волосам не плачут… Уважаемый психоаналитик немецкий еврей Шпильфогель, кажется, добился своего. Хотя мучительный образ подавляющей матери, к суду над которой я созрел, был, скорее, его навязчивой идеей, чем моей.
Но не мне врачевать своего врача. Я слишком слаб, слишком измучен, я должен кому-то доверять. Я выбрал Шпильфогеля.
Конечно же, он не был для меня близким человеком. Я вообще не имел представления о том, что он из себя представляет вне стен кабинета или с другими пациентами. Откуда он родом? Где вырос? У кого учился? Почему иммигрировал в Америку? Женат ли? Имеет ли детей? Я знал о нем не больше, чем о человеке, у которого покупал по утрам газету. Было ли мне любопытно? И да и нет. С одной стороны, я был так поглощен собственными несчастьями, что интерес к окружающим потерял всякую остроту; с другой – правила игры, на мой взгляд, не позволяли пациенту задавать слишком много вопросов умудренному опытом эскулапу. Спрашивает он, а мне трижды в неделю, лежа на кушетке в полуосвещенной комнате, пятьдесят минут посвящать выворачиванию души наизнанку, рассказывая о том, что остается тайной за семью печатями для самых родных людей. По отношению к Шпильфогелю я играл роль первоклассника: вот он, учитель, мудрый, честный и справедливый. А какие штуки он выкаблучивает за пределами школы в отдалении от черной классной доски – знать не дано, да и не надо. Однажды, увидев Шпильфогеля в окне автобуса, идущего по Пятой авеню, я был смущен и взволнован, как будто подглядываю через замочную скважину. Знакомое чувство, отблеск давнего воспоминания: меня, восьмилетнего, сестра ведет за руку мимо парикмахерской; в кресле сидит наш учитель труда; его бреют и одновременно чистят ему башмаки. Так учителя, оказываются, обрастают щетиной и пачкают обувь, совсем как люди?
Шел пятый месяц психоаналитических сеансов. В то дождливое утро я стоял на остановке напротив издательства «Даблдей».
Подошел автобус пятого маршрута. На переднем сиденье у окна – Шпильфогель в дождевике с накинутым капюшоном; лицо исполнено неприкрытым страданием. Тот самый Шпильфогель, который являлся на коннектикутские летние вечеринки в легкомысленной кепочке яхтсмена, несомненно, тот самый. Выходит, у него все-таки есть биография: ведь мы, оказывается, познакомились задолго до того, как я стал пациентом. Я и раньше знавал психиатров; еще в Чикаго довольно весело проводил время с некоторыми из университетских в местном студенческом баре. Но там было другое дело: нас связывала только любовь к пиву, а Шпильфогелю я доверил самое сокровенное; он стал инструментом моего психического – больше того, духовного — возрождения. И вот он, облеченный столь высокой ответственностью, перемещается на общественном транспорте из какого-то пункта А в некий пункт Б, толкаясь при входе и выходе… В голову не вмещается. Непростительное легкомыслие. Но я-то, сам-то я! Открываю душу обычному обывателю, пользующемуся обыкновенным автобусом. Он и пешком, наверное, ходит. Какая глупость – надеяться, что сухопарый средних лет иностранец с печатью страдания на лице, в дождевике цвета хаки, беззащитный и невыразительный пассажир автобуса сможет избавить меня от проблем и несчастий! Как быть? Войти в открывшуюся дверь, оплатить проезд и сказать – сказать что? «Добрый день, доктор Шпильфогель, это я, помните, тот самый, который надел исподнее собственной супруги?»
Я отвернулся и зашагал прочь. Шофер, терпеливо до той поры ожидавший, когда, наконец, пассажир загрузится в салон, пробормотал вслед моей удаляющейся спине тем же тоном, каким объявлял остановки: «Еще один чокнутый недоумок. Двери закрываются». Автобус тронулся на желтый свет, унося моего спасителя и пастыря со страдающим лицом в неизведанное. К дантисту, как я узнал позже.
В сентябре 1964 года (в начале третьего года психотерапии) наши отношения с доктором Шпильфогелем серьезно обострились. Я чуть было не отказался от его услуг. Но и отбросив эту идею, уже не возлагал на помощь психоаналитика тех надежд, с которыми когда-то начинал проходить курс. Правду сказать, я никогда не мог избавиться от уверенности, что его метод лечения неправильный, что наши отношения выстроены неверно – но гнал такие мысли. Что хуже, чем встать на позицию всеми преданного, обманутого, отторгнутого человека? Итак, сеансы продолжались. Ни о каком взаимопонимании, разумеется, речи уже не шло – особенно после совершенной Сьюзен попытки самоубийства. Все годы жизни с миссис Макколл я опасался такого исхода; доктор Шпильфогель, напротив, считал мой страх необоснованным, навязчивым, болезненным проявлением невроза, имеющего лишь косвенное отношение к реальности. Уверенность в том, что Сьюзен покончит собой, если я ее брошу, Шпильфогель относил на счет моего нарциссизма и самовнушения. Этим же он объяснил и деморализацию, которая охватила меня, когда неизбежное все же произошло вопреки всем психоаналитическим прогнозам.
– Я не гадалка, – сказал Шпильфогель. – Мой инструментарий – не бобы и не кофейная гуща, а факты. Никакой вины на вас не лежит. Налицо тысяча причин, если не больше, убеждающих в том, что она никогда не решилась бы на попытку самоубийства, не будь уверена в благополучном исходе предприятия. Сами знаете – и Сьюзен знает: вы были для нее подарком судьбы. Как говорится, звездные часы. С вами она обрела долгожданную зрелость, расцвела, все свидетельствует об этом, не так ли? Очень жаль, конечно, что на момент разрыва у нее не было достаточной поддержки психиатра, семьи, друзей. Действительно, печально. Но вы-то тут при чем? У Сьюзен осталось то эмоциональное богатство, которое она обрела, живя с вами. И оно никуда не делось. Жизнь – не книга бухгалтерского учета, актив-пассив. Тем более, мистер Тернопол, если учесть, что Сьюзен не совершала самоубийства. Это вы относитесь к ситуации так, будто после произошедшего последуют похороны и поминки. Но она не убила себя. Она сделала попытку. И, осмелюсь предположить, с очень слабым намерением довести дело до конца. Судите сами. Покушение на собственную жизнь было совершено на исходе ночи. Уборщица приходит ранним утром, и у нее есть свой ключ. Сьюзен прекрасно понимала, что ее обнаружат спустя всего несколько часов после отравления. Согласны? Конечно, существовал некоторый риск, но, как мы видим, все расчеты миссис Макколл оправдались. Она не умерла; вы немедленно примчались и засуетились и до сих пор суетитесь. Пусть это даже всего лишь суета сует и всяческая суета без дальнейших последствий, но большего Сьюзен и не надо. Вы, именно вы раздуваете эпизод до эпохальных размеров и придаете ему невероятную значимость. Знаете, из-за чего? Из-за своего нарциссизма. Вы переоцениваете случившееся практически во всех его аспектах. А уж прекращать по такому случаю психотерапевтические процедуры, идущие на лад, было бы с вашей стороны и вовсе непростительной ошибкой. Так мне кажется. Вы что, снова хотите оказаться наедине с самим собой, в полной изоляции?
Да, именно этого я и хочу. Я не могу больше доверять психоаналитику, не могу считать себя его пациентом. Прощайте, доктор Шпильфогель. Прощай, Сьюзен. Прощай, Морин. Со всеми былыми привязанностями покончено. Никогда больше моя нога не ступит на тропу любви, или ненависти, или откровенности. Ни случайно, ни преднамеренно, к лучшему будь это или к худшему – никогда. С меня хватит.
Примечание. На этой неделе сюда, в колонию Квашсай, пришло письмо от Шпильфогеля. Он благодарит за посланные ему месяц назад рассказы «Молодо-зелено» и «Накликивающий беду». В сопроводительном письме я тогда писал следующее:
Долгое время я вел спор с самим собой: следует ли ознакомить Вас с текстами, написанными в Вермонте – то есть после того, как курс психотерапевтической реабилитации был прерван. Решение принято: следует. И не для того, чтобы возобновить-наши конкретные кабинетные исследования (бога ради, не воспримите это так!), а только памятуя о Вашем всегдашнем интересе к процессу творчества – а еще потому, что я о Вас часто вспоминаю. Источники биографического и психологического свойства, легшие в основу моих беллетристических фантазий, Вам отлично известны. Естественно, это даст дополнительный стимул к научному осмыслению присланных материалов. Ваш выдающийся коллега Эрнст Крис[108]108
Крис Эрнст – историк и психоаналитик второго поколения венской школы.
[Закрыть] заметил, что психология художественного стиля до сих пор не описана я почти уверен, зная Вас по многочисленным прошлым встречам, что Вы не откажетесь хотя бы слегка заглянуть за этот занавес. Научное осмысление, вероятно, подвигнет поделиться выводами с коллегами. Посему прошу ни в каком виде не публиковать ни строчки из присланного без моего согласия. События, так или иначе описанные в новых повествованиях, остаются болезненными для меня. Вглядитесь в эти сновидения наяву, подсознательные фантазии – может быть, не такие уж подсознательные, как представляется на первый взгляд.Ваш Питер Тернопол.
И вот что ответил Шпильфогель:
Очень любезно было с Вашей стороны проявить обо мне заботу, прислав два своих новых произведения. Я прочитал их с большим интересом и удовольствием. Как всегда, Ваше мастерство и проникновение в психологическую глубину вызывают восхищение. Новеллы совершенно не схожи, но обе написаны так блестяще, что, по моему мнению, составляют полноценную дилогию. Особенно привлекательными показались мне сцены с Шерон из первого рассказа. Что касается второго, то пристальное внимание, которое автор уделяет самому себе (и мне понятное), свидетельствует о ранимости натуры (или, как выразился бы на аспирантском семинаре Цукерман из «Молодо-зелено», о человеческой ранимости человеческой натуры). Какими печалью и болью пронизан «Накликивающий беду»! Сколько серьезных уроков можно из него извлечь (я утверждаю это без малейшего преувеличения). Как писатель Вы находитесь в расцвете сил – это доказано. Желаю Вам дальнейших успехов в работе.
Искренне Ваш, Отто Шпильфогель.
И это написал доктор, чьи методы я воспринимал и воспринимаю как варварскую нелепицу? Даже если письмо – просто уловка для того, чтобы вернуть меня в лоно психоаналитической кушетки, то какая же приятная и умная! Славный подарок моему прославленному нарциссизму. Интересно, кто консультировал Шпильфогеля по вопросам эпистолярной стилистики? Или он сам сочинил свое послание? Верится с трудом. Уж я-то, многие годы пытаясь неискаженно выразить свои мысли, знаю, как трудно изъясняться на бумаге. Особенно когда английский – не твой родной. Но если все-таки – сам, у доктора Шпильфогеля неплохие способности. Может быть, и впрямь стоит вернуться к нему?
Ни к кому я не собираюсь возвращаться. Вопрос в другом: рассылать ли и дальше тексты по всем былым адресам? Например, Сьюзен. Или родителям. Или Дине Дорнбущ. А может быть, Морин – по адресу, еще неизведанному?
Усопшая моя! Надеюсь, твое настроение улучшится после прочтения того, что приложено к письму. Просто удивительно, как сильно ты воздействуешь до сих пор на мое творчество. А могла бы и на меня. Используй ты более разумно доставшийся при сдаче расклад, будь менее сдвинутой, чем была, наш постыдный и жалкий брак тянулся бы по нынешний день. Но ты бесстыдно передергивала и бездарно блефовала – и вот вам результат. Вспоминаешь ли ты на небесах о своем бедном муженьке или (боюсь, что так) захомутала какого-нибудь корпулентного неврастенического ангела, который никак не может принять решение о своей сексуальной ориентации? Мои повествования во многом основаны на твоем восприятии вещей и событий. Герой «Молодо-зелено» – это я, каким ты меня всегда представляла. А вот в Лидии ты увидишь кое-что от себя (если, конечно, обрела способность глядеть со стороны). Да ладно! Как там вообще, в вашей вечности?
С надеждой, что чтение скрасит однообразие загробного мира, остаюсь разлученным и потому безутешным твоим мужем Питером.
Ответ принес на крыльях ветер:
Дорогой Питер!
Я прочитала твои юморески и считаю, что они чрезвычайно забавные, особенно та, которая погрустнее. Ты достиг в самокопании потрясающих высот (чтобы не сказать «глубин»). Я осмелилась (полагаю, ты не против) показать рукописи Всевышнему. Спешу обрадовать тебя: «Накликивающий беду» вызвал улыбку и на Его устах. Он молвил (не без некоторого оттенка удивления): «Экое тщеславие, о-ля-ля!» Сейчас твои опусы читают святые, уже составилась небольшая очередь. Среди великомучеников прошел слух, что ты принялся за новую большую работу, в которой собираешься поведать граду и миру «что есть что и назвать вещи своими именами». Если это действительно так, то героиня, я полагаю, будет носить имя Морин. В каком виде ты намерен ее изобразить? Фаллос на обложке мог бы поспособствовать увеличению тиража. Впрочем, ты и без того знаешь, как воспользоваться моей светлой памятью для целей высокого искусства. Желаю тебе всяческих успехов в работе над книгой «Мои мученические деяния». Ведь ты так собираешься назвать свое творение? Все на небесах с нетерпением ждут новой возможности поразвлечься, которую ты нам любезно готов предоставить.
Твоя любящая супруга Морин.
P. S. С вечностью все в порядке. Здесь даже можно примириться с существованием такого пакостника, как ты.
А теперь прошу сдать ваши работы. Позже обсудим, много ли вы смогли вынести из предложенных историй. Да, да, смогли вынести:
Аудитория 312
Понедельник и пятница, с 13.00 до 14.30
(по договоренности)
Профессор Тернопол.
«МЫСЛИ О ВЫМЫСЛЕ.
или
ПРОФЕССОР ТЕРНОПОЛ ПРЕДАЕТ ОГЛАСКЕ КОЕ-ЧТО ИЗ СВОЕГО ЧУВСТВЕННОГО ОПЫТА»