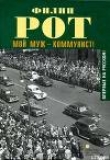Текст книги "Моя мужская правда"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
Но постепенно дело, кажется, налаживалось. Как радостно было наблюдать за пробуждением страсти и желания, берущими верх над робостью и пуританской благовоспитанностью! Смелей, Сьюзен, смелей – и ты получишь все, что хочешь. Еще чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, ни капли постыдного тут нет. Неровное дыхание, приоткрытый рот, распахнутые глаза – сейчас! До финишной ленточки – ярд, фут, дюйм, всего ничего, мы прорвемся, на хрен, победа будет за нами! Удивительно, что обходилось без инфаркта. И сейчас помню, как добросовестно мы трудились: грудь в грудь, бедро к бедру, вперед-назад, словно разжигая огонь без спичек, щека к щеке, так что ей утром придется всерьез заняться макияжем, а мне будет больно бриться; ногти впились в ягодицы, тело блестит от пота, и… И ничего.
«Сегодня здорово», – прерывисто шепчу я, чувствуя, что Сьюзен близка к счастливому финалу. Я касаюсь губами ее ресниц: не появились ли слезы, вернее, две слезы; она никогда не позволяла себе больше слезинки на глаз. «О-о-о, я уже почти, – откликается она, – я вот-вот…» Тут-то и выкатываются две солоноватые на вкус слезинки. «Опять, – вздыхает она, – только почти. Как всегда».
– Будет иначе.
– Нет, не будет. Сам знаешь – не будет. Ведь то, что я называю «вот-вот», для других – вот: мелочь, пустяк, легкая разминка.
– Ты не права.
– Права… Питер, ты бы не мог… Ты бы не мог в следующий раз делать это резче?
Пожалуйста. В следующий раз я делал это резче, мягче, быстрее, медленнее, глубже, не так глубоко, повыше, пониже, сильнее, слабее, вот так. Миссис Сьюзен Сибари Макколл с Парк-авеню города Принстон искренне пыталась прыгнуть выше головы, да куда там. Всей ее смелости, ненасытности и испорченности хватало только на шепот с отведенными в сторону глазами: «Давай в другой раз попробуем…» – «Ну же, Сьюзи, только скажи как». – «Может быть, ты попробуешь сзади – но постарайся, чтобы мне не было больно». Что поделаешь, амфетамин, белладонна, овалтин и тонны других таблеток, поглощаемых с младых ногтей, не способствовали пробуждению страсти у благовоспитанной девочки; она всегда слушалась маму, папа ее всегда баловал; по отцовской линии богатая благочестивая семья состояла в родстве с одним членом сената Соединенных Штатов и послом в Великобритании, а по материнской – с промышленниками, крупными еще в прошлом веке. И все-таки прогресс был налицо: Сьюзен уже хотелось, чтобы ей хотелось. Но какими усилиями достигалось желание желания! Нагрузки оказались слишком высоки. Честно говоря, к концу третьего года затянувшегося романа мы оба были совершенно измотаны и шли в постель, как на работу. Ура! Благодаря продолжающейся войне, наше предприятие получило крупный оборонный заказ; каждый день мы выходим в ночную смену за отличные сверхурочные, к тому же мы трудимся ради общего блага. Но, Господи, сделай так, чтобы война поскорее окончилась, и черт с ними, с деньгами и общим благоденствием!
Сейчас, по прошествии времени, в голову приходит мысль, что Сьюзен, вероятно, была права и мне стоило перестать беспокоиться о ее оргазме. Когда я впервые завел о нем речь, она отмахнулась: «Оставь. Лично мне и так хорошо». – «Нет, тебе так не хорошо – или хорошо, но не так». Она спросила: «Но ведь это не мешает тебе получать свое удовольствие?» Я ответил, что меня заботит вовсе не мое удовольствие. «Ой, скажите, что за самоотверженность! – хмыкнула Сьюзен. – Какая тебе разница?» Разницу, объяснил я, должна почувствовать она, а не я. «Мой добрый самаритянин, облегчающий муки тех, кто страждет от сексуальной неудовлетворенности! Я не нимфоманка и никогда этим не страдала. Я такая, какая есть, и если кого-то это не устраивает…» – «Тебя-то устраивает?» – «Нет!» – резко отозвалась она, и из глаз выкатились две слезинки. Так начались затяжные сражения, в которых противоборствующие стороны были ближайшими союзниками.
С этой проблемой я сталкивался не впервые. Морин тоже не могла как следует кончить. Но она относила отсутствие оргазма исключительно на счет моего эгоизма. Так и сказала. Однако не сразу: со свойственной ей лживостью она довольно долго делала вид, что все не просто в порядке, а лучше и быть не может. О, эта лавина страсти, перед которой любые преграды – ничто! Целый год я был слушателем неистовых воплей, достигавших апогея тютелька в тютельку к моменту моего семяизвержения; сладкие судороги мужа не шли ни в какое сравнение с исступленными корчами жены. Поверьте, я был немало удивлен (не то слово, совсем не то слово!), когда Морин, презрительно кривя губы, изволила сообщить следующее о моих мужских способностях: прозаик Тернопол – жалкое (и в этом смысле тоже) ничтожество, и, заботясь о его душевном равновесии, партнерша волей-неволей вынуждена разыгрывать комедию бурных оргазмов; но когда-то настает пора кончать (не в этом смысле, увы, не в этом) – нельзя вечно лицедействовать ради повышения самооценки ни к чему не годного эгоиста. Все это я выслушивал при каждой ссоре. Даже скотина Мецик, ее первый муж, даже педераст Уокер, пришедший ему на смену, были куда толковее, и уж, во всяком случае, с ними не приходилось придуриваться…
Полоумная сука (не знаю, часто ли вдовцы поминают так своих усопших жен), смерть – слишком легкий исход. Тебе при жизни по праву полагалась бы преисподняя со всем ее пламенем и серой! Сатана с его воинством – при жизни! Отмщение – при жизни! О Морин, будь я Данте, для тебя нашелся бы подходящий круг в моем аду!
И все же чушь, которую с презрительным видом изрекала Морин, до некоторой степени изменила мое мнение о себе.
Оставаясь до конца честным, следует, наверное, признать, что доброе самаритянство по отношению к Сьюзен было своего рода попыткой избавиться от комплекса неполноценности, внушенного прежней супругой. Не надо меня учить; я сам научу кого хочешь.
Но не это главное. Сильнее всего в Сьюзен меня привлекало полное отличие от Морин, с которой мы всего год как расстались. Ночь и день. Черное и белое. Жесткость, озлобленность, бесцеремонность. Мягкость, доброжелательность, деликатность. Я слишком хорошо еще помнил громоподобные скандалы с немыслимыми обвинениями, неутомимость во вражде и неуемное желание сделать больно. А тут – сдержанность, застенчивость, такт. Для Сьюзен Макколл повышенный голос в разговоре, пусть даже с самым близким человеком, был невозможен, как локти на обеденном столе. Так не делают – вот и все. Чувствуя себя несчастной, она не искала виновных. Ее горе было только ее горем. Маленькая бедная богатая девочка. Не стоит тревожиться. Извините, если невольно доставила вам неудобство… Но тревожилась-то – она, беспокойство доставляли – ей. А Сьюзен безропотно забивалась в угол. Миссис Тернопол и миссис Макколл… Все-таки сходство было: обе они напоминали перепуганных подростков во время уличной драки. Но один (одна), не видя иного спасения, бросался, набычив голову, в эпицентр потасовки, а другой (другая) принимал на себя удары, бессильно опустив руки и даже не пытаясь защититься. Морин хотела заполучить от жизни все – и любой ценой. Сьюзен, казалось бы, не стремилась ни к чему – кроме таблеток. Негромкий голос. Привычка отводить кроткий смущенный взгляд от собеседника. Крендель каштановых волос на затылке, над тонкой нежной шеей. Две слезинки – по одной на глаз… Морин и Сьюзен были из разных племен. И то и другое – племена страдальцев.
Я страдал тоже. Но… Живя с Морин, я страдал из-за Морин; со Сьюзен я страдал вместе со Сьюзен. Боюсь сказать, что тяжелее. Я хотел, но не мог помочь миссис Макколл – тягостное чувство. Она боролась за счастье с самой собой; победа неминуемо оборачивалась поражением.
Да, трогательная, да, милая, да, сдержанная, мягкая, доброжелательная, деликатная – не слишком ли много для меня? Или слишком мало. Я знаю, какая мне нужна жена (если мне нужна жена): женщина-опора, ибо я хром. Женщина-поводырь, ибо я слеп. Женщина, в которой я буду уверен, ибо я не уверен ни в чем. И если на белом свете не сыщется такого существа, а таких, может быть, и нет на белом свете, то незачем мне жениться. Пусть все остается, как есть. Хуже не будет, потому что хуже не бывает.
Итак, либо вступить со Сьюзен в законный брак и сделать ее тридцатипятилетней матерью, либо расстаться – и как можно скорей, пока она не вышла, по терминологии доктора Монтегю, из репродуктивного возраста. Третьего не дано. Впрочем, и первого тоже. Почти всю сознательную жизнь я воевал: сначала с Морин, потом с бракоразводным законодательством штата Нью-Йорк, словно специально устроенным так, чтобы ей удобнее было топтаться по мне грязными подошвами своих «моральных принципов»; я устал. Что-то во мне надломилось. Для второй попытки не осталось ни сил, ни решимости, ни желания. А Сьюзен найдет для процесса репродукции кого-нибудь другого: посмелее меня, посильнее, побезумней.
До сих пор не знаю, верное ли я принял решение. И неудивительно – что с тех пор изменилось? Кажется, я уже задавал этот вопрос.
«Сьюзен, между нами все кончено». Через шесть месяцев после этих слов она попыталась покончить собой. На момент суицидной попытки я находился уже в своем вермонтском уединении – нью-йоркская жизнь стала пустой и бессмысленной. Была работа, был доктор Шпильфогель, но не хватало ее, заполнявшей раньше все мои дни. И я уехал. В Вермонте я скучал без Сьюзен не меньше, чем в Нью-Йорке, но по крайней мере был избавлен нешуточными расстояниями от ее внезапных визитов, превращавших ситуацию в бег по замкнутому кругу. Полночь. Голос в домофоне у меня на Двенадцатой улице: «Это я, мне без тебя плохо». Как не впустить? «Поймайте такси и отправьте ее домой», – говорит доктор Шпильфогель. «Я так и сделал. В два часа ночи». – «А надо было в полночь». В следующий раз, субботней ночью, я надел пальто, спустился, взял такси, отвез Сьюзен на ее Семьдесят девятую улицу, вернулся домой и лег спать. Утро. Голос в домофоне. «Я принесла тебе „Таймс“. Сегодня, между прочим, воскресенье». – «Я знаю». – «А что я тоскую по тебе, как ненормальная, знаешь? Неужели мы проведем воскресенье врозь?» Открываю входную дверь. (Доктор Шпильфогель: «Неужели по воскресеньям такси не ездят?» Я: «Неужели мы проведем воскресенье врозь?») Входит сияющая Сьюзен. Каждое воскресенье, не пропустив ни одного, мы проводили в постели.
– Слушай, – шепчет Сьюзен.
– В чем дело?
– Ты ведь хочешь меня, правда? Почему же прогоняешь?
– Тебе нужен муж. Тебе нужны дети. Ты права, все это нужно. И все это будет. Но без меня!
– Ты меня с кем-то путаешь. Я тебя ни к чему не принуждаю и никогда этого не делала. Хочу только, чтобы ты был счастлив со мной.
– А я не хочу. И не могу. Семейная жизнь не для меня.
– Ну и не надо. Кто говорит о семейной жизни? Только ты. Я и не заикнулась. Почему, если ты не хочешь детей, мы не можем быть вместе? Как одно с другим связано? Я не представляю жизни без тебя. Она бессмысленна.
– Сьюзен, пойми, одно с другим связано. Я не желаю быть запертой дверью на твоей дороге.
– Просто мыльная опера какая-то. О Питер, если надо выбирать между дорогой и дверью, то я выбираю дверь.
– А как же дети? Как же нормальная семья? Со мной, повторяю, не получится.
– Ты злишься, что у меня не бывает оргазма? Никогда-никогда, хоть к уху пристройся, да? Я права?
– Нет, не права.
– Тогда, может быть, ты боишься связываться с наркоманкой.
– Ты не наркоманка.
– А таблетки? А чулан? А овалтин? Конечно, кому это может нравиться! На твоем месте я тоже очень сильно поразмыслила бы. Ты не думай, Питер, я все понимаю. Ты поступаешь верно.
И – две слезинки, по одной на глаз. Я обнял ее и сказал: нет-нет-это-не-так (а вы бы что сказали, доктор Шпильфогель?).
– Да-да-это-так, – ответила Сьюзен, – не надо меня жалеть, Питер. Жалость унижает человека. А впрочем, какой я человек?
– А кто же тогда?
– Я перестала быть человеком в шестнадцать лет. С тех пор я – анамнез. История болезни, а не личность.
Это продолжалось четыре месяца. Тянулось бы вечно, не сбеги я из Нью-Йорка. Конечно, можно было делать вид, что меня никогда нет дома. Так, кстати, и советовал доктор Шпильфогель: «Сидите, как мышка в норке, не дергайтесь; раньше или позже она перестанет приходить». – «Но ведь это Сьюзен!» – «Ну и что?» – «Сьюзен, а не Морин!» В конце концов я собрал чемодан и засел, не дергаясь, в Вермонте, как мышка в норке.
Перед отъездом я несколько часов промучался с прощальным письмом, которое все должно было объяснить. Изорвал целую пачку бумаги. Отчаявшись составить связный письменный текст, я по секрету сообщил супружеской паре, с которой мы периодически общались, о своих планах, уверенный, что тайна откроется Сьюзен раньше, чем автобус пересечет границу штата Нью-Йорк.
Шесть недель она не давала знать о себе ни единым словом. Потому что не узнала, где я? Потому что узнала?
Однажды утром во время завтрака меня кликнули к телефону. Звонила та самая супружеская пара. Сьюзен в больнице. Бедняжку нашли в собственной квартире едва живой. Накануне вечером она, приняв наконец предложение какого-то знакомого, отправилась с ним на ужин. Потом он проводил ее до дому, было около одиннадцати. Сьюзен поднялась в квартиру и проглотила все таблетки, какие только нашла в своих заначках: секонал, туинал и пласидил. Местом тайников-захоронок служил бельевой шкаф. Уборщица обнаружила ее в ванной комнате, усеянной пустыми флаконами и пакетиками.
Первым же рейсом я вылетел из Вермонта и к концу тихого часа был уже в больнице. Сьюзен только что перевели из реанимации в одноместную палату психиатрического отделения. Через приоткрытую дверь я увидел миссис Макколл – она сидела на постели, изможденная и исхудавшая, и озиралась с ошарашенным видом. Как подследственный, подумалось мне, которого допрашивали всю ночь и лишь недавно привели обратно в одиночку. Я вошел. Из ее глаз выкатились слезинки (по одной из каждого). Несмотря на присутствие своей внушительной мамаши, бросавшей на визитера весьма неодобрительные взгляды, Сьюзен сказала: «Я решилась на это, потому что люблю тебя».
За десять дней в больнице пациентку привели в относительную норму. Доктор Голдинг навещал подопечную каждое утро. Она поклялась ему никогда больше не копить опасных для здоровья запасов снотворного, выписалась и в сопровождении матери отправилась домой в Нью-Джерси. Отец Сьюзен, пока не умер, преподавал в Принстонском университете классическую филологию. Мать же была «истинной Кальпурнией»[90]90
Кальпурния – жена Юлия Цезаря.
[Закрыть]. Кавычки означают, что такую оценку давала ей дочь. О да, миссис Сибари знала себе цену. И другим цену знала – очень невысокую. И конечно, всегда оказывалась выше подозрений. И еще, добавляла Сьюзен не без вздоха, она очень оборотиста. Это уж точно: вон как ловко безо всяких эксцессов изъяла дочку из колледжа. До личного знакомства мне представлялось, что Сьюзен преувеличивает величие Кальпурнии, но периодические встречи во время посещения больной убедили меня в обратном. О, каким патрицианским презрением и холодом окатывал меня взор миссис Сибари! Как безразлично отводила она (дочь делала это смущенно) взгляд от собеседника! Впрочем, «собеседник» сказано слишком сильно. Нам не о чем было говорить. Кальпурния не видела во мне даже злодея – лишь очередное свидетельство неразборчивости, проявленной глупышкой Сьюзен. «Что ж, – молчала миссис Сибари, – теперь вот еврейский писака. Ничего, разберемся». У меня в этом не было ни малейших сомнений.
Потом я навестил Сьюзен в Принстоне. Мы сидели в саду их кирпичного дома на Мерсер-стрит. По соседству когда-то жил Эйнштейн. Семейная легенда гласила, что маленькая рыжеволосая проказница (еще не ставшая анамнезом) таскала для него из буфета сласти, таким образом оплачивая услуги старика: он выполнял за нее домашние задания по арифметике. Мадам Сибари при жемчужном ожерелье расположилась метрах в десяти от нас со Сьюзен, у входа на террасу, и листала книгу – уж конечно, не «Еврейского папу». Я приехал в Принстон на поезде. Визит был почти деловым. Теперь, когда неудачливая самоубийца находилась под домашним присмотром, можно было сообщить ей о моем возвращении в Вермонт. Раньше, в больнице, доктор Голдинг категорически не советовал говорить с ней о дальнейших планах. «Каковы бы они ни были, это может вывести ее из душевного равновесия». – «А если она сама спросит?» – «Не думаю: пока ей хватает того, что вы здесь. Сьюзен не станет форсировать события». – «Ну хорошо. А потом? Что, если она решит снова…» – «Это уж моя забота», – ответил доктор Голдинг, и на его лице появилась специальная улыбка, свидетельствующая об окончании беседы. На кончике языка у меня вертелся вопрос: где раньше была ваша забота, доктор? Но я его не задал. В самом деле, какие претензии может иметь к врачу человек, из-за которого была совершена суицидная попытка – пусть и неудачная?
Стоял теплый мартовский день. Сьюзен выбрала для встречи желтое платье из джерси. Ткань плотно облегала ее, привлекательно и молодо подчеркивая все выпуклости и изгибы. Демонстрация тела, необычная для моей бедной возлюбленной, вечно тушующейся скромницы. И волосы на этот раз не были собраны крендельком на затылке, а свободно ниспадали густой волной. На переносице и щеках трогательно желтели детские веснушки. Это оттого, что она каждый день загорает, объяснила Сьюзен, – в бикини, между прочим. Выглядела она лучше некуда. Во время нашего разговора руки миссис Макколл постоянно находились в движении, перебирая струи волос, наматывая их на пальцы, сплетая в толстый каштановый жгут, перебрасывая его то за правое плечо, то за левое, распуская вновь. Вот она запрокинула голову и, подхватив обеими ладонями трепещущие пряди, закинула волосы за спину. Шея открылась во всей бесстрашной беззащитности; чувственный рот и слегка вздернутый подбородок явили нежную женственность и одновременно продуманную решимость; я увидел породу. Из поколения в поколение накапливались и отбирались генетические признаки, веками формируя облик и характер, до поры скрытые от меня; конечно, я знал, что Сьюзен хороша собой, но сейчас был поражен силой ее гордой красоты. Это было что-то новое. Где Сьюзен-тихоня, Сьюзен-размазня, Сьюзен-вдовушка, Сьюзен-Золушка? Их больше не существовало. Может быть, самоубийственный порыв был не вовсе неудачным, и те ипостаси, спровоцировав суицид, сами погибли, а эта, дьявольски соблазнительная, выжила и стала главной? Или Сьюзен просто дразнит свою мамашу, держась за юбку которой испортила собственную жизнь? Или совершает последнюю попытку завлечь меня?
Как бы то ни было, я почувствовал влечение.
Сьюзен сидела в раскладном садовом кресле, небрежно перекинув ноги через подлокотник. Платье задралось, почти целиком оголив загорелые бедра. Наверное, подумал я, вот так же она сидела лет в восемь, пока Эйнштейн корпел над ее задачками. Потом пришлось решать самой – и посложнее. Когда Сьюзен поднимала руки к волосам или устраивалась в кресле поудобнее, приоткрывался край ее белых трусиков.
– Кого ты дразнишь, – спросил я, – меня или мать?
– Обоих. Или никого.
– Не думаю, что нас это трогает.
– Я тоже.
– Тогда зачем же?
– Пожалуйста, не строй из себя старую няньку.
Пауза. Ее руки снова принялись играть с волосами. Нога на подлокотнике мерно покачивалась, как бы в раздумье. Сидя в поезде, я представлял себе встречу совсем иначе. Ни возможности искушения, ни возможности эрекции я не представлял.
– Она всегда считала, что я скрытая проститутка, – сказала Сьюзен тоном обиженного ребенка.
– Что ты несешь?
– Сейчас и ты, наверное, думаешь так же. Вы вообще из одной когорты. Хотя именно из-за тебя между нами пробежала кошка.
– И этот грех на мне, – вздохнул я.
– Как мне теперь быть, Питер? Начинать все сызнова? Блудная дочь вернулась, живет в своей детской комнате и ждет, когда кто-нибудь из студентов колледжа назначит свидание, подсунув в библиотеке записку на обороте каталожной карточки. Или смотреть с матерью одиннадцатичасовые новости, закусывая овалтином? Что еще?
Без комментариев.
– Мы все разрушили, – сказала она.
– Ты имеешь в виду, что я все разрушил?
– Я имею в виду, что все разрушила Морин. Зачем ей понадобилось умирать? Почему, что бы люди ни делали, это всегда рикошетом бьет по мне? Пока она была жива, все шло прекрасно. Ясность и определенность. Потом у тебя появилась альтернатива. И ты совсем свихнулся. Бросить меня из-за возможности выбора – нормальный человек так не поступает.
– Наоборот: не все шло прекрасно, не я свихнулся и у меня нет выбора. Ты должна выйти замуж и родить ребенка. Это твое желание – и оно справедливо.
– Ты все время твердишь о женитьбе – ты, а не я. Каркаешь, как ворон: «Брак! Брак! Брак!» Тысячу раз говорила: обойдусь без этих формальностей!
– Вот именно: «обойдусь». А я не могу позволить, чтобы ты «обходилась» без того, чего хочешь.
– Бред какой-то. Да не хочу я ни свадьбы, ни детей.
– Да? А как же быть с твоими книгами, Сьюзен?
– С какими книгами?
– Да хоть с «Наследственностью» Эшли Монтегю.
Она нахмурилась, словно припоминая, и прижала пальцы к вискам.
– Они еще целы? – с таким удивлением, будто речь шла о плюшевом мишке, любимой игрушке ушедшего детства.
– Все на месте.
– Я проходила тогда через тяжелый период.
– Какой период?
– Я была угнетена. Подавлена. Измучена. Давно ты их нашел?
– Примерно с год. Искал кофе в стенном шкафу.
– Понятно… Ну что ж…
Я подумал, что Сьюзен заплачет. Не заплакала.
– Ладно, – решительно продолжила она, – что еще? Что еще нового ты узнал обо мне?
Я пожал плечами.
– Ты должен знать… – И она замолчала.
Я тоже молчал. Но что я должен знать? Что еще я должен знать?
– Один принстонский хиппи, – хмыкнула Сьюзен, – позвал меня сегодня вечером в кино. Вот что ты должен знать.
– Отлично, – ответил я. – Новая жизнь.
– Познакомились в библиотеке колледжа. Тебе не любопытно, что я читала целыми днями?
– Очень. Что?
– Все, что у них есть о матереубийстве, – сквозь зубы процедила Сьюзен.
– Читать – не убивать.
– Ну да. Зато развеялась. Я ведь туда забрела от скуки.
– В этом платье?
– Ага. Почему нет? Оно короткое. В нем удобно лазать по стеллажам.
– Могу себе представить.
– А не выйти ли мне за него замуж?
– За кого?
– За этого хиппи. Он зубрила, ума палата. Юный гений и дряхлая старая дама.
– Положим, ноги, которые ты демонстрируешь мне и своей матери, дряхлыми не назовешь.
– Пользуйся случаем, смотри. Ничего с тобой от этого не случится.
– Не случится, – тупо повторил я, уставясь на приоткрытые бедра и желая Сьюзен как никогда.
– Ну хорошо, – отрезала она, – пора наконец перейти к делу. Время объясниться. Я готова. Как говорит моя мать, посмотрим правде в лицо. Короче, ты никогда больше не приедешь.
– Разве с прошлого нашего серьезного разговора что-нибудь изменилось? Мне кажется, нет, – ответил я.
– Я вижу, что тебе кажется. Тебе кажется, что я Морин. И ты хочешь мне отомстить.
– Едва ли, Сьюзен.
– Именно так, Питер. Да, ты намучался, ты исстрадался, но нельзя же жить, никому не доверяя. Это я, а не Морин. Без обмана. И не смотри на меня так!
– Как?
– Пойдем в спальню. Черт с ней, с матерью. Я люблю тебя. Очень.
– Нет, ты скажи – как это я смотрю?
– Стоп, – прошептала Сьюзен, крепко зажмурив глаза, и помолчала секунду-другую. – Оказывается, ты думаешь, что я хотела удержать тебя инсценировкой самоубийства? Что я тебя… что я тебя шантажировала? Чушь, Питер! Просто у меня кончились силы.
– Почему же ты не пошла к врачу? Ты… Да что говорить! Кстати, Морин делала так десяток раз, не меньше.
– Мне не нужен врач. Мне нужен ты. Я старалась, Питер. Все шесть недель, что ты был в Вермонте, не писала, не звонила, не мчалась на самолете, не преследовала тебя, верно? Пусть отдохнет. Я изо дня в день разыгрывала из себя бодрячку в той самой квартире, где мы вместе были, вместе ели и вместе спали. Наконец посмотрела правде в лицо. Омерзительная дама, Питер. Один знакомый пригласил меня на ужин. Я пошла. Было ужасно. Но, как говорит доктор Голдинг, ничего не поделаешь, иногда приходится начинать с нуля. Тот нуль развлекал меня за столом специфической светской беседой: опасно, дескать, попадать под влияние безответственных типов, лишенных понятия о чести. А Питер Тернопол – он узнал это из надежных печатных источников – является одним из таковых. Я окрысилась. Сказала, что пора домой. Он меня проводил. Когда я вошла в квартиру, мне безумно захотелось позвонить тебе. Но было страшно – вдруг что получится не так? И я приняла таблетку – для смелости. Потом еще одну. В общем… Не надо было этого делать. Глупость от безысходности. Никогда больше так не поступлю. Ты не представляешь, как мне жаль. Поверь, меньше всего я хотела тебя шантажировать, или причинить тебе зло, или показать «безответственному типу, лишенному понятия о чести», где раки зимуют. Просто не могла больше разыгрывать бодрячку. Шесть недель, Питер! Давай поедем куда-нибудь, хоть в мотель – мне все равно куда. Я до смерти хочу быть с тобой. Я ни о чем другом и не думаю. Питер, я тут и вправду рехнусь, живя вдвоем с матерью!
Как раз тут мать и подошла к нам. Она появилась так неожиданно, что Сьюзен даже не успела вытереть слезинки (по одной на глаз). А я ничего не успел ей ответить. Впрочем, ее слова не показались мне тогда ни полностью искренними, ни достаточно полными. Так что отвечать было, в сущности, нечего. Кроме того, я уже ничего не хотел. Вообще ничего. И никого. Я беру сексуальную паузу, милые мои дамы. С этой минуты и до гробовой доски.
Миссис Сибари попросила меня пройти с ней в дом для небольшого разговора.
– Полагаю, – сказала она, едва мы переступили порог террасы, – что вы сообщили Сьюзен о полном разрыве.
– Да.
– Тогда вам лучше сейчас же уйти.
– Я думал пообедать с ней. Наверное, и она этого хочет.
– У нее и в мыслях нет ничего подобного. Она пообедает со мной, не беспокойтесь.
С террасы мы молча смотрели на Сьюзен. Сначала она стояла, опершись на спинку кресла, потом резким движением стащила через голову платье и швырнула на газон, оставшись в белом бикини. Не трусики виделись мне давеча, а купальник. Сюьзен разложила кресло, превратив его в топчан, и легла вниз лицом, широко раскинув руки.
– Задерживаясь здесь, – прервала молчание миссис Сибари, – вы причиняете моей дочери дополнительные страдания.
Очень благородно было ежедневно навещать ее в больнице. (Тон оставался ледяным.) Того же мнения придерживается и доктор Голдинг. В той ситуации вы поступили самым достойным образом, и мы, со своей стороны, это оценили. Но сейчас ей пора посмотреть правде в лицо. Не в ее интересах длить затянувшееся прощание. Не в ваших интересах потакать ей в этом. Сьюзен не так беспомощна, как кажется. Если хотите знать, она всю жизнь играет на снисходительности окружающих. Я говорю об этом, потому что расположена к вам. Не вините себя ни в чем и не возлагайте на себя ответственность за ее будущее. Сьюзен нравится, когда другие расхлебывают кашу, которую она сама заварила. Мы всегда старались относиться к этому с пониманием – все-таки дочь и ее не переделаешь, – но когда-то надо проявить твердость. Уезжайте. Она забудет о вас – и чем скорее, тем лучше. Таков естественный ход вещей. Покиньте наш дом сейчас же, мистер Тернопол, не провоцируйте Сьюзен на новые глупости. Вслед за очередной выходкой придет раскаяние, а на это у моей дочери нет сил.
Сьюзен все еще лежала на топчане, но поза изменилась: она перевернулась на спину, руки в стороны, ноги на ширине плеч; тело выглядело совершенно безжизненным.
– Нельзя ли хотя бы проститься с ней перед уходом? – обратился я к миссис Сибари.
– Разумнее будет, если я сообщу Сьюзен, что вы уже ушли. Она слишком долго пользовалась своей слабостью, но она сильная, уверяю вас. Со временем Сьюзен поймет: тридцатичетырехлетняя женщина, которая видит в партнере любимую игрушку и соответственно себя с ним ведет, обречена на тяжелые проблемы – и решать их придется самостоятельно.
– И все же я хочу с ней проститься.
– Хорошо. Будь по-вашему, но только недолго. – Всем своим видом миссис Сибари показывала, как ей надоело пререкаться со взбалмошным еврейским писакой. – Она щеголяет в этом купальнике всю неделю. Каждое утро почтальон вынужден отводить глаза. Надеюсь, вы не забыли, что и полмесяца не прошло с безумной суицидной попытки. Будьте добры относиться к наряду Сьюзен столь же деликатно, как почтальон; не обращайте внимания на рецидив подросткового эксгибиционизма.
– Я видел вашу дочь и не в таких костюмах. Мы прожили с ней больше трех лет.
– Только избавьте, бога ради, от подробностей. Я никогда не одобряла вашего временного союза. Не буду скрывать, я искренне сожалею, что вы вообще встретились.
– Но мы встретились, и я не могу уйти не простившись.
– Ясное дело, как же вы можете уйти, если она лежит на спине, ноги в стороны, – перестала сдерживаться нежная мать.
– Что вы этим хотите сказать? – вспылил и я.
– Что такие люди, как вы, только об одном и думают.
– Какие «такие» люди?
– Такие, как вы и моя дочь. Вся-то ваша любовь – сплошные постельные эксперименты. Гениталии для вас – лабораторное оборудование. Пора бы и повзрослеть. Никогда и думать не думали о браке. Слишком «своеобразны» для этого. Раньше таких называли богемой. Муж, жена, семья – звук не только пустой, но и опасный: ответственность, обязанности, риск. Лишь блуд да блуд – покуда не исчезнет половой инстинкт. Впрочем, это ваше дело – и ваше право: еще бы, творческая натура. Жаль только, что вы попусту заморочили Сьюзен голову своей исключительностью и избранностью. До встречи с вами моя дочь ориентировалась на более традиционные поведенческие стандарты. А посмотрите, как сейчас она старается продемонстрировать сексуальную раскрепощенность, мил-дружка потешить. Честное слово, бред какой-то, мозги набекрень. Вам что, не на ком больше было упражняться, кроме как на Сьюзен? Или она сама собой впала в половое помешательство? Хоть бы одну женщину на свете пропустил новоявленный Дон Жуан! Нет, не пропустит: тщеславие требует своего. А что будет с ней? Разве мало досталось ей и без того, мистер Тернопол?
– Вы заблуждаетесь, вы глубоко заблуждаетесь на наш со Сьюзен счет.
Я вышел в сад и тихонько направился к топчану. Раскинувшееся на нем тело было знакомо мне не хуже собственного.
– Я ухожу.
Сьюзен широко раскрыла глаза и сразу же снова зажмурилась от прямого солнечного света. Смежив веки, вдруг засмеялась раскованно и вызывающе. Безжизненная рука ожила, приподнялась, легла на штанину и решительно двинулась вверх между моих ног. Поезд следует без остановок. Конечная станция – Член. Мизансцена выстроилась. Немая сцена. Ее лицо оставалось бесстрастным. Я не шелохнулся. Подошедшая миссис Сибари буравила взором конечную станцию. Прошла, наверное, минута.