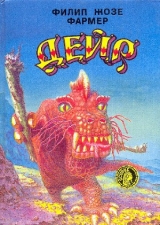
Текст книги "Дейр"
Автор книги: Филип Хосе Фармер
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 53 страниц)
на восход
…это говорится посредством мелофона, по программе “Кофе с Авророй”, канал 69-Б. Строки информации о пятидесятом Ежегодном Смотре-Конкурсе в Центре народного творчества, Беверли-Хиллз, четырнадцатый уровень. Говорится Омаром Вакхом Руником, говорится экспромтом, если не принять во внимание наметки, сделанные предыдущим вечером в малоизвестной таверне “Тайная Вселенная”, и это смело можно сделать, потому что Руник ничего не помнит об этом вечере, кроме того, что он получил Первый-А лавровый венок. Венков с номером два, три и так далее не было, классификация шла по буквам: от А до Я. Возблагодарим же Господа за нашу демократию.
Серо-розовая семга вынырнула из водопада ночи
В заводь нового дня.
Восход – яростный рев солнечного буйвола,
Появляющегося из-за горизонта.
Фотонная кровь истекающей кровью ночи,
Заколотой наемным убийцей – Солнцем.
И так далее – на пятидесяти строках, прерываемых возгласами восторга, хлопками, шиканьем, свистом и выкриками.
Чиб наполовину проснулся. Он сонно таращится на сужающуюся темноту, и его сон бежит в тоннеле подсознания. Широко раскрытыми глазами он смотрит на другую реальность – Сознание.
– Пусть солнце взойдет, – повторяет он за Моисеем.
И, думая о длинных бородах и рогах – наследии Микеланджело, – он думает о своем прапрадедушке.
Воля, словно лом, раздвигает его веки. Он смотрит на экран, занимающий противоположную стену и половину потолка. Восход, палладии Солнца, бросает наземь серую боевую рукавицу.
Канал 69-Б, ВАШ ЛЮБИМЫЙ КАНАЛ, канал Лос-Анджелеса, несет вам рассвет – обманчивый, фальшивый, нарисованный электронами, созданными в устройствах, сооруженных людьми.
Поднимайтесь с солнцем в сердце и песней на устах! Пусть пробегает по телу дрожь от бодрых строк Омара Руника! Вы будете видеть восход так, как видят его птицы на ветвях, как Господь видит его!
Мелофон тихо мурлычет стихи под слабые звуки григовской “Анитры”. Молодой человек Чибайабос Эльгреко Виннеган имеет теперь внутренний заряд, очищенный от черноты фонтана, бившего из нефтяных месторождений подсознания.
– С осла да на скакуна, – произносит Чиб, – да еще и на Пегаса.
Он говорит, мыслит и живет уже в напряженном Сегодня. Чиб поднимается с постели и запихивает ее в стену. Оставить кровать в комнате смятой, словно язык старого пропойцы, значило бы нарушить эстетику помещения, уничтожить тот штришок, который подчеркивает единство целого, создать помеху в работе.
Его комната – гигантский овоид, в углу которого (вернее, в его остром конце) меньший овоид – туалет и душевая. Он выходит оттуда, словно один из богоподобных ахейцев Гомера: массивные бедра, сильные руки, золотисто-коричневая кожа, голубые глаза, каштановая шевелюра – только бороды не хватает. Мелофон между тем воспроизводит рев южноамериканской древесной лягушки, который он однажды уже слышал по каналу 122.
– Сезам, откройся!
Лицо Рекса Люскуса заполняет весь экран. Поры на нем – словно воронки на поле боя Первой Мировой Войны. В левом глазу – монокль, который периодически вынимается во время споров с искусствоведами в лекционной программе “Мне нравится Рембранд”, канал 109. Хотя возраст и делает ему простительным искусственное усиление зрения, он все равно убирает монокль.
– Inter caecox rex Luscus, – говорит он, когда его спрашивают, а частенько и не дожидаясь вопроса. – В переводе с латыни – “В стране слепых – и король кривой”. Вот почему я взял себе имя Рекс Люскус, то есть – Король Кривых.
Ходят слухи, всячески пестуемые самим Люскусом, что он разрешит бионикам вставить искусственный белковый глаз только в том случае, если встретит работы художника, в достаточной степени великого для того, чтобы у него появилась нужда в полноценности зрения. Говорят также, что он вскоре это сделает, поскольку открыл Чибайабоса Эльгреко Виннегана.
Люскус голодно глядит на ближайшие и отдаленные владения Чиба. Чиб сглатывает, не от того, что болен ангиной, а от злости.
Люскус мягко говорит:
– Золотко, я как раз, на всякий случай, хотел убедиться, что ты уже встал и вспомнил о грандиозной важности этого дня. Ты должен быть готов к выставке, должен! Но теперь, когда я вижу тебя, я вдруг вспомнил, что еще не ел. Как ты насчет того, чтобы позавтракать со мной?
– Тем, чем мы обычно питаемся? – спрашивает Чиб, хотя не ждет ответа. – Нет, мне сегодня еще многое надо сделать. Сезам, откройся!
Лицо Рекса Люскуса угасает. Оно похоже на козлиную голову или, как он сам любит говорить, на лицо Пана. У него даже уши выглядят элегантно. Ну просто душка!
– Бе-е-е! – блеет Чиб вслед изображению. – Бе-е! Шарлатан! Я никогда не буду плясать под твою дудку, Люскус, и не позволю тебе грести жар моими руками. Пусть я даже лишусь дотации!
Фон снова звонит. Появляется смуглое лицо Руссо Красного Ястреба. У него орлиный нос, глаза – словно осколки темного стекла. Его широкий лоб рассекает ленточка красной материи, стягивающая спадающие до плеч волосы. На нем куртка оленьей замши, на шее висит ожерелье из крупных бусин. Он выглядит настоящим равнинным индейцем, хотя Сидящий Буйвол, Бешеный Жеребец или благородный Римский Нос выгнали бы его из племени пинками. Не то чтобы они были антисемитами. Просто они не могут себе позволить иметь в племени жеребца, который нагло лезет в улей, когда рядом пасется лошадь.
Урожденный Юлиус Эпплбаум, он стал Руссо Красным Ястребом в День Имен. Только что вернувшийся из лесов, возвращенных к первобытному состоянию, он теперь вкушает плоды разлагающейся цивилизации.
– Ну как ты, Чиб? Шайка интересуется, когда опять появишься?
– У вас? Я еще не завтракал, и мне надо сделать тысячу вещей, чтобы быть готовым к выставке. Увидимся днем!
– Ты мог бы здорово повеселиться этой ночью. Какие-то паршивые египтяне пытались подмазаться к нашим девицам, но мы размазали их по стенам.
Руссо исчезает, словно последний из могикан.
Чиб начинает думать о завтраке как раз в тот момент, когда раздается свист интеркома.
– Сезам, откройся!
Он видит комнату. Клубится дым, слишком густой и крепкий, чтобы кондиционер мог с ним справиться. В дальнем конце овоида спят на ковре маленькие сводные брат и сестра. Они заснули, играя в маму и ее друга, их рты открыты в благословенной доверчивости, они прекрасны, как могут быть прекрасны только спящие дети. Напротив их сомкнутых глаз застыл немигающий объектив, похожий на око циклопа-монголоида.
– Ну, разве они не прелесть? – говорит мама. – Крошки слишком устали, чтобы добраться до постельки.
Круглый стол. Престарелые дамы и рыцари собрались вокруг него, чтобы подвергнуть последнему дознанию туза, короля, даму и шута. Их единственная броня – жир, слой на слое. Щеки матери свисают, словно знамена в безветренную погоду. Ее морщинистые груди, вывалившись из выреза платья, подрагивая, растеклись по столу.
– Жующие коровы! – говорит он громко, глядя на их жирные лица, приподнятые зады, азартные шлепки по столу. Они удивленно, словно проснувшись, поднимают брови. О чем это, черт возьми, говорит сей сумасшедший гений?
– Твой мальчик и в самом деле медлительный? – спрашивает один из маминых друзей, и они смеются, прихлебывая пиво. Анжела Нинон, боясь пропустить свой черед и чувствуя, что мама вот-вот переключится на распылители, мочится ей на ногу. Они смеются над этим, и Вильгельм-Завоеватель говорит:
– Я сдаюсь.
– А я отдаюсь, – говорит мать, и все визгливо смеются.
Чибу же впору заплакать. Но он не плачет, хотя с самого детства его приучали плакать, когда ему плохо.
– Тебе сразу поможет, – говорили ему. – Погляди-ка на Викингов, что это были за мужчины! Но они плакали, словно дети, всегда, когда им было плохо.
Он не плачет, потому что чувствует себя, словно человек, думающий о любимой матери так, будто она умерла очень давно.
Его мама давно уже погребена под глубоким слоем плоти. Когда ему было шестнадцать, у него была любящая мать.
Потом она отказалась от него.
Канал 202, популярная программа: “Что делать матери?”
В семье, где все поют,дела на лад идут 22
Из стихотворения Эдгара А.Гриста, канал 88.
[Закрыть]
– Сынок, не ругай меня за это. Я делаю так, потому что люблю тебя.
Жирная, жирная, жирная! Когда она только уйдет?! Вниз, в бездну этого жира! Исчезая по мере того, как становится толще!
– Сынок, ты можешь спорить со мной обо всем и сейчас, и позже.
– Ты отдалила меня от себя, мама. И это было правильно. Я теперь уже большой. Но у тебя нет никакого права требовать, чтобы я захотел вернуть прошлое.
– Ты меня больше не любишь!
– Что на завтрак, мама?
– На этот раз готовь завтрак сам!
– Зачем же ты меня звала?
– Я забыла, когда открывается твоя выставка. Я хотела соснуть немножко перед тем, как идти туда.
– Четырнадцатого, мама. Но тебе не надо туда ходить Зеленые накрашенные губы расходятся, словно гангренозная рана.
Она чешет свой напомаженный сосок.
– Ох, мне так хотелось там побывать. Я не хотела бы пропустить триумф собственного сына. Как ты думаешь, тебе дадут дотации?
– Если нет – нас ждет Египет, – говорит он.
– Ах, эти вонючие арабы! – восклицает Вильгельм-Завоеватель.
– Это дело рук Бюро, а не арабов, – говорит Чиб. – Арабы кочевали по причинам, по которым мы бы тоже стали кочевать.
Из неопубликованных рукописей дедушки:
“Кто бы мог подумать, что на Беверли-Хиллз засядут антисемиты?”
– Я не хочу в Египет! – причитает мама. – Ты должен получить дотацию, Чибби! Я не хочу покидать наш тесный круг. Я родилась и выросла здесь, на десятом уровне, и когда я уеду, все мои друзья останутся совсем одни. Я не поеду!
– Не плачь, мама, – говорит Чиб, чувствуя жалость к себе. – Не плачь. Правительство не может силой заставить тебя ехать. У тебя есть права.
– Если ты думаешь остановиться на достигнутом, то, конечно, тебе придется ехать, – говорит Завоеватель. – И я не стал бы винить Чиба, если бы он даже пальцем не пошевелил, чтобы получить эту дотацию. Не его вина, что не можешь сказать “нет” дядюшке Сэму. Ты получила свои пурпурные, а теперь требуешь от Чиба то, что он получает от продажи своих картин. Тебе и этого мало. Ты транжиришь их быстрее, чем получаешь.
Мать со злостью кричит на Вильгельма, и они пропадают. Чиб выключает экран. Черт с ним, завтраком, он поест позднее. Его последняя картина должна быть закончена для фестиваля к полудню. Он давит на клавишу, и пустая яйцеобразная комната преображается. Из стен появляются рисовальные принадлежности, словно дары электронных богов. Ван Гог был бы потрясен, а Дали просто хлопнулся бы в обморок, доведись им увидеть холст, палитру и кисть, которыми пользуется Чиб.
Процесс создания картины включал в себя сплетение тысяч проволочек в разнообразные формы на различной глубине. Проволочки были так тонки, что каждую в отдельности можно увидеть только через увеличительное стекло. Гнуть их можно только специальными маленькими щипчиками. Отсюда и очки на носу, и длинные паутинки в руках на первой стадии работы. После сотен часов медленного и кропотливого труда проволочки занимают предназначенное им место.
Чиб снимает очки, чтобы оценить первоначальное впечатление. Затем берет краскораспылитель, чтобы покрыть проволочки подходящими цветами красок и их оттенками. Краска сохнет всего несколько секунд. Чиб подключает холст к источнику питания и нажимает кнопку, пропуская через проволочки слабый ток. Сквозь краску пробивается свечение, раздаются лилипутские взрывы, и все закрывается синим дымом.
В результате на трехмерном изображении на разных уровнях появляются засохшие пузыри и раковины из краски. Свет скользит сквозь верхнюю из них во внутреннюю, когда картину поворачивают. Внутренность раковин превращается в своеобразные рефлекторы, концентрирующие свет, поэтому изображения внутренних слоев бывают даже более отчетливыми, чем внешние.
На выставке картину поставят на крутящийся пьедестал, который постоянно поворачивается.
Звук зуммера экрана. Чиб, ругнувшись, подумывает о том, что его надо бы отключить. Впрочем, кажется, это не интерком с истерично зовущей матерью. Пока, во всяком случае. Но она скоро позовет его, когда изрядно продуется в покер.
– Сезам, откройся!
Воспой, о муза, Дядю СэмаДедушка пишет в своих “Отдельных высказываниях”:
“Двадцать пять лет после того, как я убежал с двадцатью миллиардами долларов и затем, как все полагают, скончался от сердечного приступа, Фалько Эксипитер снова сел мне на хвост. Детектив из ФБР, когда выбирал профессию, назвал себя Сокол Ястреб. Что за эгоист! Да, он зорок и неутомим, как все стервятники, и я бы дрожал от страха, не будь я слишком стар, чтобы бояться за свое бренное существование. Кто развязал шнурки и отбросил мой комбинезон? Как он уловил старый, выветрившийся запах?”
Лицо Эксипитера – это лицо летучего хищника, страдающего манией подозрительности. Взгляд блеклых голубых глаз, подобно ножам, выскакивающим из рукава и посылаемым вперед слабым движением кисти. Они схватывают все с шерлокхолмсовской цепкостью, отбирая важные детали. Его голова поворачивается из стороны в сторону, уши стоят торчком, ноздри раздуваются – радар, сонар и одор.
– Мистер Виннеган, я извиняюсь за ранний визит. Я поднял вас с постели?
– Вы сами видите, что нет, – говорит Чиб. – И не надо представляться. Я знаю вас. Вы уже три дня ходите за мной, словно тень.
Эксипитер не краснеет.
– Если вы знаете меня, может быть, вы знаете, о чем я хочу поговорить с вами?
– Я должен быть настолько ошарашенным, чтобы отвечать вам?
– Мистер Виннеган, я хотел бы поговорить с вами о вашем прапрадедушке.
– Он умер двадцать пять лет назад! – кричит Чиб. – Забудьте о нем. И не отвлекайте меня. И не надейтесь получить ордер. Ни один судья не выдаст его вам. Мой дом – моя репа. То есть, я хочу сказать, крепость.
Он думает о маме и еще, на что будет похож этот день, если только он не смотается отсюда поскорее. Но он должен закончить картину.
– Убирайтесь, Эксипитер, – говорит Чиб. – Я подумаю, не доложить ли о вас в БПНР. Я уверен, что вы прячете телекамеру под своей дурацкой шляпой.
Лицо Эксипитера ровно и неподвижно, словно алебастровое изображение сокологолового Гора. Он словно хвастается своей невозмутимостью. Раз так, он оставит сказанное без внимания.
– Очень хорошо, мистер Виннеган. Но вы так легко не отделаетесь от меня. После всего…
– Убирайтесь!
Интерком трижды свистит. Надо сказать, что три раза – это дедушке.
– Я подслушивал, – говорит стодвадцатилетний голос, глухой и глубокий, словно эхо в пирамиде фараона – Я хочу повидаться с тобой сейчас. Если, конечно, ты можешь уделить старому сумасброду несколько минуток.
– Конечно, дедушка, – говорит Чиб, думая, как же он любит старика – Тебе нужна пища?
– Да, и для ума тоже.
День. День Молитвы. Закат богов. Армагеддон. Вещи замыкаются в себе. Пан или пропал. Грудь в крестах или голова в кустах. На щите или со щитом. Вот, есть все эти слова и чувство чего-то большого. Что принесет этот день?
Больное солнцескользнуло в нарывающее горло ночи
(О.Руник)
Чиб подходит к выпуклой двери, которая открывается в промежуток между стенами. Овальная гостиная – фокус дома. В первом квадранте, если идти по часовой стрелке, находится кухня, отделенная от гостиной шестиметровой ширмой, разрисованной Чибом изображениями усыпальниц фараонов. Семь гладких колонн вокруг гостиной отмечают границу между комнатой и коридором. Меж колон нами размещены более высокие ширмы, разрисованные Чибом в период его увлечения мифологией индейцев.
Коридор тоже овальной формы, в него выходят все комнаты дома. Комнат всего семь: шесть комбинаций типа спальня-кабинет-студия, туалет-душ и кладовая.
Маленькие яйца внутри больших яиц, которые внутри мегаломонолита грушевидной планеты внутри яйцеобразной Вселенной; последнее слово современной космологии: неопределенность имеет форму куриного производного. Бог высиживает яйца и кудахчет раз в триллион лет или что-то около этого.
Чиб пересекает холл, проходит между двумя колоннами, высеченными в форме кариатид, и входит в гостиную. Его мать искоса глядит на сына, который, как она думает, близок к сумасшествию, раз до сих пор еще топчется на одном месте. Это частично и ее ошибка: она должна была в моменты сумасбродства отвлекать его. Теперь она толста и безобразна, о боже, до чего же толста и безобразна! Она не может ни благоразумно, ни неблагоразумно надеяться на то, что все будет по-старому.
Это естественно, твердит она себе, вздыхая обиженно и слезливо, если бы он отверг любовь матери ради молодых, хорошо сложенных женщин… Но отвергать и их тоже? Он же не сказочный герой! Он кончил со всем этим, когда ему было тринадцать. В чем же причина его упорного целомудрия? Он не ударился в мастурбацию, что она могла бы понять, хотя бы и не одобрила.
О, Господи, где же я была не права? Ведь со мной все нормально. Он же становится сумасшедшим, как его отец – Релей Ренесанс, по-моему, так его звали – и его тетя, и его прапрадедушка Все эти картины и эти радикалы! Молодой Редис, с которым он общается… Он так артистичен, так чувствителен. О, господи, если что-нибудь случится с моим мальчиком, я должна буду поехать в Египет.
Чиб знает все ее мысли, потому что она очень часто преподносит их вслух и неспособна заиметь новые. Он проходит мимо круглого стола, не произнося ни слова. Дамы и Рыцари консервативного Камелота смотрят на него сквозь призму пива.
На кухне он открывает овальную дверцу в стене. Он убирает поднос с пищей в закрытых блюдах и чашках, запакованных в пластик.
– Ты не будешь есть с нами?
– Не скули, мама, – говорит он и возвращается в свою комнату, чтобы захватить несколько сигарет для дедушки. Дверь, воспринимая, усиливая и преобразовывая меняющуюся, но опознаваемую приводными механизмами картину электрической проводимости кожи и ее всевозможных полей, артачится. Чиб слишком расстроен. Магнитные бури, проносясь через его кожу, искажают естественную конфигурацию полей. Дверь наполовину открывается, захлопывается, вдруг изменяет решение и открывается, но потом закрывается опять.
Чиб пинает дверь, и она блокируется напрочь. Он думает, что надо бы поставить видео или звуковой сезам. Трудность только в том, что он ограничен в блоках и средствах, чтобы купить материалы. Он пожимает плечами и идет мимо изгибающейся стены холла и останавливается перед дедушкиной дверью, скрытой от взглядов остальных членов семьи кухонной ширмой.
Ибо пел он мир, свободу,
Красоту, любовь и страстность,
Пел он смерть и жизнь без смерти
В Поселениях Блаженных,
В мире, что зовут Понима,
В теплых землях То, Что Будет.
Очень дорог Гайавате
Был учтивый Чибайабос.
Чиб читает эти строки, и дверь отходит в сторону.
Наружу вырывается свет – желтоватый, с чуть заметной примесью красного. Свет – выдумка дедушки. Смотреть в выпуклую овальную дверь – все равно что смотреть в зрачки сумасшедшего. Дедушка стоит посреди комнаты, белая борода опускается ниже пояса, белые волосы спадают до пят. Хотя вся эта растительность скрывает его наготу: и он не на людях, на нем надеты шорты. Дедушка – это нечто очень старомодное, но простительное человеку, которому минуло двенадцать десятков лет.
Как и Рекс Люскус, он одноглазый. Улыбка обнажает его собственные зубы, выросшие из зародышей, трансплантированных тридцать лет назад. Большая сигара торчит изо рта с полными красными губами. Нос его широк и грязен, словно по нему прошлась тяжелая стопа времени. Его лоб и скулы так же широки, может быть, из-за капельки крови оджибуэев, замешанной в нем, хотя он рожден Виннеганом и даже потеет по-кельтски – распространяя вокруг аромат виски. Он высоко держит голову, а серо-голубые глаза его словно лужицы на дне глубокой расщелины, остатки растаявшего глетчера.
Лицо дедушки – один к одному лицо Одина, когда тот отвернулся от колодца Мимира, удивленный тем, что заплатил слишком большую сумму. Или это лицо иссеченного ветрами и песком вечного Сфинкса из Гизы.
– Сорок веков истории смотрят на тебя с высоты, если перефразировать Наполеона, – говорит дедушка. – С высоты времен… Что тогда есть человек? Кто он есть? Вопрошает сфинкс наших дней. Эдип разрешил вопрос Ее предшественницы и не разрешил ничего, потому что от Нее отделилось Ее подобие, хитроумный ребенок с вопросом, который до сих пор никто не может разрешить. И возможно, не разрешит никогда.
– Ты забавно разговариваешь, – говорит Чиб. – Но мне это нравится.
Он усмехнулся, с любовью глядя на дедушку.
– Ты заглядываешь сюда каждый день не столько из-за любви ко мне, сколько для того, чтобы расширить свой кругозор. Я видел весь свет и слышал обо всем на свете! И время от времени обо всем этом думал. Я много до того странствовал по свету, пока четверть века назад не нашел здесь свое убежище. Теперешний немощный узник был величайшим Одиссеем всех времен.








