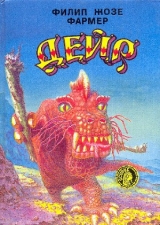
Текст книги "Дейр"
Автор книги: Филип Хосе Фармер
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 53 страниц)
Алкашей в Союзе ВВЗ ждала неминуемая ВМ. И, стало быть, ни психологической, ни медикаментозной помощи им не полагалось. Растерянный Хэл, желая излечить Жанеттин порок, пошел по лекарство к тому самому народу, который довел ее до жизни такой. Но прикинулся, что нуждается во врачебной помощи он сам.
– Пьянство на Оздве – дело житейское, обычное, но не в тяжелой форме, – сказал Лопушок. – А немногих алкашей скоренько приводят в норму, излечивают сострадалисты. Давайте, я вас полечу, попользую.
– Увы. Начальство не разрешит.
А незадолго до того Хэл точно тем же объяснил, почему не приглашает жучу к себе.
– У вас самое щедрое на запреты начальство во всей Вселенной, – сказал Лопушок и захохотал, как всегда, подвывая. Отсмеявшись, продолжил: – Прикасаться к спиртному вам тоже запрещено, но ведь пьете же. Впрочем, о непоследовательности не спорят. Однако могу кое-что посоветовать, рекомендовать. Есть у нас средство, называется “негоридуша”. Его добавляют в спиртное, сперва понемножку, потом с каждым днем побольше, уменьшая таким образом долю алкоголя. Так, чтобы через две-три недели пациент пил на девяносто процентов раствор “негоридуши”. Вкус тот же самый, пропойца редко замечает подмену. Курс приема полностью снимает зависимость пациента от алкоголя. Но тут не без подвоха, не без каверзы.
Хитро помолчал и досказал:
– Пропойца становится, делается страстным “негоридушаманом”!
Заржав, шлепнул себя по ляжкам, затряс головой так, что длинный хрящевой нос раскачало, и зашелся таким хохотом, что слезы из глаз брызнули.
С трудом сдержал смех, вытер слезы носовым платком в виде морской звезды. И сказал:
– По настоящему-то польза от “негоридуши” та, что пациенту открывается возможность разрядить, сбросить напряжение, которое вызывает у него желание, потребность пить. Открывается возможность, пусть к сострадализации с одновременным отучением от стимулятора Так как вариант с тайным подмешиванием “негоридуши” я применить к вам не смогу, придется допустить, поверить, что вы сами заинтересованы в лечении. Когда почувствуете, что готовы к терапии, положите, ах нет! – поставьте! Поставьте в известность меня.
Так у Хэла дома появилась посудина “негоридуши”. А ее содержимое ежедневно и тайно добавлялось в таракановку, которую он добывал для Жанетты. Добывал и дожидался, пока “негоридуша” подействует, надеялся, что на дальнейшие психотерапевтические беседы хватит и его собственных познаний.
А тем самым эти самые “психотерапевтические беседы” неприметным образом вели с ним. Сострадалист чуть ли не каждый день шел на приступ, сражаясь с религией и наукой Союза ВВЗ. Лопушок прочел жизнеописание Айзека Сигмена и его труды: “Пред-Тору”, “Талмуд Запада”, “Пересмотренное Святое писание”, “Основы сериализма”, “Время и богословие”, “Особь и мировую линию”. Мирно посиживая за столом со стаканом сока в руке, жуча бросал вызов расчетам и выкладкам дуррологов. Хэл доказывал – Лопушок опровергал. Упирал на то, что расчеты основаны на ложных посылках; что исходные положения Дурра и Сигмена подкреплены слишком большим числом натянутых аналогий, метафор и некачественных подстановок. Убери эти подпорки – рушится все здание.
– В добавление, в развитие, – говорил Лопушок, – разрешите, позвольте подчеркнуть, сделать упор на еще одном противоречии, свойственном вашему богословию. Вы, сигмениты, веруете, что каждый человек полностью отвечает за все, что с ним происходит, и никто, кроме него самого, никакому ответу ни за что не подлежит. Если вы, Хэл Ярроу, споткнетесь об игрушку, которую бросило на полу рассеянное дитя, – о счастливый, ненаказуемый ребенок! – и разобьете, повредите себе локоть, значит, у вас, и только у вас, было тайное желание причинить себе неприятность. Если вы серьезно пострадаете во время аварии, обстоятельства тут ни при чем: это вы согласились на осуществление возможного. И наоборот, иной вариант будущего – аварии не будет. Вы совершили преступление? – значит, желали совершить. Вы пойманы? – так не потому, что при том наделали глупостей, не потому, что аззиты оказались сообразительнее или подвижнее, не потому, что обстоятельства привели вас в лапы Аззы, как вы изволите это называть на своем языке. Нет. А потому, что желали быть пойманы. Иными словами, вы неким образом управляете обстоятельствами. Если вы умерли, то не потому, что кто-то навел на вас револьвер и нажал курок, а потому, что хотели умереть. Вы умерли, потому что пожелали попадания пули и согласились с убийцей в том, что вас следует убить.
– Разумеется, такая философия, такой взгляд на вещи очень удобны для вашего Госуцерквства, – продолжал Лопушок, – ибо избавляют его от ответственности за кару, казнь или несправедливый штраф, или за какой-нибудь иной антигражданский произвол по отношению к вам. Ведь если бы вы сами не пожелали оказаться наказаны, казнены, оштрафованы или безосновательно осуждены, то с вами этого не случилось бы. И, разумеется, если вы не согласны с Госуцерквством и пытаетесь бросить ему вызов, это означает, что вы стремитесь осуществить осуждаемое им псевдобудущее. И таким образом вас, одиночку, теоретически лишают шансов на победу.
Однако прислушайтесь повнимательнее, – повышал голос сострадалист. – При этом вы верите, что обладаете полной свободой определять будущее! Но ведь будущее уже выбрано, поскольку Сигмен побывал в нем и все устроил. Его брат, Джад Ведминг, способен на временные нарушения хода событий в прошлом и будущем, но в конце концов Сигмен восстанавливает желаемое равновесие. Так позвольте, так разрешите вас спросить, каким же образом вы способны выбрать, определить будущее, если оно уже выбрано, определено и предсказано Сигменом? Верно либо одно положение, либо другое, оба не могут быть верны.
Хэл чувствовал, как горит лицо, как давит грудь, будто ее камнем привалили, как трясутся руки.
– Да, – бормотал он. – Я ставил перед собой этот вопрос.
– Перед собой или еще перед кем-нибудь?
– Ни перед кем, – отвечал Хэл и слишком поздно спохватился, что попал в ловушку. – Нам разрешается задавать вопросы учителям, просто такого вопроса нет в списке.
– Вы хотите сказать, что ваши вопросы заранее сведены в список и выйти за пределы этого списка вы не можете?
– Не вижу в этом ничего дурного, – раздражался Хэл. – Это делается для нашего блага. Госуцерквство по опыту знает, какими вопросами интересуются учащиеся, и для менее сообразительных составляет список.
– Для менее сообразительных сгодилось бы, – кивал Лопушок. – Но я подозреваю, что любой вопрос, выходящий за пределы списка, рассматривается как опасный и свидетельствующий об антиистиннизме мышления. Это так?
Хэл кивал. Вид у него был жалкий.
Лопушок не знал жалости и продолжал резать по живому. Ужасней всего, что он мог сказать, были последующие речи, поскольку то были нападки непосредственно на священную особь самого Сигмена.
Он заявлял, что жизнеописание Впередника и его богословские сочинения изображают этого человека любому объективному читателю сексуально-фригидным женоненавистником с мессианским комплексом, с шизофреническими и параноидальными отклонениями, которые время от времени пробиваются сквозь ледяную кору в виде религиозно-ученых бредней и фантазий.
– Всем прочим людям приходилось приспосабливаться и приспосабливать свои мысли ко временам, в которые жили. У Сигмена в этом отношении было преимущество перед всеми остальными духовными вождями. Благодаря омолаживающим средствам, разработанным на Земле, он прожил очень долго, достаточно для того, чтобы построить общество по своему разумению, сплотить его и навязать ему свои слабости. Он не умрет, пока держится связка в построенном им здании.
– А он и не умер, – возражал Ярроу. – Он шагнул в иновремя. Он постоянно с нами, он может явиться в любом месте и в любой момент, хоть в прошлом, хоть в будущем. Как только возникает необходимость преобразовать псевдовремя во время истинное, непременно является он.
– Ах да, – ухмылялся Лопушок. – То-то вы древним городом заинтересовались, не так ли? Наслышались о фресках, где есть намек, что оздвийских гоминидов некогда почтил своим присутствием человек с другой звезды. Вас озарила догадка, уж не Впередник ли это был. Вот и решили лично убедиться.
– Была такая мысль, – говорил Хэл. – Но в отчете я указал, что, хотя эти изображения в чем-то и напоминают Сигмена, полной уверенности у меня нет. Нельзя сказать наверняка, посетил или не посетил Впередник эту планету тысячу лет тому назад.
– Как бы то ни было, – гнул свое Лопушок, – я утверждаю, что высказанные вами положения не выдерживают критики. Вы заявляете, что предсказания Сигмена верны. Я утверждаю, что они, во-первых, двусмысленны. И что, во-вторых, они осуществляются только потому, что ваше государство-церковь, которое вы для краткости именуете “госуцерквством”, прилагает огромные усилия для такого осуществления. Ваше общество с его пирамидальным строением, со службой ангелов-хранителей, где у каждых двадцати пяти семей имеется АХ для наблюдения за самыми интимными подробностями жизни, а каждые двадцать пять АХ’ов находятся в ведении квартального АХ’а, а каждые пятьдесят квартальных АХ’ов подчинены АХ’у-инспектору и так далее, – такое общество основано на страхе, невежестве и подавлении.
Потрясенному, рассвирепевшему, изумленному Хэлу полагалось встать, уйти и никогда не возвращаться. Но сострадалист сердечно предлагал опровергнуть сказанное. Хэл отвечал потоком брани. Иногда, позволив Хэлу выговориться, жуча предлагал сесть и спокойно продолжить диспут. Иногда выходил из себя и Лопушок, начинался крик и взаимные оскорбления. Дважды дело дошло до драки: у Хэла был в кровь разбит нос, Лопушок получил фонарь под глазом. А затем жуча, рыдая, обнимал Хэла и просил прощения, они усаживались и успокаивали нервишки умеренным дружеским возлиянием.
Знал Хэл, что грешно ему слушать Лопушка, грешно ставить себя в положение, когда в его присутствии звучат такие антиистинные речи. Но устраниться сил не было. И хотя он ненавидел Лопушка за эти диспуты, они непонятным образом доставляли удовольствие, даже наслаждение. Не мог Хэл Ярроу раз и навсегда порвать с этим существом, язык которого жегся побольнее, чем когда-то Порнсенова плеть.
Все эти диспуты он пересказывал Жанетте. А та слушала, и он не чувствовал стеснения, еще и еще раз повторяя рассказы, и постепенно улетучивались горечь, неприязнь и сомнения. Оставалась любовь и только любовь, такая любовь, о которой он прежде и представления не имел. Он впервые постиг, как мужчина и женщина становятся единой плотью. Когда-то Мэри и он так и оставались вне круга жизненных восприятий партнера, но Жанетте ведомы были иная геометрия, объединяющая, и иная химия, связующая их обоих воедино.
И не только их обоих – при том всегда присутствовали свет и таракановка. Хэла они больше не смущали. Сама того не зная, Жанетта пила не столько таракановку, сколько “негоридушу”. А к включенному бра над кроватью он привык. Счел Жанеттиной причудой. За этой причудой не стоял страх темноты, поскольку Жанетта настаивала, чтобы свет был включен лишь на время любовных ласк. Зачем ей это, он не понимал. Возможно, ей хотелось навсегда запечатлеть в памяти его образ на случай разлуки. Если так, пусть горит свет.
При свете он изучил ее тело отчасти как любовник, отчасти как антрополог. Порадовался и подивился тому, как мала разница между нею и земными женщинами. Во рту у нее был небольшой нарост, вероятно, остаток какого-то органа, давным-давно отмершего в ходе эволюции. У нее было двадцать восемь зубов; отсутствовали зубы мудрости. Кто его знает, возможно, такова была особенность племени, к которому принадлежала ее мать.
Либо у нее имелись какие-то дополнительные грудные мышцы, либо исключительно хорошо были развиты обычные. Крупные, полушариями груди не обвисали. Были высоки, тверды и уставлены вперед – идеал женской красоты, так часто и упорно воплощаемый мужчинами-скульпторами и так редко встречающийся в жизни.
Не только приятно было на нее глядеть – приятно было находиться с нею рядом. Раз в неделю она встречала его в новом наряде. Обожала шить. Из того, что он покупал для нее, мастерила блузки, юбки, даже халатики. Переменам нарядов сопутствовали перемены прически. Жанетта была постоянно нова, постоянно прекрасна, и Хэл впервые осознал, что женщина способна быть прекрасной. Даже больше – что прекрасным можеть быть человеческое существо вообще. И что суть красоты – дарит радость, если не навек, то надолго.
Их взаимную радость усиливала ее восприимчивость к языкам. Всего за одну ночь она переключилась со своего “хвканцузс’ого” на американский. Около недели пользовалась ограниченным, но постоянно растущим словарем, а потом заговорила быстрее и выразительнее, чем он сам.
Однако радости общения сказались на служебном долге. Хэловы успехи в овладении сиддийским замедлились.
Однажды Лопушок спросил, как обстоит дело с книгами, которые у него позаимствовал Хэл. Хэл признался, что плоховато: они по-прежнему для него трудны. Тогда Лопушок дал ему книгу попроще, о развитии жизни на Оздве. Эту книгу жучи использовали как учебник для начальной школы.
– Попробуйте прочесть хоть эту. Правда, два тома, но текст специально облегчен, много иллюстраций, чтобы материал легче усваивался. Обработано для юношества нашим лучшим педагогом Уи’инэи.
У Жанетты было гораздо больше времени на школярские подвиги, чем у Хэла; Хэл уходил на целые дни, а ей, запертой в четырех стенах, почти нечем было заняться. Поэтому она набрасывалась на новые книги, и Хэл от большой лени завел обычай поручать ей читать вслух и переводить. Вначале она громко читала по-сиддийски, а потом переводила на американский. А если не хватало слов, то на “хвканцузс’ий”.
Однажды вечером она бодро взялась за книгу Уи’инэи. Но в промежутках между параграфами прикладывалась к таракановке, так что довольно скоро ее переводческий пыл пошел на убыль.
Одолели параграф первый, где речь шла о том, как образовалась планета и как на ней возникла жизнь. Взялись за параграф второй – Жанетта откровенно зевнула и украдкой глянула, заметил ли это Хэл, но тот сидел, прикрыв глаза, и притворялся, что погружен в мысли. И Жанетта стала читать дальше о том, как из палеочленистоногих возникли жучи, как набрались ума и порешили стать хордовыми. Уи’инэи отпустил несколько тяжеловесных шуток насчет своенравия жуков-кикимор начиная с того рокового дня и перешел к параграфу третьему, в котором излагалась история млекопитающих на южном материке. Оздвы – история, которая завершилась возникновением “человека оздвийского”.
– …Но у разумных млекопитающих, как и у нас, были свои мимикранты-паразиты, – читала Жанетта. – Одним из них оказался особый подвид так называемого жука-бражника. Этот подвид уподобился не жучам, а человеку оздвийскому. Обмануть он мог разве что партнера с очень низкими умственными способностями, но свойство производить алкоголь приблизило жука-бражника к людям. Он сопутствовал своим хозяевам с первобытных времен, сделался неотъемлемой частью их культуры и в конце концов, как утверждается в одной из теорий, немало поспособствовал вымиранию человека оздвийского.
Возразим: во-первых, не только он и, во-вторых, не следует преувеличивать его злокозненность. У жука-бражника мирный нрав. Но, как большинство живых существ, он мог быть обманут, а его невзыскательные устремления могли быть переиначены так, что стали представлять собой угрозу. Вот это-то и было проделано с жуком-бражником, причем проделано людьми.
Следует отметить, что тут у человека был иной союзник в кавычках, который во многом содействовал использованию жука-бражника во зло. Таким союзником в кавычках был паразит, относимый к совсем иному виду – виду, который, вообще говоря, следует в определенной мере считать родственным нам.
Но у этого вида, однако, была особенность, отличающая его не только от нас, не только от “человека оздвийского”, но и от любого иного животного на нашей планете за исключением нескольких весьма низкоорганизованных видов. Как свидетельствуют даже самые ранние костные останки из тех, что нам доступны, все существа, относящиеся к этому виду, были…
Жанетта отложила книгу.
– Тут непонятное слово! Хэл, можно дальше не читать? Скука адская!
– Брось, отложи. Давай лучше комикс почитаем. Самый любимый у наших ребят на “Гаврииле”, они на него в очередь записываются.
Она улыбнулась – ну, само очарование! – и на столе перед ней мигом оказались “Приключения Лейфа Магнуса, любимого гвардейца Впередника. Том 1037, книга 56, Лейф Магнус и Чудо-юдо с Арктура”.
Хэл послушал-послушал, как она силится перевести американские текстовки на обиходное наречие жучей, но, наконец, эта пошлятина с картинками ему обрыдла, и он потянулся к Жанетте.
А бра над кроватью не выключил…
Не все шло так мирно, бывали столкновения, даже ссоры.
Жанетта ни в куклы не годилась, ни в рабыни. Когда не желала поступить по примеру или по слову Хэла, то по большей части заявляла об этом сразу и вслух. А если Хэл отвечал ехидством или грубостью, то рисковал тут же получить в ответ колкое словцо. Как-то раз вскоре после того, как он спрятал Жанетту у себя в пука, он вернулся с корабля чуть ли не на вторые сутки, столько вдруг срочного дела объявилось. Понятно, что за такое время щетина на подбородке более чем обозначилась.
Жанетта поцеловала его, скорчила гримасу и сказала:
– Царапучий. Как напильник. Сейчас крем собью и сама тебя побрею.
– Не надо, – сказал он.
– Почему? – спросила она, направляясь за кремом в то самое. – Мне нравится тебя брить. А особенно нравится, какой ты после бритья красивенький.
Вернулась с баночкой средства для удаления волос.
– Сядь, я сама. И покуда я буду с этой скребучей проволокой воевать, можешь сидеть и воображать, что купаешься в моей любви.
– Жанетта, ты не поняла. Мне нельзя бриться. Я теперь “ламедник”, а “ламедникам” положено отращивать бороду.
Она так и замерла с баночкой в руке.
– Нельзя? Ты имеешь в виду, есть такой закон и тебя посадят в тюрьму, если ты побреешься?
– Нет, не совсем так, – сказал он. – Впередник ничего на сей счет не говорил и никаким законом носить бороду не обязывал. Но-о обычай у нас такой. И почетно, потому что только тем, кто носит “ламед”, дозволяется отращивать бороду.
– А что случится, если бороду отрастит не – “ламедник”?
– Не знаю, – сказал он скучным голосом. – Такого не бывает. Можешь быть совершенно уверена. Такое может прийти в голову только сумасшедшему извращенцу.
– Но борода тебя портит, – сказала она. – И царапает мне лицо. Будто я целуюсь с пружинным матрасом.
– Тогда одно из двух, – рассвирепел он. – Либо ты научишься целоваться с пружинным матрасом, либо вообще отвыкай от поцелуев. Потому что я должен отрастить бороду. Должен!
– А вот и не должен! – сказала она с вызовом. – Что толку быть “ламедником”, если тебе от этого свободы не прибыло, если опять приходится делать то, что обязан? Почему нельзя поступить против этого дурацкого обычая?
От ярости и от страха у Хэла все в голове перепуталось. Вдруг почудилось, что она хлопнет дверью и уйдет, продолжай он стоять на своем. А если уступить, то среди “ламедников” корабля он будет как белая ворона.
В результате обозвал Жанетту дурехой. Получил в ответ “дурака”. Поссорились. Полночи прошло, прежде чем она первая сделала шаг к примирению. А прежде чем окончательно выяснили, что любят друг друга, наступил рассвет.
Утром он побрился. Три дня на “Гаврииле” никто к нему не приставал, никаких замечаний не делал, а он маялся: чувствовал себя виноватым и ловил на себе косые взгляды (или воображал, что ловит). Наконец убедил себя: либо никто ничего не заметил, либо все слишком заняты, и разоряться по поводу Хэлова бритого подбородка ни у кого нет ни времени, ни желания. Даже начал подумывать, а нет ли других докук, связанных с ношением “ламеда”, которыми можно было бы точно так же, тишком-молчком, пренебречь на здоровье.
А на четвертое утро его вызвали в рабочий кабинет к Макнеффу.
Сандальфон сидел за столом, теребил себе бородищу. Воззрился на Хэла водянистыми очами и долго не отвечал на приветствие.
– Легко себе представить, Ярроу, что вы увлечены исследованиями в поле и обо всем прочем вам просто некогда думать, – сказал сандальфон. – Это укладывается в истиннизм. Нештатная обстановка, и все помыслы устремлены ко дню, когда мы перейдем к окончательному решению поставленной задачи.
Макнефф встал и принялся вышагивать перед Хэлом из угла в угол.
– Но в то же время вы обязаны помнить, что “ламед” на груди означает не только привилегии, но и ответственность.
– Буверняк, авва.
Макнефф на полном ходу остановился и нацелил Хэлу в грудь длинный костистый палец.
– Тогда почему не отращиваете бороду? – резко спросил он. И метнул свирепый взгляд.
Хэл почуял, что цепенеет, как во времена, когда в него, в малолетку, ах, Порнсен незабвенный, точно так же целился пальцем и таким же испепеляющим взглядом буравил. И ушла душа в пятки, будто Хэл Ярроу и вправду нашкодивший пацаненок.
– Я… я…
– Должно не только стремиться к получению “ламеда”, должно стремиться постоянно доказывать себе и окружающим свое право носить его. Безупречность и только безупречность помогает преуспеть в этом, беззаветное усилие блюсти свою безупречность!
– Извините, авва, – сказал Хэл дрогнувшим голосом. – Я прилагаю беззаветное усилие и блюду свою безупречность.
И с этими словами набрался смелости глянуть сандальфону в глаза, хотя, откуда набрался, и сам не знал. Смелости глянуть и смелости лгать наглейшим образом, лгать в присутствии безупречнейшего из безупречнейших, великого сандальфона! Он, Хэл, погрязший в еретической скверне!
– Однако не понял, что общего между моей безупречностью и тем, что брею бороду. Ни в “Талмуде Запада”, ни в каком-либо другом труде Впередиика нет ни слова об истиннизме или антиистиннизме касательно бороды.
– Вы мне будете рассказывать, что есть и чего нет в писаниях? – вспылил сандальфон.
– Разумеется, нет. Но при том я говорю правду, не так ли? Макнефф снова заходил по кабинету.
– Мы обязаны быть безупречны, обязаны. Даже малейшее послабление псевдобудущему, малейший отход от истиннизма способны опорочить нас. Да, Сигмен нигде и никогда не высказывался по поводу ношения бороды. Но давно распознано, что только истинно безупречный достоин отращивать бороду по примеру Впередника. И в знак своей истинной безупречности мы обязаны блюсти соответствующий внешний вид.
– Всем сердцем согласен, – сказал Хэл.
Дошло, что дрожит он только по старой привычке, будто стоит на вытяжку перед Порнсеном, а не перед архиуриелитом. А Порнсена нет, с Порнсеном покончено, его пепел развеян по ветру. Рукой самого Хэла развеян во время погребальной церемонии. Мысль об этом добавила Хэлу решимости.
– В штатной обстановке немедля отрастил бы, – сказал он. – Но нахожусь в поле и помимо исполнения прямых служебных обязанностей произвожу эффективный сбор агентурных данных. Обнаружилось, что наблюдаемые считают бороду омерзительной; как вам известно, у них нет растительности на лице. Им непонятно, почему мы отращивали бороды при том, что располагаем средствами для удаления волос. Им дурно в присутствии человека с бородой. Я не смог бы войти к ним в доверие, если бы отрастил бороду. Но как только мы перейдем к окончательному решению поставленной задачи, я немедленно отращу бороду.
Макнефф хмыкнул и запустил пальцы в рыжее свидетельство своей безупречности.
– Отчасти резонно. Нештатная обстановка и ее последствия. Почему своевременно не поставили в известность?
– Вы настолько заняты с утра до вечера, что не хотел вас отвлекать по личному делу, – ответил Хэл.
А сам гадал, найдется ли у Макнеффа время и охота проверить правдивость слов бритого “ламедника”. Жучи-то ни единым словом не обмолвились Хэлу насчет бород у землян. Все это он выдумал себе в оправдание, припомнив, как американские индейцы были удивлены видом бородатых белых людей. Где-то когда-то об этом читал.
Макнефф еще раз кратко напомнил Хэлу, как важно блюсти безупречность, и отпустил с Сигменом.
И Хэл, с трудом справляясь с дрожью после этого нагоняя, отправился домой. Дома принял маленько для успокоения, а потом добавил, чтобы поужинать вместе с Жанеттой. Когда чуток тянешь, перестает действовать на нервы зрелище, как Жанетта кладет себе пищу кусок за куском в открытый рот, – это он усвоил безупречно.








