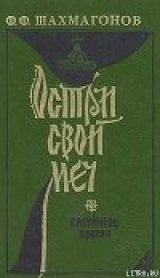
Текст книги "Твой час настал!"
Автор книги: Федор Шахмагонов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 29 страниц)
В шатре у Сапеги сошлись воеводы польского войска. Явился и пан Лисовский с перевязанной скулой. Он постанывал от боли, говорить не мог, в немой досаде ударял правой рукой о левую.
– На пороге морозы, – сказал Адам Вишневецкий. – В мерзлой земле подкопа не сделать. Услышат!
Сапега взорвался.
– Я не сниму осаду! Оставить победителями этих седых грайворонов? Грай их раздается на всю землю. Панове знают закон всякой войны. Тот, кто вторгся в чужую страну не имеет права потерпеть ни одного поражения. Оступить – это признать себя побежденными. Те города, что присягнули нашему царику, забудут о присяге и их придется вновь брать с боем, а на это у всей Речи Посполитой не хватит сил.
8
Возведение митрополита Филарета в патриархи всея Руси обозначило наивысший подъем в пользу тушинского Дмитрия. В дальних городах иные еще верили, что в Тушине сидит подлинный царь Дмитрий и приглядывались, кто из московских людей становится на его сторону. Присоединение к нему Филарета подтолкнуло к признанию тушинского Дмитрия, тех, кто еще колебался. Многим уже казалось, что спор за царство между Шуйским и тушинским Дмитрием близок к завершению. Москва в осаде. Города Северы, южные города, северные – Псков, Ярославль, Вологда, Суздаль, Владимир сняли крестное целование Шуйскому и передались тушинскому Дмитрию. Скопин удерживал Новгород, стоял за Шуйского Смоленск. Рязанская земля не признавала ни Шуйского, ни тушинского Дмитрия. Рязанцы, вслед за жителями Москвы, называли его Вором.
Гетман Рожинский считал, что идти на приступ Москвы бессмысленно. Стоило бы это огромных потерь, если бы и вообще не сгорело бы все польское воинство вместе с деревянным городом. И у Рожинского и у других польских военачальников укоренилось в сознании, что Москва и без штурма сама вскоре падет.
Из Москвы, по-прежнему, что ни день являлись перебежчики: бояре, дворяне, служилые и иной московский люд. Иные умудрялись служить и тушинскому Дмитрию и Василию Шуйскому. Урывали и с той и другой стороны, что урвать удавалось. Иные действовали похитрее. Сын служил тушинскому царику, отец – Шуйскому, или наоборот. Дело становилось семейным. Кто бы не победил, семья при деле и не в опале.
Когда началась осада Троицы, мало кто думал, что монастырь устоит. Да и, казалось, что могло изменить противостояние польским находникам одного монастыря, когда почти вся русская земля оказалась под поляками и тушинским Вором?
Покусившись на Сергиеву обитель, начиная ее осаду, ни Ян Сапега, ни его сотоварищи не понимали на что они подняли меч, а когда начали понимать, что значит эта святыня для русских людей, уже было поздно что-либо поправить.У русских людей начинало пробуждаться сознание, что покорность тушинскому Вору и полякам подла и греховна. Не ради Шуйского поднимался у русских людей протест, а ради православной веры.
Богданка, получив грамоту из рук посланного в Тушино от Симонетты, укрепился в мысли, что сядят на престоле Московского государства. Но он уже не был столь наивен, как в тот час, когда в Пропойске старик раввин внушал, что Бог избрал его, Богданку, для невероятного промысла овладеть царским престолом. Уверовав, что все свершается по воле Иеговы, Богданка счел себя в праве, если не сомневаться в Божьей воле, то хотя бы оглядеться, какие силы ведут его на московский престол. Рожинский и иные паны– всего лишь исполнители более могущественной силы. Так кто же из земных неоспоримых владык стоит за этими исполнителями? Польский король? О, нет! Польский король сам зарится на московский трон. Кто-то наделенный властью отставил короля в сторону, так же, как и в деле мятежа в Польше, когда царь Дмитрий готовил поход, чтобы объединить Польшу и Московию в противостоянии исламу.
Тут-то и загадка!
Казалось бы тут же и отгадка: объединение Московии и Речи Посполитой под короной короля Сигизмунда. Ныне, сидючи в Тушино, узрел он отгадку. Едва король вступил бы на русскую землю, как угасла бы рознь между русскими людьми перед вражеским вторжением. А еще и того проще. Король, быть может, и дерзнул бы идти войной на Московию, но тот же мудрый не дал ему ссуды на сбор войска. Божеское – Господу, людское – людям. Люди предполагают, Господь располагает. Утешится сей истиной и ждать исполнения Господней воли? Она проявлена. Он приведен к воротам Москвы. Но простит ли Господь бездействие? Объединились две силы, обе столь же могущественные, сколь и враждебные: римская церковь и поклоняющиеся Иегове, и подставили его, всего лишь былинку, вырванную из земли, поросшей сорняком, чтобы достичь одной цели – сокрушить Московию.
Для одних – это вожделенное сокрушение православия и обретение новой паствы, поредевшей после победы Реформации, для других – сокрушение христианства на русской земле, ради торжества Иеговы и обретение тех земель, которыми когда –то на недолгий срок овладели хазары, приобщенные к иудейской вере. Разрушение Московии объединенными силами, а когда она будет разрушена, король без усилий присоединит к польской короне царский венец и обширные земли к Речи Посполитой. А что же останется Иегове? Что же окажется приобретенным на иудейские деньги?
Прозрение приходит внезапно. Грамота, что прислана Симонеттой – всего лишь обман, вымогательство иудейских денег, ради целей римской церкви и захвата Московии польским королем. Не для того ревнивый иудейский Бог привел его, сына иудейского племени, к воротам Москвы, чтобы отдать ее польскому королю. Нет! Не быть тому! Именем царя Дмитрия пришло чужое воинство к Москве. Не пришла ли пора стать царем, а не только им казаться!
Богданка призвал к себе Марину и Филарета. Рожинского не позвал. Он решил связать Марину и Филарета, а себя поставить между ними.
– Позвал я тебя, государыня. И тебя, наш отец, патриарх, чтобы прочитать вам челобитную от наших людишек. Не первая и не последняя.
– «Царю, государю, и великому князю Дмитрию Ивановичу всея Руси, бьют челом и кляняются сироты твои государевы, бедные, ограбленые и погорелые крестьянишки. Погибли мы, разорены от твоих ратных воинских людей, лошади, коровы и всякая животина побрана, а мы сами жжены и мучены, дворишки наши все выжжены, а что было хлеба разного, и тот сгорел, а достальный хлеб твои загонные люди вымолотили и увезли. Мы сироты твои, теперь скитаемся между дворов, пить и есть нечего, помираем с женишками голодною смертью, да на нас же просят твои сотенные деньги и панский корм. Стоим в деньгах на правеже, а денег нам взять негде...»
Марина протянула руку. Богданка передал ей челобитную. Марина взглянула на грамоту и пожала плечами.
– Не крестьянишки сие писали, а кто-то за них старался. Их сожгли, у них отняли хлеб, а они царя челобитными донимают, будто в Тушине стоят амбары с хлебом для них. Наши холопы в Польше короля челобитными не донимают. Все с голода не помрут...
– Не все помрут, – согласился Богданка. – А вот те, кто не помрет, возьмут в руки оружие и дреколье и пойдут бить польских ратных людей. А их многое множество, вот этаких челобитчиков. Не столь горько, что они от меня отвернутся, а беда, что и тебя государыня за одно с польскими людьми повяжут. И у короля не сыщется воинства, чтобы одолеть русских людей. Сколь славен рыцарскими подвигами пан Сапега, а вот уже скоро полгода, как монастыря не может взять ни приступом, ни осадой. Монастырь – не город. А если города затворятся, да на дорогах ни пешему, ни конному польскому человеку не пройти, ни проехать?
Марина с презрением взглянула на Богданку, с усмешкой сказала:
– Не мнишь ли ты себя подлинным государем, решаясь осуждать польское рыцарство?
– Именем всклепанным на меня пришло польское рыцарство к Москве, и если отнять это имя, то долго ли оно продержится у ворот Москвы? Ты государыня, ты царица Московская, но своей Московии не знаешь. Я позвал патриарха на нашу беседу, был он близок к московским государям, Я хочу, его спросить, отдадут ли тебе русские люди трон, если польские люди будут грабить, жечь и насиловать их? И крыса, если ее поджечь, бросится на человека.
– Готова ли, государыня, услышать мой голос? – отозвался Филарет.
– Если твой голос не будет холопьем плачем.
– Не холоп я, государыня. И не холопьего рода, и не из разорившихся польских княжат мой род. Не крысой загнанной в угол оказал себя Сергиев монастырь. Не с крысой сравнивать русского человек, а с медведем. Медведь спит в берлоге, а поди стронь его. Знамо, что медведь и охотник разом оба погибали. Медведя на рогатину взяли, а он успевал охотнику снести голову. Думаешь царствовать, государыня, пора бы унять польскую вольницу.
– Есть у меня еще одно письмецо, – вмешался Богданка. – Все читать не стану, прочту о том, что из себя являет польский пан. Пишут в челобитной: «стоит у меня в деревне пристав твой государев, пан Мошницкий. Насильством взял у меня сынишка моего к себе в табора, а сам каждую ночь приезжает ко мне, меня из дворишка выбивает, хлеба не дает, а невестку у себя в постели насильством держит. Государь смилуйся!» А я говорю: государыня смилуйся! Смилуйся над своими подданными, защити их от польского разбоя!
Марина раздраженно ответила:
– Что ты хочешь, государь без государства и без царского венчания? Что ты хочешь, патриарх, поставленный волей не венчанного царя и без согласия вселенских патриархов? Что вы хотите? Чтобы я отказалась от польского рыцарства? А что взамен? Мужичье, которое тут же растерзает Шуйский? В Московии война одних русских людей против других русских людей. На войне всегда грабят и насилуют. Не к тебе, названному Дмитрием слать челобитчикам свои челобитья, а к царю Шуйскому. Терпят клятвопреступника и убийцу, того и заслужили перед Богом, за свои грехи и попустительства грехам.
– Челобитчики не будут бить челом Шуйскому. От него отвернулись, отвернувшись от нас, куда им податься? С топором пойдут на нас. Государыня, пора тебе оказать себя царицей, а не только ею называться. Или ты возьмешь власть, или явится на московский трон король.
– Отказаться от польского воинства?
– Я этого не сказал. Уйми это воинство, не уймешь, уймут его русские люди. То грядет!
9
Власть пора было употребить. Пора было остановить одичание, охватившее русских людей, да власти не оказалось ни у царя Василия Шуйского, ни у патриарха Гермогена в Москве, ни у тушинского Дмитрия, ни у царицы Московской Марины. Польским находникам Роману Рожинскому и Яну Сапеге и их сотоварищам безвластие в радость.
Всплыли на поверхность жестокость, алчность, подлость, жажда убивать и жить, не сея, а пожиная посевы, сеяные чужими руками. Преступив законы человеческого бытия, множество людей спешили воспользоваться обретенной свободой от страха перед Господним наказанием, от угрызений совести, от чести и разума. Грабительство растекалось по замосковным городам, достигая Вологды, Устюжны, Соль-Вычегодска, Белоозерья, берегов Волги. В города, в посады, в села, в деревни, в починки, на погосты наезжали поляки и гультящие, брали, если находилось что брать, что можно было унести, а то, что унести было невозможно, сжигали. Забирались в лесную глушь в поисках укрывающихся от грабежей.
Пропал бы, сгинул бы в бездну русский человек, если бы не сохранились бы в народной памяти бедствия татарщины, захоронившиеся в сознании на сотни лет. В грозный час новых бедствий ожила память и указала,что не дожидаясь милости от царей, осталось упования только на Бога и на себя.
Сколько бы не нажито, поскорбев над потерей созданного трудами дедов, отцов своими руками, оставляли жилища, уходили в леса в одиночку, семьями, с малыми детьми и стариками. Скрывались в непроходимых лесных урочищах, а кто имел силу в руках сбивались в ватаги и били на лесных дорогах поляков и гультящих.
За людьми, укрывшимися в лесах, поляки охотились с собаками. Но времена менялись. Уже охотились и за охотниками. Поляки, гультящие и запорожские казаки, страшась расплаты, спешили уничтожить тех, от кого могла придти расплата.
Среди грабителей и убийц сыскался такой, что превзошел всех остальных.
Атаман Наливайко из воинства пана Лисовского. Пришел он в Московию с запорожскими казаками. Не брезговал брать в свою ватагу всякого привыкшего к разбою. Слава о его жестокости ходила по Владимирской земле.
В город, в село, в деревню, в починки его ватага входила под рокот барабанов. Известно было, что на барабанах была натянута человеческая кожа, а тем, кто об этом не ведал, тому не затруднялись пояснить. Когда Наливайко входил в село, прежде всего перекрывали из села входы и выходы. Атаман скакал со своими ближними к церкви. Тогда было трудно найти церковь, которую не ограбили бы поляки. Наливайко разрушал церковь до тла. Если находили в церкви или у кого-то в избе иконы, их выносили на улицу и укладывали перед церковной папертью рядами. Наливайко, проезжая на коне, пробивал копьем головы святым, пророкам, Господа Иисуса Христа и Богоматери.
Горе было тем поселянам, что не успели бежать из села. Их сгоняли к церкви и раздевали до гола. Мужиков ставили по одну сторону, баб, девок и девочек – по другую. Мужикам связывали руки и ноги. Наливайко подъезжал к мужикам и зычным голосом вопрошал:
– А теперь, православные, укажите, где спрятался ваш Бог и Спаситель? Не спасает? А я вам покажу сатанинские игрища!
Наливайко поднимал руку, то было знаком его людям. Его люди тут же набрасывались на баб, что помоложе, на девок и девочек. Насиловали на глазах их мужей и отцов, иных и до смерти. В то же время грабители шныряли по избам и хватали все, что оставалось до той поры не разграбленным. Что годилось в дело наваливали на возы, из остального складывали костры и поджигали. Деревянную церковь поджигали, а каменную изгаживали. Костер разгорался, начиналось последнее действо – пытки. Выпытавали огнем, где у кого захоронки.
К воеводе Вельяминову, что был поставлен во Владимире на воеводство Богданкой, пришли с челобитной все те, кем держалась власть в городе. Просили они воеводу бить челом царю Дмитрию ото всего владимирского людства, чтоб схватили Наливайку и избавили бы от его сатанизма. Вельяминов переслал челобитную в Тушино.
Богданка призвал к себе Филарета и Марину. Филарета просил провозгласить сатанисту анафему, а Марину своей царской волей казнить атамана. Марина, узнав что атаман не поляк, а казак, указала его схватить. Богданка послал во Владимир людей из своего конвоя. Наказал, что если кто-то попытается его отбить, то живым из рук не выпускать.
Воевода Вельяминов пошел на хитрость. Послал к Наливайке людей позвать его, якобы на облаву в городе. Наливайко живо откликнулся. В сопровождении самых отпетых головорезов прискакал к воеводиной избе. Вошел к Вельяминову в полной красе. Шубенка на собольем меху, шапка красного бархата, отороченная куньим мехом, на ногах сафьяновые сапоги. Едва он переступил порог, тут же на него навалились. В рот запихнули рушник, руки и ноги крепко появязали. Из избы вывалились стерльцы и открыли огонь из пищалей по людям Наливайки. Смелы были разбойнички в разбое, а от стрельцов разбежались. Не медля, запихнули атамана в мешок, мешок кинули на розвальни, и под бережением московских людей помчали из города.
Отбить Наливайку в пути не успели. Лисовский, узнав, что Наливайку увезли в Тушино, примчался к Сапеге, дабы вместе спасать атамана. Сапега тут же погнал вестовщиков в Тушино с грозным посланием царику, чтобы, не медля, освободил бы атамана.
Богданке загадка. Не успели Наливайку поставить на расспрос, а вот уже гневный окрик. Но пришло время оказать свою власть.
В тронном зале царь и царица. На лавках вдоль стен думные бояре, на патриаршем месте Филаретт.
Стрельцы ввели Наливайко.Руки связаны, на ногах путы. Ободрали его еще во Владимире, обрядили в посконные штаны, на плечи накинули драный зипушнико. Атаман потерял грозный вид. Нечесаная борода висела мочалкой.
– И этот жалкий сморчок объявил себя слугой сатаны? – воскликнул Филарет.
Наливайко ответил:
– То дело сатаны, кого ему брать в слуги, а кого холопом. Не тебе партиарх, холопу сатаны, рассуждать!
Богданка остановил Филарета, собравшегося отвечать, жестом руки.
– О сатане не будем говорить, мы об нем ничего не знаем. Ты, Наливайко вор и грабитель, а вовсе не слуга сатаны. Как вор и грабитель поставлен на суд царицы, а обвиняют тебя в напрасных смертоубийствах и в мучительствах невинных людей.
Наливайка тряхнул бороденкой и поднял глаза на Богданку. Богданка поежился под взглядом его серых водянистых глаз.
– Невинных, говоришь? Ныне у московитов нет невиновных, все виноватые, потому и стать им всем добычей сатаны. Кто у московитов сидит на престоле? Один, что засел в Москве, цареубийца и место ему в пекле у сатаны. Другой... О другом и говорить нескладно. Жидовин... То не в грех, а в смех! Говоришь, что я вор и грабитель. В чем я своровал? Людишек московских примучивал, так того они сами достигли. Мучил, насиловал, но каждый раз прежде заставлял их молиться, чтоб Господь оборонил их от моих сатанинских забав. Молились, да Бог отвернулся от них.. Как же теперь думать? Думать, что Бога нет? Если Бога нет, то нет и сатаны. Тогда каждый себе Бог и сатана. Тогда и убить не в грех, и помучить не в грех!
– Есть, по твоему, Бог или нет? – не выдержал патриарх.
– Не тебе бы спрашивать, это мне тебя спросить бы! А тебя спросить бы, когда трупик отрока зарезанного Шуйским для обмана изымал в Угличе из могилы, кому ты тогда служил? Богу или сатане?
Вмешался Богданка.
– Разговорился ты не по спросу. Мы тебя за грабежи и убийства судим, а не за сатану.
– Отвечу! Отчего это молитвы тех, кто от моей руки погибал до Бога не доходили? А потому не доходили, что они от Бога отвернулись и сами себя отдали сатане. Развязывайте мне руки и ноги, одежонку я без вас справлю, а я пойду творить свое дело.
Богданка собрался было отвечать, но его опередила Марина:
– Что вы тут разговорились не к месту о Боге. Властью, данной мне Богом, повелеваю казнить этого убивца лютой казнью!
Стрельцы подхватили под руки Наливайку и выволокли прочь. Долго не канителились. Тут же перед царскими хоромами отрубили ему голову.
К Сапеге под Троицу прискакал гонец с грамотой от Богданки. В грамоте прописано: «Ясновельможный пан Ян-Петр Сапега! Ты делаешь не гораздо, что о таких ворах спрашиваешь? Тот вор Наливайко наших людей, которые нам великому государю служили, побил до смерти своими руками дворян и детей боярских и всяких людей, мужиков и женок 93 человека. И ты бы к нам вперед за таких воров не писал и нашей царской милости им не выпрашивал; мы того вора Наливайку за его воровство велели казнить. А ты б таких воров вперед взыскивал, сыскав, велел так же казнить, чтоб такие воры нашей Отчины не опустошали и христианской истинной крови не проливали».
Гонец к Сапеге только со двора выехал, Рожинский ворвался к Богданке, гремя саблей об пол. Не здороваясь и не чинясь, возвысил голос:
– Ты!.. Ты казнил Наливайку? Ты посмел казнить Наливайку? Он с первого дня с нами в походе. За него просили паны Сапега и Лисовский. Ты вообразил, что ты взаправду царь? Кто ты такой, чтобы казнить наших людей?
Богданка усмехнулся и позвал:
– Пойдем, гетман! Я тебе что-то покажу,
Привел Рожинского в то, что называли тронным залом, подвел к трону и предложил:
– Садись, гетман, садись князь на трон, коли посмеешь, не я тебя остановлю!
Рожинский задохнулся от ярости.
– На кого ты голос поднимаешь!
– Как не знать, кого я на трон зову? Садись на трон! Что же не садишься?
– Ян Сапега... – прорычал Рожинский, но Богданка оборвал его.
– Ян Сапега не может разорить гнездо черных вранов. Не может одолеть монастырь. Без меня, всех польских людей попятят с московской земли в одночасье. Иди, гетман, своей дорогой, а у меня своя. Тебе ли не знать, кем она предопределена?
Рожинский зарубил бы за такую дерзость любого, но в гневе его не покинул разум бывалого поединщика. Ему ли не знать, что ему никак нельзя остаться без этого царика?
10
Рожинский, Ян Сапега и пан Лисовский, а с ними все польское воинство пребывали в уверенности, что вот-вот падет Троицкий монастырь и Москва откроет им ворота. Не только у польских вождей, но и у польского воинства утвердилось мнение, что своей отвагой и умением в ратном деле они покорили Московию, потому не стесняли себя ни в грабежах, ни в поборах.
Примеряя русские обычаи и характер русских людей к польским порядкам, они не принимали во внимание ни противостояния русских татарскому игу, ни той закалки, которую получил русский характер в бедствиях несравнимых с испытаниями, выпадавшими европейским народам.
Богданка, надеясь установить хоть какой-либо порядок разослал по городам тарханные грамоты, освобождавшие присягнувшие ему города и уезды от всяких поборов, вне обычного тягла. Однако тут же начались поборы. Не успевали люди расплатиться с царской казной, как наезжали сборщики от Рожинского, от Сапеги, наезжал Лисовский, а еще польские волонтеры, сбивавшиеся в грабительские шайки.
Присягнувшим тушинскому Дмитрию такое ограбление и в воображении не являлось. Из Тушино шло полное разорение. Наливайку казнили, но каждый день появлялись новые Наливайки, не менее жестокие, хотя сатаны всуе не поминали. В Тушино везли челобитные, а челобитчики уже брались за оружие, не дожидаясь царского ответа, прибегали вестовщики из городов, что города снимают крестоцелование Дмитрию.
Под Троицкий монастырь приходили известия, что отряды, посланные собирать продовольствие, наталкиваются на сопротивление и гибнут в провальных лесах от мужиков и посадских. Сапега отрядил Лисовского усмирять мятежи. Лисовский метался от одного города к другому. С ним уже дерзали вступать в бой. Он рассеивал мятежников, но едва уходил к другому городу, они вновь собирались и на дорогах нападали на поляков. Земля разгоралась полымем под копытами польских налетов.
Сигизмунд уже не считал Московию способной к сопротивлению и готовился к походу, чтобы закрепить под своей короной покоренную Русь. Но шляхтичам было не по нраву нести военные расходы. Сейм не утвердил военные расходы, предпочитая, чтобы войну оплачивал кто-либо другой. Сигизмунд надеялся на субсидии папского престола, полагая, что если Рим субсидирует Рожинского, почему же тому же Риму не вложить эти деньги в королевский поход. О том, что папский престол субсидировал Рожинского не своими средствами, королю не дано было знать.
На королевские засылы о субсидиях Рим не отвечал. Волей неволей королю пришлось обратиться к папскому нунцию Симонетте. Сигизмунд переносил на него обиду на папу. Симонетте ждал часа, когда король сделает первый шаг к сближению. И дождался.
Король и королева, лукавая дочь лукавой королевы Марии Наваррской, пригласили Симонетте в Вавельский замок на семейный обед. Симонетте очень бы удивился королевской ласке, если бы секретарь короля, отец Барч, не делился бы с ним замыслами короля найти средства для похода в Московию.
Обед соответствовал сану гостя. Изысканные блюда, итальянские вина. Королева Констанция сама любезность и дружественность.
– Я потерял дорогого друга, – говорил король. – С Рангони мы были в согласии относительно интересов апостольской церкви в Московии. И мы равно были огорчены, когда предприятие с царем Дмитрием, благословленное папой, не оправдало надежд. Мы могли верить в его истинное царское происхождение, могли и не верить, то и другое имели равные основания. Огорчает отсутствие у него благодарности. Он обманул Римскую церковь и вознамерился поставить Речь Посполитую под московскую корону. Я не исключаю того, что в Риме нашлись сторонники столь несбыточного предприятия. Сначала он обманул меня, затем он обманул бы папу и разрушил бы апостольскую церковь в Речи Посполитой. Если уж говорить об объединении Речи Посполитой с Московией, то почему же не под польской короной? Если говорить о легитимности, то мое право на московский престол неоспоримо. Оно не чуть не меньшее любого царственного рода Московии. Я потомок великого Ольгерда, женатого на княжне из Рюрикова рода. Сегодня не впадают ли в Риме в еще более горькую ошибку? Московский престол предназначается проходимцу без роду и племени. Относительно первого Дмитрия могли быть сомнения, относительно сегодняшнего ни у кого сомнений нет. Он даже не шляхтич, а человек иудейской веры.
Симонетте поправил короля.
– Он крещен и является сыном апостольской церкви.
– Но не каждый же встречный имеет право на престол! – возмутился Сигизмунд.
– Да, он не имеет даже призрачных прав на престол. Но он не первый встречный. Искали того, кто мог бы сыграть предназначенную ему роль. Московиты захотели признать его царем, хотя мало кто сомневался, что он совсем не тот Дмитрий.
– Как захотели, так и расхотят. В Риме знают о моем праве на московский престол.
– Право вашего величества неоспоримо, но отстаивать его – это война!
Сигизмунд снисходительно улыбнулся.
– Война? С кем? Московское государство рассыпалось. Вам известно, что уже несколько раз московские бояре предлагали мне царский венец при польской короне. Они говорят, что поддерживают самозванца лишь для того, чтобы низложить с престола Шуйского. Мой поход не будет войной.
Симонетте решил облегчить королю переход к делу.
– Каким бы войско ни было, его снаряжение и поход требуют не малых средств. Я вижу, ваше высочество, что вы хотели бы найти в моем лице просителя субсидий в Риме.
– Браво! – воскрикнула королева. – Приятно иметь дело с умным человеком. Я начинаю верить, что посол папы Павла сумеет продолжить дело начатое Стефаном Баторием.
Симонетте опустил глаза. Не по скромности, а из-за неловкости смотреть на оголенные плечи королевы и излишне открытую грудь. Ему подумалось, что если бы королева оказалась в Риме, она имела бы успех у кардиналов. Он ответил:
– Продолжить дело Стефана Батория – удел его высочества. Не надо преувеличивать мою скромную роль. Я лично не вижу задачи более грандиозной, чем приобщение московских людей к апостольской вере. Уже много веков христианство страдает от раскола. Имя того, кто положит начало великой унии будет почитаться святым. Весь вопрос – пришел ли на это час?
– Король с твердостью ответил:
– Я вижу, что наш гость предпочитает иносказания прямому ответу. Речь Посполитая не готова к большой войне. О войне, как войне, я не посмел бы заговорить с папой. Речь идет о частном деле короля. Наша конституция во многом ограничивает власть короля, но в деле войны дает королю особое право. Я своей властью могу начать войну, не согласовывая ее начало с сеймом. Тогда военные расходы мое частное дело. Королевская казна пуста. Мятеж подорвал финансы страны. Я не знаю какие привести еще аргументы, чтобы папа субсидировал мой поход в Московию? Более подходящего часа мы не дождемся.
Король пришел в возбуждение. В нарушение этикета он встал из-за стола.
– Несколько веков усилий, надежд и неудач. И вот настал час! Московское государство сокрушено смутой. Медведь ранен. Ранен смертельно. Охотники стоят около него, и нет у них пороха в пороховницах, чтобы добить зверя. Кто-то в Риме смирился с тем, что на московский престол взойдет самозванец. Кардинал Боргезе может пожелать, чтобы мы считали нынешнего Дмитрия за того, который царствовал, но для московских людей пожелание кардинала Боргезе – ничто! Как только не станет царя Шуйского, они не дадут ему царствовать ни часа. Нашими руками мы уберем Шуйского, а они изберут царем своего боярина. Ни у Рожинского, ни у Сапеги не достанет сил им помешать. Мы стоим на пороге изменения судьбы всей Восточной Европы. Еще одно усилие нашего народа и родится государство, которое положит конец распространению ислама и вернет Константинополь в лоно апостольской церкви. Промедлив, мы вновь окажемся лицом к лицу с враждебной нам Московией.
– Браво, государь! – воскликнула Констанция. – Наш гость должен согласиться со столь неопровержимыми аргументами.
Симонетте ответил королеве:
– Ваше высочество может не сомневаться, что я подробнейше извещу Рим о нашей беседе.
Король вернулся к столу и уже более спокойно сказал:
– Не забудьте о шведах. Союз шведов и Шуйского прямая угроза Речи Посполитой. Нужно ли Риму усиление протестантов?
Прощаясь с королем, Симонете, завершая беседу, сказал:
– Итак, я не ошибусь, если извещу Рим, что ваше высочество, готовит поход на Москву?
– И ждет благословения папы!
11
Карательный поход Лисовского озарил пожарами замосковные города. Лисовский обставил дороги виселицами. Горели села. Жители убегали в леса. Запустели города. Не было тех жестокостей, которые не были бы употреблены поляками, литовцами и русскими гультящими для подавления восстания. Но едва лишь отряды Лисовского и других польских карателей, осыпаемые проклятиями, уходили в другой город, оживали пепелища, и всяк, кто способен был держать в руках какое-либо оружие, хотя бы цеп для молотьбы, сбивались в отряды и привечали на дорогах «лисовиков». Русские люди поднимались с колен. Ярость зажгла сердца людей по натуре излишне спокойных и терпеливых. Но ни Лисовский, ни Ян Сапега, ни Рожинский не хотели этого видеть, упоенные надеждой, что вот-вот падет Москва. Перелеты и изменники укрепляли в них эту надежду.
Богданка не был столь беспечен, как польские воеводы. После долгих сомнений и колебаний, поверив, что Господь избрал его для свершения великих дел, решил, что настало время действовать. Казнь Наливайки была всего лишь испытанием сопротивляемости польских панов. Взвились в обиде, гневались и отступились. Все польские вожди были теми же «наливайками», каждый в свою меру. Тех русских людей, коих притягивало к Тушину имя царя Дмитрия, польские воеводы, не думая о последствиях, отталкивали. Начиная свой поход из Пропойска и Стародуба, Богданка был далек от понимания ратных дел, хотя и был начитан о военных походах древних греков и римлян, куда больше, чем любой польский воевода. Как урядить полки, как их расставить в битве и до се не знал, но уловил во время стояния в Тушино нечто более важное, чем расстановка полков. Догадлив был от природы, потому понял, что настрой войска более важен, чем то, как уряжено оно в полки.
В Тушинском лагере чуть не ежедневно происходили стычки русских и поляков. Но то еще полбеды. Беда пришла, когда начали откладываться от тушинцев города, что по собственной воле целовали крест, а ныне готовы терпеть Шуйского. На лесных дорогах избивали поляков те люди, которые еще вчера были готовы идти против Шуйского. И уже доходили из Новгорода известия, что собирается оттуда гроза. К молодому воеводе Скопину стекались со всех городов люди. Что-то надо было предпринять решительное, а польские военачальники все еще надеялись на свои силы, собирались взять Москву осадой. Зимние дороги перехватить способнее, чем летние. Рожинский перехватил подвоз к Москве из Рязанской земли, Сапега под Троицей отрезал Москву от Суздальской земли. В Москве наступила дороговизна.








