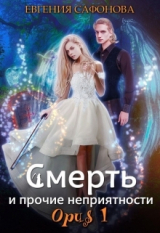
Текст книги "Смерть и прочие неприятности. Орus 1 (СИ)"
Автор книги: Евгения Сафонова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
ГЛАВА 11
Idée fixe
Idée fixe – буквально «навязчивая идея»: термин, связанный прежде всего с симфонической музыкой Г. Берлиоза и обозначающий присутствие в произведении сквозной темы, ассоциирующейся с внемузыкальными понятиями – например, тема возлюбленной в Фантастической симфонии (муз.)
– Такой шум подняли из-за маленькой шутки, – беззаботно заметил демон, когда вечером они собрались в гостиной, а он наконец соизволил проявиться из воздуха. – Вы бы видели свои лица…
– А советовать мне сфотографировать проход в Потусторонье, чтобы у меня сгорел телефон – тоже, по-твоему, смешно? – открыв футляр с Дерозе, Ева сосредоточенно собирала разрозненные деревянные осколки, складывая их на полу, как паззл. – И не говори, что ты не знал об уничтоженных картах. Ты у нас вроде знаешь всё.
В лесу демон так и не соизволил показаться, и остаток дня прошёл в учёбе и первой после примирения с Гербертом тренировке: на которой Ева, мечтая поскорее получить в руки воскрешённого Дерозе, вела себя паинькой. Усилия были вознаграждены – по окончании урока с Эльеном, на котором Ева изучила историю родов Тибель и Рейоль, некромант соизволил лично заглянуть в её комнату и, велев следовать за ним, препроводил в гостиную, где сейчас они и находились. Теперь Ева собирала разбитую виолончель (дабы точно не ошибиться, какой кусок с каким склеивать), Герберт ждал окончания процесса, сидя в кресле перед камином с – внезапно – резным бокалом чего-то высокоградусного, а Мэт наблюдал за ними, зависнув над каминной полкой.
– Я просто подтолкнул тебя к потаканию своим желаниям, златовласка. Этим демоны обычно и занимаются. Неужели ты не злилась, когда наш мальчик подрезал тебе крылья?
– Нет. Потому что вы оба ещё раз успешно доказали: кнут порой полезнее пряника, а последний вполне могут подсунуть и отравленным. – Собрав верхнюю деку, Ева удовлетворённо кивнула. – Твой совет по поводу подзарядки телефона из того же разряда?
– Проверь, если сомневаешься. Твой телефон всё равно почти уже принадлежит гному. А о том, что ты отдашь ему свою игрушку в рабочем состоянии, вы не договаривались.
– Проверю. Может быть. В другой раз.
В гостиной, расположенной неподалёку от библиотеки, Ева оказалась впервые, и не могла не признать, что здесь довольно уютно. Небольшая комната была исполнена в бежево-голубых тонах, изящную мебель украшали серебристые завитушки, кресла вокруг низкого чайного столика обили золотистым шёлком; а сидеть на пушистом синем ковре было куда удобнее, чем на том, что положили в её комнате.
– Для чего тебе нужен этот маленький штык? – спросил Герберт неожиданно.
Удивлённо вскинув голову, Ева проследила за его взглядом.
Осознав, что речь о лежащем подле футляра шпиле, прищурилась.
– Подожди, я не ослышалась? – театральным жестом она приставила ладонь к уху. – Ты правда хочешь услышать меня? Поговорить со мной? Сам, о чём-то кроме дела?
Некромант ответить на шпильку не соизволил, в упор созерцая её льдистым взглядом, – и Ева, хмыкнув, взяла в пальцы металлическую деталь.
– Это шпиль. Виолончелисту без него никак, ведь самооборона – святое, – снимая резиновый наконечник и демонстрируя Герберту блестящее железное острие, очень серьёзно проговорила девушка. – У нас нет волшебных смычков, так что от врагов приходится защищаться другими средствами. Скрипачи и альтисты легко могут отбиться метким ударом футляра по голове оппонента. Виолончели и контрабасы, увы, более громоздкие. Вот и обходимся шпилем.
Некромант воззрился на серебристый штырь почти с уважением:
– Ваш мир настолько опасен? Или в нём так не любят музыкантов?
– Конечно, не любят. Лично меня от игры плохих музыкантов регулярно посещает чувство, что кровь вот-вот польётся из ушей. Можно не ходить на концерты, но на улице от них не спрячешься, а люди часто переносят недостатки отдельных представителей профессии на всю профессию. – Ева непринуждённо подкинула шпиль на ладони. – Впрочем, конкуренты куда опаснее простых обывателей. Мир музыки суров: либо ты, либо тебя.
Пару секунд Герберт всматривался в её абсолютно честное лицо.
Перевёл взгляд на демона, невинно насвистывавшего какой-то незатейливый мотивчик, пряча ухмылку.
– Что-то мне подсказывает, что ты меня обманываешь, – поднеся бокал к губам, бесстрастно заметил некромант.
– Ты прав. Я шучу. Шпиль нужен, чтобы сверлить дырки в паркете.
– И снова лжёшь.
– Ладно, ладно. Он нужен для опоры инструмента во время игры. Дырки – уже следствие.
– Вот это больше похоже на правду. – Глотнув янтарного напитка и отставив бокал на стол, Герберт кивнул на собранную деку. – Ты закончила с этим?
Подозревая подвох, Ева помедлила, прежде чем кивнуть.
Поднявшись с кресла, некромант подошёл к ней. Опустившись на колени подле деки, расправил ладонь; Ева затаила дыхание, когда крупные щепки озарило голубое сияние – под этим светом осколки сами собой плотно прильнули друг к другу, а трещины на глазах начали исчезать.
– Это было несложно, – сухо сказал некромант, когда рука его перестала светиться, а на ковре оказалась целёхонькая дека.
Пока Ева благоговейно скользила кончиками пальцев по дереву, ощупывая исцелённую часть инструмента, Герберт уже вернулся в кресло.
– Я думала, ты склеишь всего пару кусков, – тихо сказала девушка, уверившись, что от трещин не осталось и следа.
– Считай это подарком в честь нашего примирения. Или наградой за смекалку. Оставь всё здесь, где лежит, – добавил некромант, когда Ева потянулась убрать выложенные на пол осколки в футляр. – Никто их не тронет, а лишний раз перемещать их туда-сюда ни к чему. Будем просто приходить сюда каждый вечер.
Ева помолчала, обводя пальцами завиток эфы на спасённом «лице» Дерозе.
Вспоминая сегодняшний урок с Эльеном.
– Я изучила историю твоего рода. И Тибелей, и Рейолей, – произнесла она осторожно. – Значит, первым королём правящей династии был тот самый некромант Берндетт?
«Он положил основание династии Тибелей, – вещал призрак какой-то час назад, – объединив народ Керфи и свергнув иноземных захватчиков. Ведь после того, что он сделал…»
На этом месте Эльен осёкся – и Ева, сидевшая на кровати, скрупулёзно делая пометки в нотную тетрадь (чужие рассказы лучше всего запоминались ей при конспектировании), навострила ушки:
«Что такое?»
«Я… простите, лиоретта, – призрак растерянно повёл рукой. – Не будем вдаваться в эту тему. О деянии Берндетта вам лучше спросить господина. Если он сочтёт нужным, то расскажет сам».
«Но почему вы…»
«Мне не слишком легко об этом говорить. Это успело стать… личным. Боюсь, я могу сболтнуть лишнего. – Её призрачный учитель непреклонно захлопнул книгу с родовым древом Тибелей, которую держал на коленях. – Продолжим с момента коронации Берндетта. Вскоре после восхождения на трон он женился на представительнице великого дома Ирн, и…»
– Эльен обмолвился, что Берндетт совершил некое великое деяние. После которого весь народ Керфи пошёл за ним. А потом свернул разговор и сказал, что об этом деянии лучше спросить у тебя, – проговорила Ева, когда Герберт молча кивнул. – Может, поведаешь, что такого великого совершил твой предок и почему твой дворецкий опасается об этом говорить?
Герберт не ответил. Лишь качнул бокалом, заставив плавленый янтарь напитка лизнуть хрустальные стенки.
Зато вместо него ответил Мэт.
– Народ Керфи пошёл за Берндеттом Тибелем, когда узрел, как тот призвал в своё тело Великого Жнеца, – распевая слова, точно мурлыкая весёлую песенку, откликнулся он. – И наш мальчик намерен это повторить.
Ева во все глаза уставилась на Герберта: отреагировавшего на кляузничество демона разве что ещё одним глотком из бокала, искрившегося резными гранями в отблесках плясавшего на поленьях огня.
Наверное, будь она жива, следующие слова вышли бы со взволнованным придыханием.
– Ты что, правда собираешься призвать… бога? Настоящего?
– Сильный некромант может это сделать. Призвать Жнеца. Стать его аватаром, – буднично откликнулся некромант. – На пару минут, не дольше. Но и этого хватит, чтобы войти в века. Чтобы все уверились: ты отмечен особым благословением величайшего из богов, и равному тебе среди живущих нет.
– Что является истинной правдой, ибо предприятие донельзя опасное, – поддакнул Мэт. – После Берндетта многие пытались его повторить, но никому не удалось. А неудача, увы, прискорбно часто влекла за собой летальный исход. Но наш малыш уверен, что ему всё удастся. – Лицо под золотыми кудряшками сделалось странно, до жути сочувственным. – В конце концов, исключительно для того его и растили, верно?
Герберт наконец поднял взгляд, устремлённый на огонь, посмотрев на демона поверх бокала.
Предостерегающе.
– Замолчи, – спокойно сказал он.
– Славный господин Рейоль, так гордившийся необычайным даром сына, – мечтательно пропел демон. – Уже третий некромант из Рейолей, даже магистром стать не сумевший. Он так жаждал вернуть белое величие своему дому, так хотел прославить своё имя… и в качестве будущего главы рода видел исключительно нового Берндетта. Никак не очередное ничтожество, коим был сам. И маленький Уэрти думал, что это нормально: когда отец порет тебя за каждый крошечный промах, когда любимый родитель видит в тебе лишь инструмент воплощения собственных амбиций…
– Замолчи, – уже далеко не так спокойно повторил Герберт.
– …когда ты растёшь в убеждении, что магия – единственный смысл твоего существования, что ты обязан стать великим – или твоя жизнь не стоит и гроша, ибо если твой дорогой папочка зачал тупоумного бездаря, лучше было бы придушить тебя сразу после рождения…
– Замолчи. Немедленно. – Это некромант уже почти прошипел. – Или я расторгаю контракт.
– На каком основании? – вкрадчивая улыбка демона чужеродно смотрелась на лице, прямо-таки воплощавшем оскорблённую невинность. – О, я причиняю тебе душевные страдания? Прости, малыш, никак не думал, что это так тебя заденет. Я ведь просто констатировал факты, знаешь ли.
Скупым жестом Герберт поднёс бокал ко рту. И даже, похоже, умудрился сделать глоток: хотя Ева и не знала, как это возможно осуществить при сжатых в нитку губах. Как не знала – вернее, не думала – что сможет испытать к венценосному снобу настолько острый приступ сочувствия.
И что между ними однажды найдётся нечто общее.
– Ты же знаешь, что это неправда, Герберт, – произнесла она. Очень мягко. Слегка неожиданно даже для самой себя. – Ты ценен сам по себе, ты…
– Мне не нужна твоя жалость. – Рука с бокалом метнулась в сторону так резко, что заключенный в хрустале напиток, всплеснувшись, парой капель пролился на ковёр. – Мой отец был прав. Без моей магии, без моего дара я – ничто. Один из миллиона тех, кто обречён на забвение. И я не собираюсь присоединяться к ним. – Герберт, щурясь, неотрывно смотрел на неё; под этим колючим взглядом Еве захотелось опустить глаза, но она не опустила. – Я прославлю имя Рейолей. Я обессмерчу себя и тех, кто в меня верил. Я войду в историю. В конце концов, одно великое деяния я уже совершил. – Криво улыбнувшись, некромант вновь пригубил спиртное. – Я создал тебя. Разве ты, моё творение… разве ты не прекрасна?
Его взгляд и правда был почти любовным. Да только романтики в этом не было ни капли. Так коллекционер любуется одним из экземпляров своей коллекции.
Например, мёртвой бабочкой, бережно распятой под стеклом.
– Если кто меня и создал, то это не ты. Но я благодарна, что твоими усилиями сейчас мыслю и разговариваю, – негромко сказала Ева. – И ты – это ты. Не твоя магия. Не то, чем ты занимаешься. Пусть люди часто об этом забывают… особенно подобные тебе. Одержимые своим делом. Зачастую они и правда обречены стать великим, и это здорово…
Перед глазами встало лицо брата, дрожащей рукой сжимающего бесполезный смычок. В который раз пытающегося извлечь из скрипки своё прежнее «ля»: уверенное и чистое, как вода горного ручья.
Лицо, отмеченное печатью терминальной стадии отчаяния, несовместимого с жизнью.
– …но я не считаю, что это нормально, – закончила она.
– Ты-то что об этом знаешь?
Какое-то время Ева смотрела на его пальцы, лежащие на резном подлокотнике кресла.
Ей вдруг пришло в голову, что во всей окружающей обстановке чувствуется женская рука. Вполне возможно, это была любимая гостиная матери Герберта. И здесь наследник Рейолей виделся с ней… в те редкие часы, которые она не тратила на светскую жизнь. А, может, и во время очередного великосветского сборища, что здесь проводили.
Даже при живых родителях ты можешь чувствовать себя сиротой. Одиноким, не нужным, произведённым на свет вследствие ошибки в небесной канцелярии.
Она это знала лучше кого бы то ни было.
– Нас у родителей было трое. Я, моя сестра и мой брат. И все трое были музыкантами. – Она не стала вдаваться в подробности в духе «Динка пианисткой, Лёшка скрипачом». Сейчас это было не слишком важно, и кто знает, существовали ли в Керфи подобные инструменты и профессии. – Но только я получилась случайно. Родители планировали двоих детей, мальчика и девочку. Я родилась третьей и была лишней. И чувствовала себя лишней.
Она сама не знала, зачем всё это говорит. Зачем пытается в чём-то убедить того, к кому даже симпатии особой не испытывала. Наверное, это просто естественное свойство струн человеческой души: резонировать в ответ на знакомую боль, пытаясь её умерить. Делиться опытом, давшимся дорогой ценой. И даже странно, что говорить с ним об этом было легко. Удивительно легко для разговора с человеком, тебе далеко не близким.
Хотя, возможно, в этом-то всё и дело… эффект попутчика в поезде. Чужого человека, с которым вы вскоре расстанетесь навсегда; а потому можно поделиться с ним своими секретами, не опасаясь, что это выйдет тебе боком. Ведь в том, что они с Гербертом расстанутся, и довольно скоро, Ева была абсолютно уверена.
С близкими она как раз об этом не говорила. Никогда.
Поэтому теперь оно очень просилось быть выговоренным.
– Все надежды возлагались на них. На старших. Всё время уделяли им. Мама сама закончила музыкальную школу, но музыкантом так и не стала. Предпочла получить нормальную профессию, чтобы зарабатывать нормальные деньги и обеспечить себе нормальную жизнь. Потом захотела, чтобы дети воплотили её несбывшиеся мечты. Мои брат и сестра были гениями, а я… так себе. Середнячок. Из всех троих только меня в музыку не толкали, я захотела заниматься сама. – Ева сцепила ладони в замок, ощущая неизменную тихую печаль, сопровождавшую память об их разбитом трио, родившуюся из умершей уже боли. – И по-настоящему на меня обратили внимание лишь тогда, когда вместо трёх детей-музыкантов в семье остался один.
Печаль дрожала в сердце надорванной струной. Dolce, sotto voce[1]1
Dolce – нежно, sotto voce – вполголоса (муз.)
[Закрыть]. Почему-то вспомнились уроки сольфеджио с репетитором в седьмом классе школы, те, на которых Ева всё же развила себе абсолютный слух. Или дремавший: кто-то говорил, что развить его невозможно, можно только пробудить. Часами, бесконечными упражнениями, титаническими усилиями.
Вплоть до выпускного экзамена младшая Нельская ни разу не получала за музыкальный диктант ничего выше четвёрки. Динка с Лёшкой, треклятые «абсолютники», приносили неизменные пятёрки с первого класса. Они просто сразу определяли высоту любого берущегося звука, и когда учительница играла мелодию диктанта на стареньком разбитом рояле, им оставалось лишь успеть её записать и определиться с правильной нотацией. Но то, что почти ничего не стоило им, Еве давалось потом и кровью.
И вокруг могли сколько угодно твердить, что абсолютный слух для хорошего музыканта совсем необязателен. У родителей было другое мнение.
– Предыдущие попаданки рассказывали о машинах? – помолчав, но так и не дождавшись реакции от Герберта, спросила она. – Тех, которые автомобили?
Тот склонил голову даже как-то пренебрежительно:
– Железные повозки? Конечно.
Девушка покосилась на Мэта. Демон следил за разговором так тихо, что вполне можно было позабыть о его присутствии. Кажется, даже поблек и выцвел немного – так, чтобы сливаться с лежавшей над камином тенью.
– Так вот однажды мы ехали на машине в магазин. Папа и мы трое. И в нашу машину въехал грузовик. – Ева прикрыла глаза: даже сейчас, шесть лет спустя. – Это… очень большая машина. От нашей в итоге не осталось ничего целого.
Грузовик занесло на снегу. Их изящный французский хэтчбек от столкновения просто сложился в гармошку, зажатую между кузовом взбесившейся махины и разделительным ограждением. А Ева была уже достаточно взрослой, чтобы всё прекрасно осознавать. И даже сейчас прекрасно помнить те мгновения, замороженные неверием и ужасом. Вернее, ужас пришёл потом, вместе с болью; а тогда, в первые моменты, был просто удар и скрежет, тянувшийся ту бесконечность, в которую разлились длившиеся после столкновения секунды.
И странно равнодушная, даже любопытная мысль, которая успела пронестись в голове, пока искорёженное железо не заключило её, живую, в металлический саркофаг.
«Я что, сейчас умру?..»
– Все говорили, это чудо: что никто не погиб, – голос её сделался отстранённым и далёким. Словно собственный рассказ она слушала со стороны. – Грузовик въехал в правый бок. Туда, где была моя сестра – впереди – и брат, на заднем сидении. Мы с папой находились с другой стороны, и пострадали сильно, но не настолько. А они… им в руки вставляли металлические спицы, им делали операции, но это не помогло. Их пальцы пострадали слишком сильно. Они больше не могли играть. Оба. И потеряли то, что было смыслом их жизни, неотрывной частью их самих. – В памяти в который раз всплыло то, что Ева так старалась забыть; пусть она давно приняла это, но вспоминать об этом всё равно было несладко. – Моя сестра нашла жизни другой смысл. Брат не смог. Он подсел на наркотики. И умер от передозировки год спустя.
Она вдруг поняла, что забылась. Забыла, кому всё это рассказывает. Что говорит больше для себя, чем для того, кто сидел в кресле напротив, глядя на неё с непривычной пристальной мягкостью. Словно тоже увидел то, что так отчётливо встало у неё перед глазами.
Лицо Лёшки, каким она видела его в последний раз. В гробу.
– Ты понял, что это значит?
– Не волнуйся, – откликнулся Герберт тихо. – В нашем мире тоже есть наркотики.
– Ему было всего пятнадцать. Четырнадцать на момент катастрофы. А сестре – семнадцать. – Отведя взгляд, Ева усмехнулась. – Вот тогда мама наконец вспомнила, что у неё есть ещё одна дочь. Взялась делать из меня то, чем должны были стать мои брат с сестрой. А я не могла. Они были виртуозами, они неизменно брали на конкурсах первые премии… Я – нет.
Без конкурсов построить карьеру исполнителя невероятно трудно. А техника, виртуозность, то, что на конкурсах обычно ценят превыше всего – это не было её сильной стороной. Ева раз за разом подбиралась к пьедесталу, но редко становилась первой. Зато на концертах срывала овации – потому что вкладывала в музыку душу. Все свои чувства, все свои светлые и горькие мысли; то, ради чего, казалось бы, и нужны живые исполнители, ведь чисто и бездушно пьесу с успехом исполнит механическое пианино. И получала похвалы – что в её игре слышна истинная неподдельная боль, настоящая доброта, мудрость состоявшегося взрослого человека…
Как часто после этого она с горечью думала, что даже этим обязана трагедии, отнявшей музыку у Динки, а Лёшку – у них обеих. Как часто, лёжа в постели, чувствуя на щеке призрачное жжение маминых пощёчин, думала: своих желаний стоит бояться. Ведь когда-то ей очень хотелось, чтобы с ней носились так же, как со старшими. Чтобы родителей волновало не только то, одета ли она, сыта и здорова. Чтобы их общение не сводилось к формальному вопросу за ужином «как прошёл день», ответ на который мало интересовал их на самом деле: стоило начать жаловаться на обидчиков в школе, на проваленную контрольную, на строгих учителей, как ты получала один неизменный ответ – «учись сама разбираться со своими проблемами». После чего папа уходил отдыхать после тяжёлого рабочего дня, а мама – заниматься с другими, желанными детьми, готовившимися к очередному концерту, зачёту, концерту…
Настоящей мамой Евы была как раз Динка. Понимающей, сочувствующей, выслушивающей, воспитывающей.
Но ей нельзя было жаловаться на то, что разъедало душу больше всего.
– Знаешь, порой я ненавидела всё это. Музыку, которую когда-то так любила. Музыку, которая убила моего брата. Бесконечные ожидания, которые на меня взвалили и которые я не могла оправдать. И думала – зачем мне всё это, если великим музыкантом я всё равно не стану, зачем мне жить, если… А потом поняла одну простую вещь. То, чего так и не понял мой брат. – Она медленно вскинула голову. – Я не обязана им становиться. Великим музыкантом. Я могу вообще бросить музыку, если она вконец мне осточертеет. Потому что я – это я, и я останусь личностью, даже если музыку у меня отнимут. Мир прекрасен. Жизнь прекрасна. В ней так много всего, что ни одна великая цель не затмит всё это. Никакие неудачи не стоят того, чтобы с этим расстаться.
Ответная усмешка некроманта была столь же саркастичной, сколь снисходительной. Но Еву это не задело.
– И что же в ней такого есть? К чему стремиться, если не к величию? Обрести любовь? Продолжить свой род? – он небрежно щёлкнул пальцами левой руки по отозвавшемуся звоном бокалу, который держал в правой: всем своим видом выражая презрение к подобной ерунде. – Совокупляться и размножаться прекрасно удаётся и животным. Людей боги создали для другого.
– Нет. Ты кидаешься в крайности. Я могу встретить хорошего парня и выйти за него замуж, если захочу. А могу остаться одна. И жить для себя. Если захочу. Любовь, дети – не цель. Ставить что-то во главу угла, зацикливаться на чём-то одном – неправильно. – Ева спокойно, с рассеянной лаской провела пальцем по деке Дерозе, по-прежнему лежавшей рядом. – По-моему, нужно в первую очередь жить и наслаждаться жизнью. Не забывать о том, сколько в ней граней. Сколько в ней хорошего. И истинное предназначение каждого – не родить детей, не остаться в веках… куда важнее понять, кто ты на самом деле. Чего на самом деле хочешь. Что на самом деле делает тебя счастливым. И быть собой, не изменять себе… если, конечно, твои заветным желанием не является залить мир кровью. Или что-нибудь в этом духе. – Поймав на себе взгляд Герберта, в котором внимание мешалось с недоумением, она чуть улыбнулась. – Мы слишком часто живём навязанной нам жизнью. Навязанными нам ценностями. Считаем своим счастьем то, что принято таковым считать, но на самом деле им не является. Ведь люди такие разные, что твои ценности могут кардинально отличаться от чужих. И это вовсе не значит, что твои правильные, а все другие – нет. Просто тебе они не подходят. А другим не подходят твои. Понимаешь?
Герберт поболтал бокалом, наблюдая, как его содержимое вихрится янтарным водоворотом.
Обдумывая всё услышанное.
– Это мышление неудачника, – вынес он вердикт. – Человека, который ищет оправдания тому, что так ничего и не добился.
– Может быть, – легко согласилась Ева. – Но неудачника, который не будет заниматься напрасным саморазрушением. Которое убило моего брата. Которым когда-то занималась я. Которым занимаешься ты.
Некромант долго молчал, глядя на огонь.
Мотнул головой, точно отгоняя некие непрошеные выводы.
– Мёртвая девочка учит меня жизни, – наконец изрёк он. Со смешком, прозвучавшим слегка неестественно: будто издавший его очень старается высмеять то, что на деле смешным не являлось. – Иронично.
Ева поднялась с пола, почему-то ощущая дикую, чудовищную усталость.
Не телом, душой.
– Да. Учу, – сказала она. – Потому что, может, ты и знаешь всё о смерти, но о жизни не знаешь ни черта.
Посмотрела на то место, где недавно был Мэт, бесследно растаявший в бежевой полутьме – и, не прощаясь, не закрывая дверь, вышла.
Оставив некроманта смотреть ей вслед: в проём гулкого замкового коридора, ещё долго перекатывавшего звонкое эхо её шагов.








