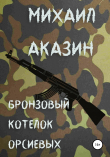Текст книги "Час двуликого"
Автор книги: Евгений Чебалин
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 38 страниц)
10
Спиридон Драч сидел на крыльце, вытянув ноги. Сбоку казалось, что ноги росли сами по себе из ноздреватой ракушечной стены. Напротив стояла такая же стена. Спиридону чудилось, что она наползает на него, в голове жгла, колобродила усталость.
Улица, мощенная булыжником, стекала вниз, к морю. Солнце, что изгалялось над Спиридоном целый день, выжимая из него пот, теперь ярилось где-то за стенами домов. Улица напиталась вечерней тенью. Драные флаги сохнущих простыней над нею тихо полоскал сквозняк – ущелье сдавалось нашествию ползучей нищеты.
Днем Драч искал работу, а к вечеру приходил и садился на порог. Это был чужой порог и чужой дом, они лишь на время приютили Драча и его семью. Спиридоновыми были в этой чужой стране лишь его жена Марьям и два сына. Покорными, обессиленными человеческими личинками они копошились сейчас за его спиной в серой толще камня. Ужина на сегодня не предвиделось. Не осталось денег уплатить за комнату, растаяла надежда, что они когда-нибудь появятся.
Спиридон услышал шипение. Скосил глаза. Бездомный бурый кот, горбом выгнув спину, жался к стене. Ему мешали шествовать дальше ноги Спиридона. Кот дергал клочкастой шкурой спины, злобно месил лапами.
Драч подогнул колени. Кот взвился пружиной, черканул воздух когтями, пошел мерить булыжник куцыми махами.
Спиридон смотрел вслед. Горбатая спина удалялась толчками, хвост мотался ершистой палкой. Спиридон прикрыл глаза. Стена опять поползла на него. Он прислушался. Где-то рядом дробилась турецкая речь, взвизгивал женский голос, шипели примусы, тек прогорклый чад оливкового масла. Непонятно и страшно оживала к вечеру чужбина. Она наваливалась и гнула Спиридона к порогу.
Он открыл глаза. Серая стена все так же стояла на пути. О нее тупо ломался взгляд. Будто никогда не было на свете полноводного разлива Терека, горячего трепета фазаньего подранка в руках и жгучей росяной мокрети на босых ногах поутру, будто не льнуло к груди родимое молодое тело Марьямки в серебряном разливе белолиственниц на тайных свиданиях, не кипело половодье свадьбы в чеченском ауле, будто не спаялись в кровном родстве казацкая фамилия Драчей с чеченским родом Ахушковых.
Прожег, проджигитовал по жизни казачий вахмистр Драч, жадно подхватывая на скаку все заманчивое, что попадалось на пути: росяные рыбалки на зоревом Тереке и призы за джигитовку, лычки за усердную службу и красавицу Марьямку. Надо было – рубил шашкой лозу на учениях, тянулся струной, ел глазами господ командиров; сеял и жал духовитую, ломкую в спелости рожь; плел вентеря и мастерил дуплянку-скворечник.
Но вот хищно загуляла, замела по России пороховая метель войны, а потом революции и снова войны, подхватила Драча горячим крылом, завертела в кровавой полковой круговерти.
Намахался он шашкой до одури, усох и закаменел сердцем в тоскливой неизбежности службы, а когда опомнился – вдруг выросла перед глазами вот эта серая стена, плюнь – влипнет плевок в ноздреватую ее твердь. И никак не понять до сих пор – какая же дьявольская нещадная сила зашвырнула его сюда, в Турцию, и чего Драчу от нее, трижды проклятой, надобно.
Он убегал от войны, а она размахнулась смрадным крылом на полмира. И здесь волокли на носилках по городу трупы, и тек по Константинополю тошнотворный дух мертвечины.
Мелькали под палящим небом фуражки, кокарды, погоны, хрумкали офицерские сапоги. И никому не было дела до мужицких разлапистых рук Драча, истосковавшихся по настоящей работе.
Вплелся в уличную звуковую сумятицу четкий цокот подковок. Приблизился, стих у самых ног Драча. Он поднял голову: рядом подрыгивал острой коленкой турецкий офицер – серо-зеленый френч, галифе и шелковая чалма. Стоял, жег Драча пронзительным, немигающим взглядом.
«Обойдешься, ваше благородие, перешагнешь», – тихо зверея, подумал Драч. Сполз задом с порога на теплый камень, пошире раздвинул ноги – перегородил улицу совсем. Турок ждал.
– Ну?! – тихо рыкнул Драч. – Чего пялишься, турецкая морда? Проходи.
У турка по лицу – пронзительная усмешка. Остановил правую коленку, задрыгал левой. Заложил руки за спину и утвердился на расставленных ногах; длинноногий, надменный – не прошибешь.
Они виделись не раз. Турок шастал мимо ежедневно: утром – вверх по улице, к казармам, шагистике, воющим чужим командам, вечером спускался обратно, – видимо, к жилью. Мерил, голенастый, булыжное ущельице между каменных стен истинным хозяином.
Драч подобрался при первой встрече, вытянул руки по швам – служивая въелась привычка. Турок, не сморгнув, не колыхнув чалмой, верблюдом прошествовал мимо. Сплюнул Драч вослед, обложил полушепотом, тая обиду: «Ну и... с тобой». Больше при встречах не тянулся, турок не видел в упор.
Теперь увидел.
– Проходи, говорю, от беды подальше! – рявкнул Драч, набухая, ярясь тоскливой злобой. – Мы вашим-то кобелькам-янычарам смочили курчавину на башке под Шипкой, забыли, как это делается, небось деды не пересказывали?
Трубно играл голосом Драч, цепко присматриваясь к острым коленкам турка; ей-ей, не сдержится офицерик – больно норовистый, захочет сапожком ткнуть, размахнется... а вот тут опередить надобно – коленки руками охватить, а потом головой в живот, так, чтобы чалма беленькая по булыжнику покатилась. Ах, как хотелось поволтузить холеной мордой турка по мостовой, вымещая на ней всю ярую горечь, удавкой захлестнувшую горло! А там семь бед – один ответ, потом хоть под расстрел.
Лезли из окон курчавые головы турчанок в папильотках – черноглазые, горбоносые, нависли гроздьями с балконов; вылезли из решетчатых загородок босые ноги.
– Вахмистр! Прекратить истерику! Встать! – придушенно, с металлом в голосе ожег командой Митцинский.
Драч вскочил, кинул руки по швам, оторопело моргая от русской речи.
– Марш домой! – сквозь зубы процедил Омар-хаджи.
Драч кочетом скакнул в сени, толкнул щелястую дверь. Омар-хаджи шагнул в сени, напирая грудью. В углу комнаты сбились в кучу перепуганные дети, Марьям. Митцинский кивнул:
– Салам алейкум.
Брезгливо сел на расшатанный табурет, приказал Драчу садиться.
Цепко, вприщур огляделся, стал ронять короткие, хлесткие вопросы:
– Вахмистр Драч?
– Так точно!
– Служили в полку Федякина у Деникина?
– Было дело, ваше благородие, – с усердием ревнул Драч, дивясь осведомленности офицера.
– Прожились, нищенствуете?
Судорогой повело лицо Драча:
– Чего уж скрывать... бедствуем не приведи бог, ваше благородие. Работы никакой не сыскать, хоть волком вой.
– Что умеете делать?
– Да боже ж мой... – жадно, с надеждой вскинулся Драч. – Казак – он к любому делу привычный, хучь шашкой махать, хучь быков запрягать.
– Приняли мусульманскую веру?
– Пришлось, ваше благородие... жизня, она как повернула, папаша только и отдал Марьямку за меня после принятия вашей веры.
– Детям сделали обрезание?
– Куда там... в России недосуг было, служба заедала, и здесь три шкуры за это дерут... мне вон второй день пацанов накормить нечем, тут не до чего, – скрипнул зубами Драч, до хруста отвернув шею – набухала в глазу предательская слеза.
– Могу предложить дело, связанное с риском. Семью обеспечим...
Глотал и не мог проглотить в горле тугой ком вахмистр:
– Да боже ж ты мой! За это – в самое пекло, ваше благородие... Если надо – жизни не пожалею, отдам с усердием, лишь бы они, родимые, нужду позабыли.
– Вот задаток.
Омар бросил на стол кошелек. Заглянул туда Драч – перехватило горло: на дне тускло блестела грудка золотых монет. Прикинул – на полгода безбедного житья.
– Да я... хучь на плаху теперь, в огонь и воду, ваше благородие, – давился сухими рыданиями Драч, лаская взглядом свое семейство. Ломая себя, уронил голову, припал губами к руке Митцинского.
Далеко за полночь надлежало ему отправиться в долгий путь: через всю Турцию, морем к селению Хопа. Там, после высадки с парохода, предстояло вахмистру пробраться по течению реки Чорож к турецко-грузинской границе, перейти ее (пограничный пост метался вдоль границы на десяти милях скального бездорожья), просочиться через Грузию, выдавая себя за афонского монаха, выйти к перевалу, что разделял Грузию и Чечню. В Чечне надо было сесть на поезд и прибыть в Ростов. Там предстояло ему разыскать в отеле Османа Митцинского и вручить лично в руки пакет и перстень, а затем, вернувшись из Ростова в Чечню, найти в станице полковника Федякина и отдать ему письмо.
Пакет и письмо зашили Драчу в голенище сапога, перстень он надел на палец, дивясь тонкости иноземной работы.
В полночь, перед самым уходом, лаская жену, шептал ей Драч:
– Ничего, Марьямушка, не печалься, бог даст – живым-здоровым вернусь – заживем, душой отмякнем. А там, глядишь, господин офицер еще дельце какое подбросит, коль с этим не оплошаю.
Марьям горестно качала головой.
В углу на топчане мирно посапывали сытые сыновья. Заглядывали в оконное стекло две мохнатых звезды. Шуршали тараканы за печуркой.
Грозно, приглушенно рокотала чужбина за стенами.
11
Курмахер рыдал над маленьким холмиком на ростовском кладбище. От обиды и еще от страха. Природа страха была расплывчатой и непонятной. Это был скорее всего ужас устрицы, которую грубо выдрали из надежной ракушки и, скользкую, голенькую, пустили в темный океан. А кругом – одни зубы, их и не видно пока, а все же они здесь, где-то рядом, готовятся надкусить, испробовать и сжевать.
Ракушкой Отто были его сокровища, с ними он чувствовал себя уверенным везде.
По городу из конца в конец шарахались пересуды, охи и ахи: такого давно не было. Случались, правда, налеты и похлестче, как-никак Одесса – мама, а Ростов – папа, но чтобы с такой изюминой – этого еще не случалось: Маски, помяв, как гуттаперчевого, чемпиона Брука, ободрали как липку директора Курмахера и отправили на тот свет карлика. Грандиозная жуть! – передергивался в сладком ужасе обыватель.
Милиция сбилась с ног, трясла притоны, ночлежки и «малины» – маски как в воду канули.
А Курмахер рыдал над холмиком, где покоился Бум.
Неузнаваемо сдал за несколько дней Отто: пустыми сумками обвисли щеки, окольцевали глаза чудовищной черноты круги. Костюм повис складками, как на вешалке. Стал Курмахер тихим и вежливым, посекла курчавину его волос на висках грязно-пепельная седина.
После того как выпутали его из полотенца, коим он был привязан к креслу, медленно и прямо переставляя палки ног, побрел он к выходу из кабинета, утыкаясь остекленевшим взглядом во встречных. От него шарахались, жались к стенам.
В коридоре Курмахер увидел лежащего Бума. Долго примащиваясь (не гнулись ноги), встал на колени и приложил ухо к груди карлика. А когда убедился, что сердце маленького немца не бьется, поднял его на руки и понес. Стон прокатился по коридору – зрелище было не для слабонервных. Бума у него взяли уже на улице. Вышел с ним Курмахер, побрел неизвестно куда и шел, пока не отняли у него холодное уже тело. Тут что-то сломалось в нем, он закричал, долго плакал и причитал по-немецки, ибо отняли у него разом жизненную опору его – богатство и единственного сородича. Лопнула последняя нить, что связывала его с фатерландом.
Курмахер поднялся и вытер мокрые щеки. Заботливо поправил букетик в изголовье могилы. Выйдя за ограду кладбища, побрел через весь город к цирку, горбясь и шаркая ботинками.
В кабинете он сел за стол и написал объявление о распродаже циркового имущества. Артистов Курмахер рассчитал еще вчера, честно выделив из сборов все, что им причиталось. Объявления сам же расклеил по заборам и афишным тумбам. Распродавалось все: деревянный каркас, ученые медведи и лошади, брезент и костюмы.
Через несколько дней многое растеклось, уплыло в чужие руки. Медведей взяли за гроши цыгане, каркас приобрел трест Древбумпром. Остался брезент и три лошади.
Вечером сидел Отто у себя в кабинете сирый и тоскливый, не зажигая огня. Темной бесформенной грудой высился на полу брезент купола, занимая половину кабинета. Где-то за стеной глухо били копытами, утробно ржали голодные лошади.
В дверь постучали.
– Мошно, – слабо просипел Отто.
За дверью не услышали, постучали еще раз.
– От-кры-то! – с усилием отозвался Курмахер.
Дверь открылась. Курмахера – холодком по спине: все еще чудились за дверью черные маски в серых макинтошах. Вошел кто-то низенький, кашлянул, похлопал по карманам. Там громыхнул коробок спичек. Спичка зажглась, осветила круглое, хитрое, монгольского типа лицо в военной фуражке, нахлобученной на тыквочку головы. Человек был затянут в красноармейскую форму – крепенький, усатый, уютный.
– Пошто в темноте-то сидим? – воркотнул мирно, незлобиво, повертел головой. Отыскал взглядом свечи, зажег. Присел напротив Курмахера, протянул пухлую ладошку, представился:
– Латыпов я, Юнус Диазович. – Курмахер хмыкнул, вяло пожал ладошку, помалкивал. – Чего сидишь-то? – удивился Латыпов. – Однако вставай, чай делай. Чая хочу.
– Нет чая. Все продаваль. Керосинка – тоше, – буркнул Курмахер.
– Маленько торопился ты, – укорил незваный гость, – однако ничего. Чая нет – конфетку сосать будем.
Опять захлопал по карманам, сунул руку по локоть в галифе, сморщился и достал наган.
Курмахер тоненько хрюкнул и стал сползать с кресла под стол. Латыпов удивился. Склонив голову, спросил:
– Куда пошел, а?
Курмахер, застряв между креслом и столом, дергался и не спускал глаз с нагана.
Латыпов нежно посмотрел на оружие, спрятал в карман, достал вместо нагана коробку с ландрином. Подцепил щепотью липкие горошины, поделился с Курмахером, вздохнул:
– Хрусти, дядя, насухую.
Сам разинул рот и ловко, от колена, забросил туда ландринину. Хрумкнул, зажмурился от удовольствия, пояснил про наган:
– Шалят маненько по дороге, без пушки-то нельзя.
Курмахер оторопело разглядывал ландрининки на ладони. С опаской сунул в рот, раскусил. Захрустел, отходя от пережитого.
– Керосинку продал. Что осталось-то? – спросил Латыпов, жмурясь, причмокивая, посасывал.
– Брезент есть. Три лошатка осталось.
Понял наконец Курмахер: покупатель пришел.
– Лошадки, говоришь? – оживился Латыпов. Цепко ухватил со стола свечу. – Айда, смотреть будем.
Пошли в конюшню. Крайним стоял Арап – злющий в работе, а теперь и вовсе осатаневший от голода жеребец, дрессированный для джигитовки. Арап зло блеснул фиолетовым глазом, трахнул копытом в переборку. Латыпов отдал свечу Курмахеру и полез за перегородку. Арап вскинулся было на дыбы – не успел: Латыпов сунул ему пригоршню с ландрином. Арап с треском крушил зубами конфеты, Латыпов лазил у него под брюхом, сноровисто щупал бабки, копыта. Курмахер ахал, обмирал от переживания. Арап прожевал, звучно сглотнул, погнав комок по вороному горлу, и заржал, скособочив голову себе под брюхо: мол, давай еще.
Курмахер отдал коней не торгуясь: жалко было оголодавшую животину. Латыпов заодно сторговал и брезент – бойцам на палатки в летних лагерях пригодится. Оказался мужичок комендантом-помначхозом из гарнизонной крепости в Чечне. Прибыл в Ростов по делам и увидел объявление Курмахера.
Веяло от него какой-то незнакомой Курмахеру устойчивостью, будто ходил по земле не человек, а тяжеленный сосудик с ртутью, и переливалась, играла она в Латыпове при каждом движении.
Когда, отогнув полу френча, комендант выложил перед Курмахером банковский чек и стал заполнять его, долго созревавший Отто наконец решился:
– Уважаемый помначхоз, вы не имель шелание полючать в свой гарнизон ош-шень опытни завхоз?
– Ежели очень опытный – нужон! – ответил Латыпов и опорожнил коробочку в разинутый рот. – А кто таков?
– Это есть я, – отчего-то волнуясь, объявил Отто.
Жизнь его пошла вразнос – грозная, зыбкая, беспросветная впереди. И до ужаса захотелось спрятаться, переждать, передохнуть где-нибудь в тихой гавани. Латыпова послал ему сам бог. На том и порешили. Не пустил Курмахер Латыпова в гарнизонные казармы, умолил остаться на ночь. На ворохе брезента постелил ему одеяло, бросил подушку.
На ночь глядя сели резаться в подкидного. Любил немец русского «дурака».
Латыпов, подогнув ноги, восседал на брезенте китайским божком, азартно шлепал засаленную карту о чемоданчик, шевелил тараканьим усом, тоненько покрикивал:
– Трефа моя, м-матушка родимая... а вот я тебя королем по сусалам!
Колыхались язычки пламени, оплывали свечи. Курмахер сдавал, морщил нос, подхихикивал – выигрывал. Оттаивала замороженная душа, становилось на удивление покойно с Латыповым – впервые за многие дни. Порешили ехать через двое суток на третьи. Объяснил это помначхоз заботами, которых набралось в Ростове невпроворот. О том, что состояли они в получении боеприпасов на гарнизон, – в такие подробности Латыпов не вдавался: каждый сверчок знай свой шесток. Пока так решил Латыпов про Курмахера.
12
Сколько помнил себя Ахмедхан, солнце выплывало утром из-за горы под серебряный перестук отцовского молота. Светило всегда заставало Хизира за работой. Кузницу он поставил на краю оврага, на отшибе, чтобы ранний звон не тревожил аульчан.
Овраг был поначалу для Ахмедхана преисподней, где жили шайтаны. Сырой, мрачный, заросший терном и кизилом, он казался бездонным.
Ахмедхан приходил утром к отцу и приносил узелок с едой – кусок сыра, лепешки, кувшин молока. Пока отец ел, Ахмедхан выходил из низенькой, в прогорклом чаду кузницы и садился на край оврага. Зеленая преисподняя под ногами Ахмедхана жила своей жизнью. Как раз напротив кузницы росла кряжистая, в два обхвата чинара. Прошивали птицы плотную кипень зарослей. В сумрачной глубине их что-то потрескивало, шевелилось. Из листвы грозным клыком торчал сук, обнажившийся корень чинары, белёсый, обглоданный временем и дождями.
Однажды солнце, пробравшись лучом сквозь крону, нащупало сук, и он вдруг ожил, затеплился дивным розовым светом. Тогда плавно втекла на него гадюка, толстая и черная, с железным, холодным блеском гуттаперчевого туловища. Она вытекала из листвы очень долго, казалось, этому движению не будет конца.
Гадюка дважды окольцевала сук и повела вокруг плоской треугольной головкой. Они встретились глазами – змея и маленький человек. И хотя их разделяла пропасть оврага, Ахмедхан запомнил на всю жизнь, как стал вползать в него липкий холод чужой воли.
Будто сквозь вату к нему пробился оклик отца: «Ахмедхан!»
Он не смог ответить. Хизир вышел наружу, увидел гадюку на суку, оцепеневшего сына. У порога кузницы лежала каменная глыба, отполированная штанами кузнеца, – служила вместо скамейки. Хизир оторвал ее от земли и поднял над головой. Гадюка на суку стала раскручиваться, но не успела: глыба обрушилась на корень, сломила его, пробила тоннель в листве и, невидимая, долго еще грохотала глубоко внизу, скатываясь по каменному руслу ручья, скрытого зарослями.
Кузнец стоял над сыном – кряжистый и сердитый. Белые крошки сыра запутались в смоляной бороде. У ног его оттаивал от леденящего страха человечий детеныш. Он был жалок. Именно это разгневало кузнеца.
Хизир зашел в кузницу, кинул на плечи два мешка – большой и маленький. Потом сурово кликнул сына:
– Иди сюда!
Хизир встал на край оврага, взял Ахмедхана под мышки и шагнул вниз. Руша пласты жирной, влажной земли, он спускался на самое дно. Сын болтался в железном кольце отцовской руки, ветви хлестали и царапали его лицо. Он вздрагивал, стискивал зубы.
На дне оврага, стоя по лодыжки в ледяной воде ручья, кузнец поставил рядом Ахмедхана.
– Идем, – сказал он и зашагал по воде.
Он пробивал заросли кряжистым телом, выворачивал целые деревца с корнем, если они преграждали путь. Прыгали из-под их ног лягушки. Кособоко и слепо тычась в листву, шарахнулся вспугнутый филин. Бесплотными тенями вспарывали воздух у самого лица летучие мыши. За кузнецом оставалась просека. Хизир шел к залежи железной руды, которую открыл еще его дед. Третье поколение пользовалось рудой для кузнечных нужд. Они плавили ее в самодельной печи, перекладывая углем, который тоже жгли сами.
Обычно Хизир шел к руде вдоль оврага. Но сейчас кузнец повел сына понизу. Он повидал много крови на своем веку, пролитой человеком, и считал, что человек – самое страшное создание на земле, достаточно страшное, чтобы его боялись все остальные твари, созданные аллахом. Кузнец шел сквозь заросли и говорил об этом сыну – единственному продолжателю рода, так как жена родила Хизиру, кроме Ахмедхана, еще пять дочерей.
К вечеру они принесли к кузнице два мешка руды – большой и маленький. А на второй день Ахмедхан отправился за ней сам.
Он опускался на дно оврага. Над ним, на краю обрыва, расставив ноги, стоял отец и смотрел вслед.
К семнадцати годам Ахмедхан уже приносил на спине отцовский мешок руды, владел молотом не хуже его, а на дне оврага не зарастал тоннель, пробитый его телом.
У них было уже две коровы и три лошади: отцу щедро платили за кольчуги, не раз спасавшие жизнь богатым заказчикам. Их круг расширялся, слава Хизира росла, к нему стали приходить из дальних аулов и даже из Дагестана, его работы ценились не ниже кубачинских.
Руды требовалось все больше, и однажды весной, когда на дне оврага еще истекали слезами ноздреватые островки снега, Хизир дал в помощь Ахмедхану лошадь.
Они тронулись домой в полдень, нагруженные мешками руды, – Ахмедхан и рыжая кобыла. Теперь тропа все время поднималась вверх. Заметно вздулся и помутнел от талой воды ручей. Временами он дохлестывал пеной до колен. Лошадь опаляла спину Ахмедхана горячим дыханием, всхрапывала, пятналась кругами пота. К вечеру он почуял, что повод, обмотанный вокруг локтя, стал тянуть назад – лошадь запалилась. Он выругался, дернул за ремень: почему скотина устала раньше него? В конце пути, неподалеку от кузницы – напротив большой чинары – лошадь остановилась совсем. Кобыла стояла опустив голову, ноги ее тряслись крупной дрожью, обвислые губы роняли хлопья пены. Ахмедхан дернул за повод, голова лошади мотнулась от рывка, но сама она не сдвинулась с места.
Ахмедхан ударил ее кулаком по лбу – она рухнула на колени и завалилась на бок. Ахмедхан опустился рядом. В темном провале лошадиного зрачка угасал тоскливый смертный ужас – он убил ее. Задняя нога кобылы дернулась в конвульсии, ударила по кусту орешника, и он осыпал Ахмедхана хрусткими трубочками прошлогоднего листа. Тогда он перерезал лошади горло кинжалом и освежевал. Справившись с этим, он вытянул вперед руку, раздвинул пальцы. Окровавленные, толстые, они жестко торчали перед глазами – их не взяла дрожь усталости. Тогда Ахмедхан впервые за целый день хищно, торжествующе усмехнулся.
Он выбрался из оврага с двумя мешками руды, забрызганный кровью, высыпал их и снова спустился вниз. Лошадь даже без шкуры и внутренностей оказалась потяжелее мешков, но он все-таки взвалил ее на плечи и вынес наверх, к кузнице. Внизу остались голова и внутренности кобылы.
Отец ни словом не упрекнул его, но, ужиная вместе с ним при свете коптилки, Ахмедхан поймал его растерянный, тревожный взгляд. В углу, со страхом посматривая на брата, приглушенно шептались сестры. И он усмехнулся второй раз за этот день – как тогда, в овраге.
В ауле у Ахмедхана не было друзей, угрюмый, неразговорчивый, налитый недоброй, чудовищной силой, он сторонился сверстников. Да и недосуг было – кузница пожирала все дневное время.
Вскоре Ахмедхан стал замечать, что к нему присматривается самый знатный человек аула – шейх Митцинский. Два его сына учились в городе, в реальном училище. На лето они приезжали в аул, бродили по пыльным улицам, затянутые в шелковые черкески, – скучали. Шейх предложил Ахмедхану идти к нему в работники, плату назначил высокую.
Дед шейха, Магомед, осевший в Чечне и женившийся на чеченке, был родом из Дагестана. Он умер, оставив в наследство сыновьям и внукам немалое состояние. Два его правнука, Осман и Омар, не знали языка прадеда, считали себя чеченцами, и все же некая незримая пленка отделяла их от сверстников – они были инородцами. Наверное, поэтому они пристрастились к охоте, и Ахмедхан водил их по горам, выгоняя дичь под выстрел.
А осенью судьба его неожиданно круто и бесповоротно переломилась. Братья разъехались, закончив училище. Омар перевелся в юнкерское училище. Осман поехал в Петербург учиться на юриста, взял Ахмедхана с собой.
Больше десяти лет прошло с тех пор. Жизнь среди русских, ошеломляющая, дивная, долго и мучительно выполаскивала из них въедливый налет провинциализма, и не раз руки их тянулись к кинжалам в бессильной ярости перед необъяснимым, унижающим превосходством сверстников, чей разум сформировала цивилизация. Эту напасть в конце концов одолел Осман Митцинский – избавился от акцента, осилил два языка. И не раз потом пенилось в душе Ахмедхана горячее торжество в зале суда, когда его хозяин – чеченец из Хистир-Юрта Осман судил и выносил приговор какому-нибудь чиновнику, недосягаемому когда-то, а сейчас подвластному воле Османа.
Однажды весной половодье вровень с берегами наполнило овраг, на краю которого стояла кузница Хизира. Вода подмыла обрыв, и столетняя, в два обхвата, чинара рухнула на кузницу. Хизир делал в ней свое звонкое дело. Когда распилили и отволокли в сторону чинару – вершину ее, разворошили развалины кузницы, Хизир уже остыл. Рядом с ним лежала жена, принесшая в узелке обед. Ахмедхан посидел над могилами полдня. Остальную половину потратил на то, чтобы повидаться с сестрами. А утром уехал с первым поездом в Петербург.
Через год умер от простуды отец Османа. Его похоронили во дворе, соорудили часовню-склеп, и к могиле святого стал приходить народ из разных концов Чечни и Дагестана.
А еще через год грянула революция. Русские сбросили своего царя Николая – и все полетело кувырком. Осман бросил академию.
Долгие пять лет они скитаются по этой непостижимой, сумрачной России. Временная работа в судах, случайные заработки. В Одессе Ахмедхан предложил очистить от ценностей лавку ювелира. Получилось на удивление легко. Поднаторевший в уголовных делах ум Османа разработал план, бычья сила и ловкость Ахмедхана довершили дело. Новое занятие приятно щекотало нервы, давало хороший доход.
В Таганроге они ограбили банк, с трудом отбились от милиции. Османа ранили в ногу, Ахмедхан полночи нес его на спине, уходя от цепких, ухватистых милиционеров. После этого, когда зажила рана, Осман задумал в Ростове дело с цирком. Теперь они богаты. Давно пора возвращаться домой, но хозяин все еще медлит, чего-то ждет. С полгода как пришло последнее письмо от Омара из Турции, больше оттуда ничего нет. А может, Осман теперь не показывает всего Ахмедхану, с тех пор как они занялись прибыльным делом и у них на пятках висит милиция?
Ахмедхан подошел к зеркалу. Из сизой, засиженной мухами глубины дико глянул на него ражий детина в косоворотке, курносый, с рыжей окладистой бородой, всклокоченными бровями, ни дать ни взять – половой в рязанском захолустном трактире.
Ахмедхан скособочился, сплюнул, отошел – воротило с души. Поскреб железными ногтями накладную бороду – зудела нестерпимо кожа под клеем. Огляделся с тоской – все чужое, опостылевшее до тошноты. Пузатые амурчики разлетелись по потолку, целя из игрушечных луков; шкаф вишневого дерева с завитушками, диван, лоснящийся потертой кожей, – лучший номер в отеле. Насмешливо скалилась бронзовая львиная башка – дверная ручка. За пыльными широкими стеклами глухо гудел осточертевший Ростов. Домой бы сейчас – бегом, без оглядки, по звенящей буйно-зеленой степи, по шпалам.
Приглушенно хлопнула коридорная дверь, послышались быстрые шаги. Ахмедхан сунул руку в карман, нащупал рубчатую рукоятку кольта. Дверь распахнулась, вошел Митцинский, с виду мелкопоместный дворянчик демократического пошиба: полотняный белый картузик, бородка клинышком, пенсне на шнурке.
И опять, в который раз, подивился Ахмедхан неуловимому, текучему облику хозяина (вошел дворянчиком и вел себя соответственно). Все умел Митцинский, и не было ему равных в умении носить чужую шкуру.
Митцинский защелкнул дверной замок, швырнул картузик на стул, упал на диван – застонали пружины.
– Никто не заглядывал? – спросил отрывисто, трескучим голосом. Под веком напряженно бился живчик.
– Нет, – угадал настроение Ахмедхан. Разговора не начинал.
Митцинский дернулся, качнул сияющим штиблетом.
«Кого ждет? Может, оттуда, из Турции?» – ворочалась догадка в голове у Ахмедхана. Митцинский поймал телохранителя цепким, насмешливым взглядом, заговорил протяжно, въедливо:
– О спутник мой... горилла моя в человечьем облике. Поговорим? Десять лет назад я стащил тебя с гор, чтобы окунуть в этот ослепительный мир. Ты не можешь пожаловаться на судьбу. Я показал тебе все, чем богаты и сильны орси[1] 1
Орси – русские (чеч.).
[Закрыть]: балы, карнавалы, флот Петра Великого на Неве, великого князя Николая Николаевича. Я водил тебя на знаменитые процессы. Я показал тебе, как у неверных вбивают в головы знания в академии и вышибают последние мозги в Третьем отделении. Я учил тебя – будь мудрым и сдержанным, умей возвыситься над толпой. Я учил тебя мазурке и французской борьбе, учил великодушию к женщине. Где все это? В какую бездонную пропасть канули мои усилия?.. Дикарь, ты ударил по голове женщину. Лучше бы ты ударил меня...
– Осман, – приглушенно взвыл Ахмедхан, – что ты говоришь? Мне нужно было смотреть, как она бросит в тебя нож? Ты видел – она умеет это делать...
– Она не бросила бы в меня нож. Между человеком и деревянным щитом есть разница. Хотя тебе этого не понять. Тебе повезло – она выздоравливает. А если бы она отправилась вслед за карликом? Ты не думал, что было бы?
– Не думал, – покачал головой Ахмедхан.
Некогда ему было думать там. А потом, когда уже сделано дело, зачем думать?
– Я отправил бы тебя вслед за ними, – шепотом поделился Митцинский.
И не понять слуге, всерьез это либо шутит хозяин. Задрожал и сорвался голос его:
– Осман, давай поедем домой, а? Что нам больше делать в этом проклятом аллахом городе? Ты бросил академию, и мы скитаемся... Кровь кипит у меня, готов зубами грызть глотки Советам! Ты, сын шейха, кормишь русских клопов своей кровью. Поедем домой! Мы теперь богаты. Если этого мало – мюриды твоего отца принесут еще столько...
– Ты никуда не отлучался? – осадил вопросом Митцинский.
Смотрел жестко, в упор, дурацкое пенсне на диван сбросил – спрашивал не друг – хозяин.
– Все время был здесь, как ты сказал.
– Ладно. Будем спать. Ночью придется работать.
Митцинский лег на застланную кровать, начищенные штиблеты на спинку деревянную забросил. Прикрыл глаза – отгородился веками от слепящей суеты дня, от надоедливых просьб холопа.
Ахмедхан, косолапо ступая, пошел к дивану. Умащивался, поминутно досадливо замирая, – стонали, визжали пружины под его семипудовым телом.
Митцинский лежал не двигаясь. Ахмедхан поймал скошенным взглядом, как вспух и пропал желвак на его щеке.