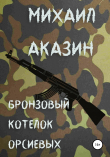Текст книги "Час двуликого"
Автор книги: Евгений Чебалин
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 38 страниц)
24
Близнецы Шамиль и Саид Ушаховы шли по городу. У Шамиля отдувался карман – набрал в своем саду вишен. Давили вишни во рту, причмокивали, сплевывали косточки на булыжник. Саид, сдвинув драную папаху на затылок, таращил глаза, взмыкивал, толкал Шамиля локтем под бок: мимо с шорохом проплывали лаковые пролетки на дутых шинах, грохотали телеги, многоликая, пестрая толпа цветастым потоком омывала их со всех сторон.
Ближе к зданию ГПУ улицы стали пустыннее. И когда взгляд близнецов в конце переулка уперся в высокую каменную стену – народ исчез, стало тихо. Лишь пронзительно чирикал молодой воробей, гоняясь вприскочку за осанистой воробьихой, что копалась в щелях между булыжниками.
Шамиль прислушался, озадаченно хмыкнул. За высокой стеной гулко бухал мяч, хлестко полосовали тишину трели судейского свистка. Немой Саид притих, боязливо вертел головой, тупик, перегороженный стеной, к восторгам не располагал. Шамиль поискал глазами. У края стены, прилепившись к самому ее основанию, буйно выплеснулся из земли сиреневый куст, пластался густо-зеленой листвой по ветхой геометрии кирпичной кладки. Шамиль огляделся, потянул брата за собой. Осмотрел куст, остался доволен. Влез в густой листвяный переплет, прислонился спиной к стене, поманил Саида за собой. Саид притиснулся рядом. Умостились на земле плечо к плечу.
Шамиль поерзал лопатками по кирпичу, задрал ногу, стал снимать башмак – добротный, армейского покроя, подбитый коваными гвоздями.
Аврамов, уложив драгоценную свою папаху из каракуля (не удержался, купил на базаре в первый же день приезда) в тени на лопух, гонял по двору оперативную братию в футбольном матче: трое на пятеро. Уважал он эту игру за лихие прорывы, резкость, четкое оперативное мышление. Пощады тройке не давал, требовал голов. Пятерка оборонялась в поте лица, старалась – трое ярились в неравенстве, ломились к воротам отчаянно, напролом. Позади пятерки стоял вратарь Опанасенко, невозмутимый, дюжий хохол с кошачьей реакцией на мячи и пули. В других воротах стояла Рутова, гибкая, трепетная, готовая к броску. Пятеро, одолев натиск тройки, завернули их и теперь шли в атаку.
Аврамов подпирал плечом стену. Свисток прилип к нижней губе. Голова пухла неотвязной думой: Митцинский. В междусобойных разговорах это называлось: начальство озадачило. Задача оказалась крепким орешком, с налету не раскусишь, зуб хрястнет. Нужны были глаза и уши во дворе у Митцинского.
К слуху пробился крик Рутовой:
– Ай-яй... Григорий Василич! Чего он лезет! Кошкин, брысь! Ой-ей!
Аврамов вздрогнул, отлетело неотвязное. Рутова металась в воротах, увертываясь от Кошкина с мячом в руках. Рослый Кошкин, осатанев от цепкой опеки оборонной линии, прорвался наконец к воротам, но упустил мяч, и его перехватила Рутова. Кошкин, набычившись, взлягивал, мотал головой, норовя выбить мяч у нее из рук.
Аврамов встрепенулся, возмутился: нападали на святая-святых – вратаря. Метнулся на середину поля:
– Ко-ош-шкин! Отставить разбой! Я ль тебя не наставлял, я ль не пестовал? Эт-то что за брандахлыстие – бодаться?! Вратарь есть личность неприкосновенная!
Затурчал свистком, развернул команды к Опанасенко, сказал злорадно:
– Пенальти. И никаких гвоздей!
Пятерка взвыла. Опанасенко, изнывший от безделья, встрепенулся, выпятил грудь, выставил ладони:
– Та чого уси всполохнулись? Я ету пенальтю в наикрасшем виде заловлю, на зубок пиймаю, та другим кусну! Геть от ворот!
Раскорячился между двух сапог, означавших ворота, плечами тряхнул и застыл в готовности.
Позади мяча стоял босой Коновалов – из настырной троицы, плотоядно месил ногами булыжник, готовился к разбегу. И тут что-то перемахнуло через стену позади Опанасенко, ворона – не ворона, камень – не камень... описало дугу и шлепнулось вратарю на спину. Крякнул Опанасенко – дух захватило от здоровенного тычка. Рядом валялся башмак. Присел вратарь на корточки, по-птичьи клоня голову, разглядывая свалившуюся с неба обувку. Удивился:
– А шо ж тилько один? Який гарный чёбот прилетев, а второго нема?
Аврамов двинулся к башмаку. Поднял, помял, зачем-то понюхал. Сунул его под мышку и направился к калитке. С полдороги вернулся, чтобы нахлобучить папаху. И уж тогда, при каракулевом своем уборе, насупившись, зашагал к выходу: если каждый посторонний станет башмаками в ЧК кидаться, тогда – ого, черт знает какая буза может получиться.
Из куста черемухи у стены торчали три ноги: две в кожаных чувяках, одна босая. Аврамов остановился напротив, башмак держал в руке. Расставил ноги, сказал:
– Ну?
– Заходи, – позвали из куста.
– Давай наоборот, – не согласился Аврамов.
Куст зашевелился. Из него высунулась обутая четвертая нога, затем вылезла взлохмаченная голова, присмотрелась к Аврамову, сказала в великом изумлении:
– Гри-и-ишка... ты, что ли?
Аврамов оторопело моргнул. Из куста выглядывал Шамиль.
– Шамиль, чертяка! – заорал, схватил Шамиля за уши, стал вытягивать на свет божий.
Тискали друг друга до ломоты в костях, хлопали по спинам – шарахался треск по тупичку.
– Ты чего здесь? – не мог опомниться Аврамов.
– А ты?
– Я-то служу, а тебя как занесло сюда?
– Ты же в Ростове был.
– Это – был. А теперь вот он я, здесь служу. Тебя, тебя-то каким ветром занесло?
– Дело есть, – посуровел Шамиль. Рядом всполошенно топтался Саид, обдавал приятелей сиянием глаз.
– Ну, коль дело – айда в кабинет.
Полез Аврамов в глубь куста, сел на теплое, нагретое Шамилем место. Братья умостились по бокам. Из куста торчали теперь шесть ног, – одна босая. Ели вишни, стреляли косточками – кто дальше. Шамиль собирался с мыслями, Аврамов не торопил. Положил башмак на колени Шамилю, заметил:
– Изувечить человека мог. В нем одних гвоздей полпуда.
– Ну? – поднял бровь Шамиль. – Не буду больше. – В голове колобродила радость встречи, к ней примешивалась зависть: Гришка, бессменный напарник по армейской разведке, здесь, при настоящем деле, в ЧК, а он все болтается между небом и землей, табуретки в артели сколачивает.
– Ты хоть про житие свое расскажи, – не выдержал Аврамов, – где, по какому ведомству хлеб добываешь?
– Я-то? В артели. Топором тяп, молотком ляп – готова табуретка. Живу-у-у.
Скучно это у Шамиля вышло, про жизнь, глаза пеленой затянуло.
– Да-а, – сочувственно протянул Аврамов.
– А ты не дакай, ты к себе возьми, – угрюмо попросил Шамиль.
– Несерьезно ты к этому вопросу подходишь. В нашу контору так просто не попадают.
Шамиль вздохнул. Сам знал, что сюда так просто не берут. Помолчали. Аврамов подтолкнул локтем в бок:
– Брата представил бы.
Шамиль оживился, нахлобучил Саиду папаху на глаза, спросил Аврамова:
– Похожи?
– Ну! – уважительно заметил Аврамов. – Копия, из одного теста, что ли?
– То-то, – ухмыльнулся Шамиль, – один замес. Только глухой и немой он, медведь отца на его глазах в малолетстве задрал и самого с кручи сбросил. Нас мать напрочь путала, особенно когда без штанов бегали. Близнецы мы, Саидом его звать.
– С тобой живет?
– Нет. В Хистир-Юрте у муллы батрачит.
– Г... где? – подавился вишней Аврамов.
– Чего ты? В Хистир-Юрте.
– Ты подробней, Шамиль, – нежно попросил Аврамов, плотнее усаживаясь, глаза играли настороженным блеском. Ворочалось в голове с утра, мозолила мозги связка: Митцинский – Хистир-Юрт. Что-то темное, дикое и неуловимое все ощутимее клубилось вокруг этого имени.
– Живет там с братьями. Я же тебе рассказывал...
– Позабыл я, – уверил Аврамов, – ты давай повторяй, не стесняйся.
– Старший, Абу, крестьянствует, средний, Ца, аульское стадо пасет. Саид спину на муллу гнет. Зову к себе в город – не хочет, боится шума, толпы не выносит. Раз в месяц навещает, потом, говорит, две ночи спать не могу.
– Я-ясненько, – протянул Аврамов. – Ну а братцы, как они там, в Хистир-Юрте?
– Для того и пришел, – сказал Шамиль.
Придвинулся поближе, плечо горячее, крутое. Нахлынуло на Аврамова, запершило в горле: три года вот так, крутыми плечами подпирали друг друга – в непроглядную темень, в слякоть, под рев атак и свист пуль. Думалось – близость родного брата так бы не растревожила.
– Контра там у них гнездо свила, Гриша, – тихо, одними губами сказал Шамиль, – гадючье гнездо там. Старший Абу лет пять назад по нужде в шайку одну вступил, в налет сходил. Теперь рад бы бросить – не дают: клятву давал. Недавно двое приходили, Асхаб и Хамзат, опять в налет велели собираться. Нападут на поезд через шесть дней за Гудермесом. Бакинский поезд. Абу Саида прислал мне передать, а я сюда.
– Абу в налет пойдет?
– Куда ему деваться.
– Веселое дело. Ай-яй-яй, – поморщился Аврамов. – Приметы у него какие есть, чтобы в глаза бросались?
– Таких нет. Нельзя с такими приметами в налет.
– Ладно, подумаем. Время терпит. Ты бы еще что-нибудь про Хистир-Юрт, а?
– А что надо?
– Ну... какой хабар ходит, кто новый появился.
– Султан Бичаев на жеребце вашего начальника появился. По аулу ездит, абрекам про амнистию рассказывает. Абреки сон потеряли, в затылках чешут – и хочется и колется и мама не велит. Митцинский появился, шейх. Говорят, его в ревком взяли. А он мюридов набирает, вторую сотню уже сколачивает.
– Уже вторую? – удивился Аврамов. – Слушай, Шамиль, а почему бы твоему Саиду в мюриды не податься? Местечко теплое, сыт и при деле. Шамиль хмыкнул:
– Лопух ты в этом деле, Гришка. К нему мюрид табунами прет, а попадает не всякий.
– Это почему? Что, Саид юбку носит, стрелять не умеет? – беспардонно ломился в одному ему ведомую суть Аврамов. Шамиль скосил на него глаз, подозрительно спросил:
– Тебе чего от нас надо? Ты не верти, Гришка, давай напрямик.
– Можно и напрямик, – согласился Аврамов, – Саид русский знает?
– Как я турецкий.
– Скучно жить, говоришь, стало?
– Дальше некуда.
– Повеселиться хочешь?
– Ты бы короче, Гришка.
– Ладно. Дело есть одно. Сорвешься – вверх ногами повесят, шкуру спустят и голеньким в навозную кучу закопают. Чтобы потом тобой огород удобрять.
– Веселое дело, – заворочался Шамиль. Треснул по коленям ладонями, изумился: – Неужто такие дела остались?
– Хватит на нашу жизнь, – успокоил Аврамов. Неожиданно жестко осадил: – А теперь хватит балагурить. Раскрой уши, шуточки кончились. Тут, драгоценный ты мой, такая заваруха закручивается, успевай поворачиваться. Много тебе не имею права сказать, не мой секрет – государственный. Однако по возможности поделюсь. Советскую власть штыком и пулей рядом оберегали. В мюриды к Митцинскому пойдешь?
– Я? – поразился Шамиль.
– Ты. Под видом Саида. Глухонемым мюридом станешь. При таких не стесняются.
– Ясно. А зачем?
– А просто так. Делай что велят, смотри, запоминай, слушай, услышишь, что другие слышат, – ладно, а если сверх того – совсем благодать.
– Гриш, а Гриш... – позвал Шамиль, – я тебе что, бык?
– Это почему? – удивился Аврамов.
– Быка дернут за налыгач, он и пошел, куда дернули. Ты хоть сказал бы, куда дергаешь. Чего это тебе приспичило меня в мюриды определять?
– До чего же ты любопытный, Шамиль, – с досадой сказал Аврамов.
– Я такой, – согласился Шамиль, – сам сказал, в навозную кучу голеньким меня будут закапывать, не тебя.
– Это верно, – согласился Аврамов. – Ладно. Дело такое, что на него с открытыми глазами надо идти. Бродит тут у нас одно сомнение – не тот Митцинский, за кого себя выдает. Тем более что его родной братец в Турции с контрразведками Антанты связан, боевые группы из эмигрантов сколачивает. Так вот, узнать, кто есть на самом деле Осман Митцинский, – нет у нас на сегодняшний день задачи важнее. Учти, раскусят тебя – добра не жди, помочь тоже не успеем.
– Ох, чтоб я сдох! Вилла-билла, ей-бох, такой жизня – эт сапсем дургой дэл! – скоморошничал Шамиль, шалея от привалившего нежданно-негаданно настоящего дела. Спохватился: – Погоди, а Саида куда?
– Вместо тебя здесь с матерью побудет. Сам уговоришь? Или всем миром попросим, честь по чести?
– Не сто-оит! – пропел Шамиль, обнял брата. – Скажу надо – останется. Такого не было на свете, чтобы близнецы не договорились.
– Только ему необязательно знать, на какое дело идешь, придумай что-нибудь.
– Само собой, – успокоил Шамиль. – Когда начинать?
– Из куста вылезем – и начнешь, – усмехнулся Аврамов, – приглядывайся к Саиду, запоминай. Мулла-то его как облупленного знает, все повадки да ужимки. Словом – приглядывайся.
Полезли было из куста, да вдруг придержал Аврамов Шамиля за бешмет:
– Погоди.
– Чего годить?
– Должок один за мной, помнишь?
– Не помню. Но раз есть – отдавай.
– Один момент.
Примерился Аврамов, быстро уцепил Шамиля за ухо, стал трепать.
– Э... э... ты чего?! Осерчаю, Гришка! – выкатил глаза Шамиль.
– Помнишь, воротились мы с «языком», я пообещал уши тебе надрать за брандахлыстие твое? Сиди смирно, не дергайся. Надеру – пойдешь.
Хмыкнул Шамиль, подобрался, в быстром развороте облапил Аврамова, крякнул, опрокинул на спину, захрипел:
– Это мы погляди-и-им, кто кому надерет... эт-то мы еще погляди-им, кто кому... протух твой должок... за давностью!
Всполошенно бился, облетал листвой сиреневый куст, изнутри доносилось кряхтенье, слитный свирепый рык, вступился за брата глухонемой Саид, и худо теперь приходилось Аврамову.
Открылась калитка в заборе, вышла Рутова. Присмотрелась к кусту, где близнецы тискали Аврамова, всполошенно выдернула из кобуры наган, крикнула, как бичом хлестнула:
– Встать! Руки!
Аврамов сипел, ворочал глазами, подмятый братьями:
– Тю-ю... оборзели... э-э, братики... ша, руку, говорю, сломаете!
Вылезли из куста. Аврамов увидел Софью с наганом, захохотал:
– Вовремя страж появился. Отбой. Спрячь пушку, Софья Ивановна. Я тут джиу-джитсу демонстрировал.
Немой увидел Рутову, застыл с открытым ртом.
– Знакомьтесь, – подтолкнул братьев к Софье Аврамов. – Софья Ивановна. Бывшая циркачка, теперь наш инструктор по стрельбе и прочим боевым делам.
Шамиль пожал руку Софьи, завороженно глядел на нее. Потом захватил щепотью прядь ее волос, приблизил к лицу, вдохнул, пошатнулся, сказал как-то непонятно, отчаянно:
– Ай-яй-яй. Это же надо!
Софья зарделась, осторожно отстранилась. Аврамов погрозил пальцем, сказал строго:
– Попрошу без вольностей. Ты мне персонал не пугай.
Саид крутил головой, смотрел во все глаза – в ауле такую красоту разве увидишь.
– Про налет не забыл? – вполголоса, жестко спросил Шамиль у Аврамова.
Аврамов не ответил. Снял свою ослепительную кубанку, подышал любовно на серебряные завитки, протер рукавом. Быстро стянул с Саида папаху, нахлобучил взамен свою. Драный срам с его головы сунул ему за пазуху.
– Пусть Абу в деле мою кубанку наденет. За версту узнаю.
– Ясно, – кивнул Шамиль.
– Скажи еще – пусть на рожон не лезет. Мы будем в третьем вагоне от паровоза.
– Ладно. Гриш, к Митцинскому с пустыми руками не явишься. Тут подарок нужен, чтобы челюсть отвалилась. А у Саида откуда деньги?
– Так он же охотник.
– Ну?
– Шкура снежного барса – чем не подарок?
– Голова-а! – уважительно протянул Шамиль. – Теперь дело за малым – шкуру достать. Ты хоть знаешь, что такое барса у нас добыть? За ним одному месяц гоняться надо. Бывает, что и за месяц в глаза не увидишь.
– Месяц нам не подходит, – серьезно сказал Аврамов, – нам три дня от силы отпустят, да и то, если под настроение начальству попадешь. Меня возьмешь с собой?
– Вилла-билла, мине дургой луди сапсем не нада, – подытожил Шамиль. – Когда к начальству пойдешь?
– А сегодня и пойду, – сказал Аврамов. – Вечерком заходи, обговорим все.
На том и порешили. Обнялись. Саид бережно лапал обнову, приплясывал, расплывался в улыбке. Братья развернулись, пошли. Рутова застегнула кобуру, тонко улыбнулась:
– Черт знает, какая необразованность, Григорий Василич. Вы к ним по-культурному, с приемами джиу-джитсу, а они никаких приемов не признают, знай на спину валяют.
С некоторым удивлением уставился Аврамов на своего инструктора, крякнул смущенно, сказал в свое оправдание:
– Не мог же я фронтовому дружку шею ломать за здорово живешь.
– Не могли, – охотно согласилась Рутова. В озорном прищуре светились глаза. Заныло у Аврамова сердце, накатила, сладкой тревогой обожгла думка: «Неужто судьба моя?»
25
Ташу Алиева сидела в яме вторую неделю. Ночами холодные туманы крались по отрогам гор, заползали во двор, стекали к ней в яму. Нещадно трепал озноб, мучил страх. Одолевала бессонница. Скорченное тело требовало движения. Яма походила на могилу, давила теснотой, земляной прелью.
Днем к Ташу еще прилетали какие-то звуки – смутные, процеженные глубиной. Голубел бездонный кружок неба, забранный решеткой. Изредка, если долго смотреть, черной молнией простреливал синеву стриж. Тягуче и глухо, как с того света, пробивался к слуху гул стада по утрам.
К вечеру перед глазами проплывали миражами картины детства, смазанные временем видения наслаивались друг на друга.
Первые дни она еще пыталась обуздать мысли, собрать и направить их в русло благочестия. Хотела думать о блаженстве в другом, грядущем мире. Но зыбкую, паутинчатую ткань мыслей рвал камнепад воспоминаний. Мучилась и умирала от родов мать, распялив черный, кричащий рот; наваливалась гнетущей тяжестью на спину корзина с землей... сколько их перетаскано на огород-терраску на крутом склоне!
Потом, когда Ташу стали мучить припадки, отец уже носил землю сам, пока не сорвался с кручи.
К ней стало липнуть боязливое и почтительное звание «святая». После припадка, в корчах она выкрикивала много дикого и страшного, разум плавился в наплывах безумия. К девятнадцати она ушла скитаться по горам, и у нее появился первый мюрид – угрюмый, заросший горец с бельмом на глазу.
Он водил ее по аулам, подкармливал, следил, чтобы не билась о камни во время припадков.
В двадцать два года мюриды сообща справили ей сносную прочную одежду из кожи. Их было уже восемь. Ташу научилась ездить верхом, стрелять и выуживать пользу из собственной болезни. Она стала властной, в налетах истерики била мюридов плетью. Не считая подобных неудобств, им неплохо жилось подле своей святой.
Временами на нее накатывала тоска. Она прогоняла всех, забивалась в какую-нибудь пещеру и билась в рыданиях. Жизнь уходила, текла мимо, холодная, чужая, лишенная радостей.
В один из таких дней пришло прозрение: стать шейхом, выдержать холбат наравне с мужчинами, принять посвящение по всем законам шариата. Она отреклась от своего пола на Коране, дала обет безбрачия. Женщин-шейхов еще не было у чеченцев, и она пробивалась к этой недоступной вершине со всей страстью, на которую была способна ее недюжинная, властная натура. Это была отчаянная попытка вырваться из заколдованного, бессмысленного круга, куда загнала ее судьба.
...На решетку сел воробей, склонил голову, поглядывая сверху на человека. Чирикнул: кто ты? Голос его болезненно царапнул по слуху. Ташу вздрогнула, застонала. С шорохом осыпалась за спиной земля, зернистые рыжеватые стены обступали ее замкнутым кругом – не разорвать, не пробиться к воле.
С болезненным удивлением она посмотрела на свои руки. Их сероватая, с синими прожилками плоть была вялой и бессильной. Донимал, мучил тяжелый запах – кусок не лез в горло. Он появился постепенно, удушливый, застойный, пропитал каждую пору.
Ташу запрокинула голову. Горло судорожно напряглось – просился наружу тоскливый вой. Воробья уже не было, упорхнул, вольный, легкий, как ветер.
Сколько еще здесь сидеть? Завыть, отдаться накатывающейся истерике, запроситься наверх... Поднимут. Но тогда пропадет все, отшатнутся мюриды, истает последняя надежда переломить проклятую жизнь.
Ташу стиснула горло ладонями. Терпела. Нахлынула дурнота, близился припадок.
Шестому
Задание
Вам предлагается следующее:
1. Собирать любые сведения, касающиеся Митцинского.
2. Постарайтесь узнать, что делается у него во дворе, каковы там изменения жилищного, бытового характера: постройки, состав прислуги и т. д.
3. Собирать хабар о происшествиях в селе, районе, знать настроение крестьян.
Первый.
26
Федякин сидел под развесистой шелковицей. Кровь, безумие атак, попойки, тиф, сырая, душная вонь лагерных бараков – все пережитое, еще недавно разъедавшее грудь ядовитым налетом, стало отпускать, растекаться в бездонные тайники забывчивости. Прошлое нехотя, медленно отпускало, являясь теперь только по ночам во снах.
Федякин довольно, разнеженно огляделся. Двор оживал. Ласкала взгляд веселой яичной желтизной тесовая заплата на крыше амбара, исчез накопленный годами хлам из-под сарая, засветилась свежевыбеленная летняя печь. Разлапистая орда лопухов, заполонившая двор, валялась теперь вразброс, увядшая, посеченная федякинской косой. Светилась янтарным жиром в тени навеса обернутая в марлю соминая туша, тускло серебрились чешуей выпотрошенные вяленые усачи.
Сидел Федякин на перевернутом ведре, притулившись к шелковице, разбросав ноги, и, чуя спиной ребристую твердь коры, блаженно щурился на солнце, что пробивало лучами листву. Стекала по стволу в землю – как по громоотводу – его накопленная годами усталость.
Сидел он в предвкушении главного на сегодня дела. Его ждал огород. Разгорелось над краем красное лето, вроде бы прошли все сроки посадок огородных, однако решился на это дело Федякин, поскольку не мог отказать себе в удовольствии, о котором мечталось долгими годами заключения. А уж что вырастет от этих запоздалых посадок – это дело десятое, авось что-то и вытолкнет из себя к самой осени, намаявшись в безработице, чернозем.
Ночами в бараке, лежа без сна, много раз он видел перед собой поразительно четкое видение. Прильнув к ореховому таркалу, оплетает его помидорный куст. Граненый стебель в два пальца толщиной, обметанный белесым игольчатым пушком, вымахал в человечий рост. Привольно и густо распушилась вдоль него узорчатая бахрома листвы, и в сумрачной, прохладной глубине ее жаркой краснотой тлеют бока помидоров.
Рука раздвигает шершавую завесу листвы, и в ладонь ложится бархатистая округлость плода, ложится упруго и трепетно.
Были у Федякина торжества до службы. Да и само продвижение в полковники дарило немало наслаждений. Но в жестоких, иссушающих буднях плена, когда ныло изнуренное работой тело и, распятая, кровоточила гордость, разум извлекал из глубин памяти, как спасение, не торжества фанфарные, а самое заветное – картинки немудреного казачьего быта: помидорный куст с рдеющими плодами, костер над омутом, рыбалку. Щедро наградила ими казачонка Митьку его юность.
Дрогнул Федякин, удивляясь непостижимости человечьей памяти, открыл глаза. Вокруг нежился залитый солнцем родимый двор. Позади забора щетинился чертополохом огород. Там – быть грядкам и расти помидорам.
Прихватив лежащую у ног тяпку, он поднялся, пошел к забору. Растворил калитку из штакетника, полюбовался на дело своих рук: ременные петли. Поскольку железных петель не отыскалось – повесил калиточку на столб на сыромятных ремнях: открывалась легко, держалась крепко.
Продрался Федякин сквозь бурьян к самому краю огорода, чтобы начать прополку оттуда. Рассчитывал управиться с прополкой за сегодня, а завтра, спозаранку, сладить грядки под петрушку и кинзу, под укроп по краям огорода. Самую же средину отдохнувшей за годы земляной благодати выделял Федякин его огородному превосходительству – помидору.
Поплевал на ладони, взялся за тяпку, взметнул над головой серебряное лезвие, кинул его с хрустом под корень кряжистого с фиолетовыми шишаками цветков лопуха. Дрогнул лопух, повалился. Разогнулся Федякин, оглядел свое поле битвы, коей сделан почин, и почуял спиной чужой взгляд. Удивительную чуткость обрела его спина за последние годы. Развернулся. Из-за плетня смотрел на него в упор боец с винтовкой. И было в этом взгляде нечто такое, отчего захолонуло тоской полковничье сердце: почуял недоброе плечами, все еще державшими призрачный груз полковничьих погон.

Боец за плетнем поправил винтовку, сказал со скучной гадливостью:
– Побаловаться захотелось, ваше благородие? Огородом, значит, занялися со скуки. Побаловались – и будя. Идем.
– Куда? – сипло выкашлянул пересохшим горлом Федякин.
– В ЧК, – спокойно сказал боец, но так, что враз ослабли ноги у Федякина.
«Да отчего он так со мной? Что я сделал ему?» – смятенно ворохнулась мысль – будто враг личный перед ним...
Не ошибся полковник. Помнил молодой чекист Кулагин полковника Федякина до озноба, до темных мушек в глазах, хотя и видел его в первый раз. Была у ненависти первопричина.
Еще в пору зеленого отрочества намертво врезалась ему в память фамилия Федякин, когда одноногий сосед Пантелей, красный командир, высохший до скелетного состояния, опираясь на костыли, долго крутил подрагивающими пальцами самокрутку, не решаясь глянуть им в глаза – Ваське Кулагину и его матери. Списали Пантелея подчистую из армии. А дело было так. Заняла его часть станицу Левобережную. А ночью отряд полковника Федякина, спеца по ликвидации прорывов, черными бесплотными тенями втек в станицу и, орудуя ножами, успел вырезать половину бойцов, когда поднялся сполох тревоги.
Кое-как отстрелялись, отбились от напасти пантелеевцы, оставив при отступлении в Левобережной три четверти отряда.
Потерял в этом деле отец Васьки Кулагина жизнь. С тех пор и запомнилась Ваське фамилия Федякин. Одного не мог знать Васька, что сам Федякин лежал в ту пору в госпитале с ранением, а отрядом командовал его заместитель Крыгин – рубака напористый и жестокий.
– Идем, ваше благородие, – повторил Васька Кулагин, в упор разглядывая давнего врага.
– Зачем мне в ЧК? – цепляясь за остатки надежды, задал глупый вопрос Федякин, знал, что глупо такое спрашивать, а спросил, не удержал в себе гаденько дрожавшие слова.
– Там скажут. Там все скажут.
– Я же отрекся от всяких драк, я уже говорил это везде. Я отсидел свое, не возьмусь за старое, – хрипло давил из себя Федякин. Слова цедились жалкие, бесплодные, знал это он, но не мог остановиться.
– Зарекалась лиса кур таскать, – недобро усмехнулся Кулагин, щелкнул затвором. – Живо. Недосуг мне с вами. Нам еще десять верст топать, да все пехом. – И угадывался в его молодых бешеных глазах один приговор Федякину – в расход.
Пошли степью вдоль Терека, к мосту. Припекало катившееся под уклон солнце, шибало в нос запахом разнотравья. Мерно шаркали по пыли стоптанные башмаки бойца. Нарастала в Федякине буйная звериная страсть – жи-и-ить! Боже мой! Только обрел эту желанную до боли возможность – смотреть, дышать, ласкать глазами всю эту немыслимую, родимую красоту, не изгаженную окопами, кровью, вспухшим на жаре человечьим мясом, только оттаял заледеневшим сердцем рядом с домом, как повели опять.
Долгие годы его водила под конвоем присяги служба, затем война. А потом – лагеря, дознания, допросы.
И вот, теперь, дав чуток хлебнуть призрачной свободы, повели опять. Жи-и-и-ить!!
И, прянув назад, рубанул с маху Федякин по горлу бойца ладонью, вложил в удар всю тоску и злость на горемычную долю свою. Почуял, как слабо хрустнуло под ребром ладони.
Кулагин, растопырив пальцы, ловил воздух перекошенным ртом, вращал залитыми слезою глазами. Оседал. Винтовка лезла штыком в небо вдоль его плеча – свободная, ничья.
Не веря удаче, уцепил ее Федякин, дернул к себе. С жадной торопливостью развернул штыком к Кулагину и, подхлестнутый диким опасением – оживет, очухается конвоир! – всадил штык в хрустнувшее тело пониже правого соска. Вошло граненое жало в тело парнишки, будто в масло.
Присел Федякин на корточки перед конвоиром своим, осознал – убил. Стихал звон в ушах. Лежал перед ним мальчишечка, шевелил бескровными губами, что-то шелестел невнятное.
Федякин встал на колени, приблизил ухо, уловил:
– Я... на... регистрацию вел... велели мне... за что ты меня?
– А вот это надо было раньше сказать, голубь... а теперь что ж... как звать?
– Васи-илий.
– А теперь упокой, господи, душу раба божьего Василия. – Добавил рвущимся голосом: – Что ж ты наделал, раб божий... себя загубил и меня заодно.
Огляделся с невыразимой тоской. Трепетала в нескольких шагах листва на молодом кустарнике, дергала хвостом на ветке любопытствующая сорока. В просветах угадывалась свинцовая, вольготная ширь Терека, слегка порозовевшая от раннего заката. Приволье и чистота первозданные напитались послеобеденным покоем.
У ног Федякина умирал боец. Посидел над ним полковник, пока не угасла жизнь в глазах парнишки. Все тянулся Васька к Федякину, забыв, что он враг, тянулся к последнему лику человеческому перед надвигающимся вечным одиночеством, хотел, видно, сказать последнее, самое важное. Но чувствовал, что не успеет, не подчинялся язык, и оттого все заметнее колыхался в глазах предсмертный ужас. Так и угас, опалив душу Федякина до черноты.
Встал он, отомкнул от винтовки штык и, действуя попеременно то им, то черепком, подобранным неподалеку, выкопал в легком сухом песчанике неглубокую могилу.
Похоронил Ваську. В изголовье ему придвинул камень, сделал это осторожно, чтобы не примять тянувшиеся рядом к свету колокольчики ландышей.
Смахнул слезу и пошел куда глаза глядят. Хлестко, с кровью рвались струны, связывающие с домом, матерью. Теперь туда нельзя, заказана дорога к дому. Ни дум, ни желаний, ни планов. Горькой отравой жгло одно-единственное: конец. Не будет ему больше ни покоя, ни отрады, похоронил он вместе с бойцом и себя, а шагал по земле вместо Федякина дикий зверь вне законов человеческих. И затравить его, скажем, собаками – не грех, не святотатство, а благо для людей.
Первому
Довожу до вашего сведения, что сегодня ночью было произведено покушение на Султана Бичаева. Бичаев рубил дрова у себя под навесом при свете фонаря. Стреляли со стороны улицы. Пуля легко задела левое плечо Бичаева. Он тут же развернулся, бросил через плетень топор в темноту. Говорит, что в кого-то попал. Но когда выбежал на улицу, там никого не было. По аулу идет хабар – это месть за уход из банды и агитацию, чтобы являлись с повинной в ЧК.
Бичаев говорит: назад в банду не вернусь. Аул возмущен, настроение одно: пора покончить со зверствами Хамзата и Асхаба. Часть людей откололись от банды, идет хабар, что готовы явиться с повинной, кто – узнать не удалось.
Продолжается приток мюридов к Митцинскому. По непроверенным сведениям тоба на верность ему дали уже более трехсот человек, среди которых есть горцы из других аулов и Дагестана.
Откуда-то пришло несколько подвод с продовольствием. Организована кормежка паломников, прибывших поклониться могиле отца Митцинского. Многие из них становятся мюридами. Пускают во двор на поклонение в определенные часы: от трех до пяти. Остальное время двор закрыт. Узорчатая кладка ограды из кирпича переделана, бывшие в ней украшения-бойницы теперь заложены камнем Калитка из штакетника заменена на другую: дубовую, массивную. Во дворе никаких изменений не замечено.
Излагаю один странный хабар. Один из религиозных аульчан проговорился в своем кругу: мулла Магомед дал ему камень, велел идти по горам, искать место, где много таких камней. Мулла якобы сказал: камень этот святой и место, где их много, тоже святое, кто пробудет там целый день – попадет в рай. Камень странный – рыжеватый, с темными вкраплениями. Такое же задание получили другие религиозники, но камни у них другого цвета. Между получившими задание от муллы идет жестокий спор: чей камень самый святой? Разгадать эту загадку пока не могу, поэтому сообщаю ее без соображений.
Больше интересного сообщить не имею.
Шестой.