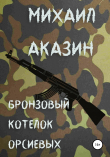Текст книги "Час двуликого"
Автор книги: Евгений Чебалин
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 38 страниц)
11
Вечером Быков сидел за своим столом и умилялся. День пролетел, плотно набитый следственной и оперативной суетой. Но была в нем отдушина для души, которую Быков разрешил себе в полдень, – он попросту сбежал в кино.
Однако пора было приступать к делам, их набиралось к ночи достаточно. Быков сдвинул листья на край стола, придавил их пухлым следственным томом: пусть подсохнут. Придвинул к себе письмо, исписанное каракулями, вчитался:
«Ми, Хамзат жалаим сдаваца. («Мы – Николай Второй», – усмехнулся Быков.) Советы писал указ про доброявка, и мы жалаим яво випалнят на аул Хисти-рюрт вместе с Дахкильгов и Цечоев.
Ми будим сдават оружию в сакля чечен Гучиев».
Быков понюхал письмо – тонкий лощеный лист, – он едва слышно пах духами. Быков качнул головой: у абрека Хамзата лощеная бумага и духи? Старается господин Митцинский, крепко старается сдержать слово перед Быковым. Письмо – дело его рук. А было все проще простого. Хамзата привели к Митцинскому мюриды, и он услышал: явишься на доброявку с повинной в ЧК, садись пиши письмо Быкову.
– Я не умею писать, – ответил Хамзат, – я бы вместо письма Быкову послал пулю.
– Всему свое время, – наверно, ответил шейх и сам засел за письмо.
Небось теперь мюриды сторожат семью Хамзата, пока Быков не заполучит обещанное. Крупно играет шейх, ох, крупно, если жертвует такой нужной фигурой, как Хамзат.
Позвонил дежурный, сказал:
– Здесь какой-то чеченец к вам, товарищ Быков. Говорит, что вы его ждете.
– Фамилия?
– Не говорит.
– Значит, уверяет, что жду?
– Так точно.
– Ну раз так – пропусти.
Раздались шаги по коридору. Быков откинулся на спинку кресла, голова ушла в тень. Громадный стол зеленого сукна был почти пуст. На нем – круг света от абажура, из-под пухлого тома вылезали края придавленных багряных листьев. Дверь распахнулась, вошел человек в бешмете. Прислонился плечом к стене, тихо кашлянул, сказал:
– Здравствуй, начальник. Я пришел.
– Вижу, – сказал Быков, – садись.
Чеченец сел напротив, размотал башлык. Смотрел хитровато, слабо улыбался. Быков вгляделся, обрадовался:
– Абу Ушахов. Ты, что ли?
– Конечно, я, – сказал Абу.
– Ай, молодец! Значит, жив да еще и здоров?
– Мал-мал кашляю еще. Ничо. Эт дел терпет можно.
– Это, я тебе скажу, оч-чень приятное событие, что ты пришел, ты даже не представляешь, как ты кстати. Чай пить будем?
– Почему не будем, давай!
– Кривонос! – зычно гаркнул Быков. – Петр Гаврилыч!
Абу вздрогнул, удивился:
– Такой маленький ты иест, Быков, а кирчишь, как буйвол. Я чуть не испугался.
Быков довольно хмыкнул, пояснил:
– Тренировка, брат. Я ведь статистом в опере был, молодой, нахальный – чего с меня взять? С самим Федор Иванычем Шаляпиным раз довелось петь.
– Сапсем не понимаю, – сокрушенно вздохнул Абу, – кто иест Шаляпи?
Вошел Кривонос:
– Звали, товарищ Быков?
– Побалуй нас чайком, Петр Гаврилыч, будь ласков, – попросил Быков.
– Сейчас согрею, – сказал Кривонос и вышел.
– Это я тебе поясню, – довольно прижмурился Быков, – все растолкую, кто есть Шаляпин.
Вышел из-за стола, расставил ноги, стал рассказывать:
– Шаляпин – это громадной красоты и силы русский мужик. И лучше его на земле еще никто не пел. Ростом он будет... – Быков задумался, потом махнул рукой, сообщил: – Еще одного Быкова на меня поставить, и выйдет Шаляпин.
Абу прикинул, удивился несказанно:
– Ахмедхан тогда сапсем пацан, что ли?
– Это кто, мюрид Митцинского?
– Мюрид.
– Щенок твой Ахмедхан рядом с Шаляпиным, – жестко сказал Быков. – Ну так вот. Выходит Федор Иванович Шаляпин на сцену в роли Мефистофеля и начинает...
– Быков, давай не торопи, – взмолился Абу, – ей-бох, не знай, кто иест Мипистопи.
– А это, брат, царь всех дьяволов, ну вроде бы предводитель над ними.
– Самый главни шайтан, что ли?
– Во-во. Он самый. Стоит Шаляпин на сцене, черный плащ с красной накидкой на нем, рожки на голове и глаза! Угли, я тебе скажу, а не глаза! Насквозь жгут! Жуть берет!
– Валла-билла, шайтан! – подтвердил, беспокойно заворочавшись, Абу.
– И вот раскрывает он рот...
Быков еще шире расставил ноги и оглушительно заорал:
– На земле-е-е-е весь род людско-о-ой!
Абу пригнулся, зажмурился, стал прочищать мизинцем ухо.
– ...чтит один кумир свяще-еге-еге-егенный! – ревел бледный Быков, прикрыв глаза. Абу ошарашенно моргал, смотрел со страхом.
– Он царит во всей вселе-еге-ге-еге-нной... – пошел вразнос Быков, поднялся на носки, закачался сомнамбулически.
– То-от кумир телец златой! – дьявольски ядовито закончил он. Крякнул. Глянул искоса на остолбеневшего Ушахова, подытожил:
– Ну а голос у Федора Ивановича, я бы сказал, раз в десять поболее моего.
Абу разогнулся. Всмотрелся в Быкова. Тот стоял, довольно жмурился, покачивался с носка на пятку – маленький, непонятный, страшноватый мужичок с диким голосом. Если у русских такие карлики, то какие у них великаны?
– Осто-о-о... – сипло и уважительно протянул Абу. Прокашлялся, сказал потрясение: – Ей-бох, ты сапсем как шайтан киричал, Быков.
– Ты бы меня раньше послушал, – прошелся перед столом Быков. Глянул остренько на Ушахова, с маху перескочил к делу: – Сын твой вчера здесь был. Вести хорошие от Шамиля принес. Ух, вести, я тебе скажу. Кроме тебя и сына, кто про Шамиля знает?
– Никто.
– Это хорошо-о. Береженого бог бережет. Мамашу твою и Саида мы аккуратно в другой дом переселили. На их прежнем месте теперь наш человек живет, всем, кто спросит про Шамиля, он отвечает, что уехал тот к корейцам за женьшенем.
Абу вздохнул:
– Один чалавек сказал: такой лекарство сильно памагаит. Кто слепой – того смотреть будит, кто ног нет – того лезгинка может танцевать. Скажи, Быков, твой шеньшень памагаит, если чалавек сыдыт, кушат не хочит, гаварит не может?
– Что, не лучше Мадине?
– Пулоха, сапсем пулоха, – сокрушенно сказал Абу, – сыдыт дженщина сапсем как мертвый.
– Будет тебе женьшень, Абу, – серьезно сказал Быков, болезненно поморщился, – сколько горя навалила на вас бандитская сволота... А насчет женьшеня я другу своему на Дальний Восток напишу, такой это человек: если нужно – сделает. Вот только не знаю, поможет ли оно супруге твоей. Давай-ка, брат, мы ее к врачам, а?
– Хороший ты чалавек, – тихо сказал Ушахов, – сапсем как наш присидатель Гелани. Ей-бох, тибе если чеченский мать родила, тибе на место присидатель ревкома Вадуев садица нада.
– Да я уж как-нибудь на своем. Чем еще могу помочь? В чем нужда имеется?
– Иест один силно балшой нужда, – твердо сказал Абу, – патаму к тибе пиршол. Эт дэл сделаишь – мине ничо болша не нада.
– Давай твою нужду.
– Твой мужской слово даешь?
– Даю.
– Форзон дай.
– Что-что?
– Машина железни иест такой. Громко рычит, силно воняит, по земле мунога пулуг тащит.
– Трактор, значит, тебе?
– Валла-билла, трактор. Форзон яво фамилие.
Быков искоса посмотрел на Абу. Наклонился, тихо спросил:
– А как насчет аэроплана?
– Чего?
– Аэроплан в придачу не возьмешь? Громко ревет. По воздуху летает. В хозяйстве пригодится. Может, возьмешь?
– Твоя плохой шутка, – угрюмо сказал Абу.
– Ну извини. Давай шути ты. Развеселый разговор у нас получается.
– Абу Ушахов тибе Хамзата вместе с яво луди давал. Шамиль на двор у Митцинский мюридом сел, тожа на тибя работаит. Руслан Ушахов Хистир-Юрт комсомол собирает. Тибе адин турактор для Абу жалко. Не мужчина ты. Ростов пойду. Турактор там искать будем.
– Ты соображаешь, что просишь? – жестко спросил Быков, катая желваки по скулам. – Трактор! «Фордзон»! Их сам Калинин поштучно по России распределяет! Мы за них валютой Америке платим, а золото это кровью нашей народной омыто. Трактор ему, видите, захотелось!
– Ты слово мине давал, – тоскливо напомнил Абу. Поднялся, горбясь, пошел к двери.
– Ах ты боже ж мой! – страдальчески вскинулся Быков. – Да зачем тебе «фордзон»? Что за блажь втемяшилась?
– Хилеб будим сажать! Кукуруза – тоже. Яво все может! – угрюмо выцедил Абу.
Расправил Быков гимнастерку на поясе. Далеко зашел разговор.
– Брат у тебя – золото. А вот ты... ну получишь ты трактор, засеешь поле. Наймешь батраков, хлеб соберешь. А потом спекулировать станешь. За горло рабочего ценою ухватишь. Разжиреешь, остервенишься в кулаках. А мы тебя за это к стенке – так, что ли? Зачем же с крестьянским родом Ушаховых врагами быть? Об этом думал?
– Киричать тибе – хорошо получаитца. А башка дырявый. Сапсем пулоха варит твой башка, – с сожалением сказал Ушахов.
– Это за что же ты меня так приласкал? – изумился Быков.
– Форзон зачем мине?! – гневно крикнул Абу. – Форзон весь аул будит пахат земля! Форзон мост, дорога делаит! Форзон весь Хистир-Юрт в новый джизня таскат будит!
Задыхаясь, стал глухо кашлять в отворот бешмета, нездоровым, кирпичным румянцем окрасилось его лицо. Передохнул, стал говорить, с трудом подбирая слова, выкладывал Быкову все, что в муках вызревало долгими ночами в его голове. И с каждым его словом, теплея лицом, все больше поражался Быков стройности выстраданного чеченцем суждения, дивился про себя: сколько же должен перелопатить крестьянского кондового опыта этот человек, прежде чем открылась ему во всем своем величии не вычитанная и не подслушанная нигде идея крестьянской коммуны.
Все продумал Абу: где распахать, что засеять и как распределять выращенное, чем платить государству налог и как заинтересовать коммунаров работой, на чем строить связь аула с городом и что делать с бездельниками.
Продираясь сквозь дебри бытовых, религиозных и национальных неурядиц, что виделись ему в новом деле, упрямо находил он единственно правильные решения, основанные на здравом смысле и вековечной мечте крестьянина о добротной жизни.
«Вот он и готовый председатель коммуны», – подумал Быков и осознал вдруг с внезапным чувством раскаяния свою зашоренность, когда дела и заботы чекистские заслонили незаметно главное, ради чего он сжигал себя в трудном, кровавом деле, – человека, для которого делалось это дело.
Все продумал Ушахов. Дело оставалось за малым – за трактором. Абу замолчал, вытер пот на лбу.
– Говори еще, – попросил Быков.
– Тибе сапсем немношко исделат нада, – устало закончил Абу. – Форзон дай – Митцинского, Хамзата забери. Ей-бох, кирепко эти шакалы мешат будут.
Согласился с ним Быков, со всем серьезом и ответственностью согласился, что такая мелочь, как «фордзон» и изоляция Митцинского с Хамзатом, – ничто по сравнению с идеей коммуны, которую предстояло воплощать в жизнь Абу и его односельчанам.
Сел Быков за свой стол, перегнулся к Ушахову, хитро спросил:
– Ну а вдруг с «фордзоном» получится. Как управляться с ним станешь? Водить-то не умеешь, трактор – не кобыла. А?
– Гаварят, русский на дечик-пондур медведя учил играть. Мине на форзон тожа скакать научит, – равнодушно отмахнулся от проблемы Абу. Не было тут проблемы для него, поднявшего на ноги братьев своих и семью, ушедшего от банды в идею коммуны.
– Это же ни в какие ворота не лезет, – весело изумился Быков, – частнику трактор в личное пользование, а? Мне с этим анекдотом надо на оргбюро в Ростов выходить!
Быков захохотал, потряс Абу за плечо.
Абу потерял сознание. Когда он очнулся. Быков хлопотал возле него, сокрушенно причитая:
– Ну извини, брат... совсем забыл про твое ранение... напугал ты меня... Ну как?
– Ничо, – сказал Абу шепотом, – форзон давай.
– Попробую на Микояна выйти, объясню ситуацию.
Сел Быков, положил ладони на колени Абу, заглянул в глаза:
– Завтра трое бандитов в Хистир-Юрте с доброявкой придут. Переводчиком с моими пойдешь?
– Пойду, – сказал Абу, – давай на Микояна выходи. Яво не спит, сапсем рано ишо.
Быков глянул на часы, хмыкнул:
– Во-во. Самое время. Полночь.
Кривонос наконец принес чай. Железные кружки на медном подносе курились паром. Рядом с ними – две глыбы сахара, каждая с кулак. Везло Быкову на сотрапезников по чаю: с Бичаевым Султаном здесь ладно чаевничали, и вот теперь с Ушаховым намечалась эта мудрая процедура.
12
Хистир-Юрт просыпался. Над улицей стлался туман. Разноголосо взревывало, звенело медью бубенцов уходящее в пастьбу стадо – на пустынные поля и пожелтевшие отроги, на скудную ржаную стерню выгонял круторогих аульских кормилиц пастух Ца.
Все дальше в седую изморось утекал медный перезвон, пухлыми подушками оседала взбитая копытами пыль. Вот и затихло все. Слышен лишь сдержанный людской гул.
Толпа аульчан полукругом растеклась около стоящей на отшибе сакли. Переминались, перешептывались.
На окраине показались три всадника. Это Аврамов, Рутова и Ушахов. Неторопко покачивались в седлах, переговаривались вполголоса. Приближалась сакля.
Будто ветер тронул тесно сгрудившихся людей, то ли стон, то ли всхлип взметнулся и опал над слепленной любопытством и тревогой толпой: в числе трех ехал на коне оживший покойник Ушахов. Разный хабар ходил про старшего рода Ушаховых – будто сильно уважает его сам маленький и грозный начальник ЧК, будто поклялся Абу не браться за оружие до могилы. Глупый хабар – рассуждали многие: как можно такую клятву давать после смерти дочери, после того, как сам пролил на землю половину своей крови от пули Хамзата.
– Горячее дельце намечается, – сквозь зубы сказал Аврамов, обводя взглядом изумленные, настороженные лица, – внимательней, ребятушки... глазок бы мне еще на затылок. Сонюшка, как ты там?
– Вполне сносно, Григорий Васильевич.
– Ну и ладно. Абу, жив-здоров? Держи хвост пистолетом.
– Почему не держать? Держу. Из могила вылезал, на жирипца садился. Теперь пачему хвост пистолетом не держать?
– Во какие пироги с котятами, – удивился Аврамов, – а я-то думаю, я напрягаюсь: чего это весь народ всколыхнулся? Значит, с публичным воскрешением тебя, так, что ли?
– Мал-мал иест такой дэл.
Они спешились у самого порога избы. У двери стоял старик, держал в руках три винтовки и наган.
– Ох, боевой папаша, – весело изумился Аврамов, – можно сказать, до зубов и выше вооружился. Воккха стаг[8] 8
Воккха стаг – почтенный (чеч.).
[Закрыть] ты наш, дорогой, неужто против нас такой арсенал? Это же всех можно в один момент ухлопать, воскресить и еще раз на тот свет отправить с таким вооружением!
Старик что-то сказал.
– Он говорит, это оружие тех, что пришли на доброявку. Они в сакле без оружия, – перевел Абу.
– Знают порядок. Для начала неплохо, – процедил Аврамов, стряхивая пыль с галифе.
– Гриша, поздороваться надо, – шепнула Рутова.
– Не гони лошадей, Софья Ивановна. Для начала пыль с ушей и прочих мест отряхнем, как перед входом в чистилище. А потом и остальному черед придет.
Распрямился Аврамов пружинисто, гаркнул белозубо в толпу, замершую в ожидании:
– Салам алейкум, земляки! Как жизнь? Пусть все ваши хвори, напасти да заботы на меня упадут! А я как-нибудь побарахтаюсь, выдюжу.
Загудело, зашелестело в толпе. Пополз шепоток перевода от тех, кто знал русский язык. И когда пропитал перевод душу каждого, явственно пахнуло на троих из самых недр толпы теплом, облегчением. Дружно ответили люди.
Рутова сжала локоть Аврамова, перевела дыхание.
– Начнем, что ли? – Аврамов шагнул к двери.
Ему заступил дорогу старик, что-то сурово сказал.
– Он говорит: первые зашли сюда без оружия. Почему мы к ним с оружием идем?
– А ты передай ему, товарищ Ушахов, что чекист с оружием даже в постели не расстается. Это раз. А на второе передай ему, что мы не в гости к ним пришли, не хабар принесли, а от имени чрезвычайной комиссии, от имени ВЦИКа пришли повинную принимать от бандитов, у которых руки в крови. И оружие свое, данное нам государством и Советской властью, к их ногам класть не будем. Вот так.
Ушахов перевел старику. Повернулся к аульчанам, повторил. Толпа молчала. Тогда толкнул Аврамов дверь и шагнул в саклю. За ним – Рутова. Последним прикрыл дверь Ушахов, обернулся и замер: смотрел на него смертный враг его и палач Хамзат. А рядом с ним двое из шайки – неприметные молчуны. Так вот кто явился на доброявку, вот к кому послал его Быков. Не мог знать Абу мыслей Быкова, с которыми посылал тот Ушахова к его палачу. А были они вот какими: «Ты уж прости меня, Абу, посылаю доброявку принимать у палача твоего, Хамзата. Много тебе досталось. Если через это перешагнешь, через месть свою и злость, значит, самый трудный экзамен сдашь: на государственного человека».
Сидел Хамзат за столом и надеялся на прощение Советской власти. Будто не было у него за плечами стонов простреленных им, будто не захлебывался Абу Ушахов горячей кровью на своем кукурузном поле. Многое передумал Хамзат, подчиняясь приказу Митцинского, все учел, идя на доброявку, ко всему приготовился, но только не к этому – что явится повинную принимать Абу, тот самый, что выдал их всех, что перешагнул через него.
Взвизгнул под Хамзатом стул, отлетел в сторону. А сам он, распластавшись в длинном прыжке, был уже у окна, когда грохнул выстрел и разлетелось вдребезги стекло перед самым его лицом.
– Стоять! – крикнул Аврамов. Истекал дымком в его руке наган.
Хамзат отпрянул от окна, поднял руки.
– Что это вы, гражданин Хамзат, так нервничаете, – сказал укоризненно Аврамов, – ни поздороваться толком не успели, ни познакомиться, а уж драпать навострились. Невежливо как-то получается. Руки-то опустите. Вот так. И присядьте туда, где сидели. Поговорим для начала.
– Что, Хамзат, не ожидал? – спросил Абу. – Не добил ты меня, пожалел вторую пулю. Не хватило для меня одной. Вышла она под лопаткой. Знаешь, что я с ней сделал? В амулет зашил, на груди ношу. Думаю, покажу я ее тебе как-нибудь. Видишь, пригодилась, – так говорил Ушахов, не сводя глаз с Хамзата. Достал пулю, покатал ее на ладони.
– Абу, – сказал Аврамов, – убрал бы ты свинец. Видишь, гражданин Хамзат нервничает.
– Я свой дэл знаю. Молчи, – тихо велел Абу. – Идем. Здесь теперь нельзя говорить. Айда на улица. Там счас всяки-разный хабар ходит, ты стирлял, люди плохо про тибя думают.
– Это ты правильно подметил, – согласился Аврамов. – Теперь эту святую троицу никак нельзя в четырех стенах держать. Тут простор требуется. Всенародное обсуждение. Идем. А вы, граждане бывшие бандиты, не откажите в любезности, следуйте за нами тихо, спокойно и желательно без фокусов. И табуреточки с собой прихватите.
– Идем к людям, – позвал троих по-чеченски Абу.
Они вышли на улицу, первым Ушахов, за ним Рутова и последним Аврамов. В узком коридорчике он тихо сказал Софье:
– Соня, попаси Хамзата, сделай милость. У него что-то на правом боку под бешметом топорщится.
Трое поставили табуреты посреди площади, прямое пыль, сели. Теперь их мог судить весь аул. Ушахов заговорил, показывая людям пулю:
– Хамзат стрелял в меня. Я горец и должен сейчас пустить эту пулю обратно, чтобы остаться мужчиной. Братья говорили мне, когда заживала рана в лесу: если ты не убьешь Хамзата, это сделаем мы. Так поступали наши отцы и деды, исполняя закон предков.
Я нарушу его, я нарушу этот закон, хотя кровь застилает мне глаза и сердце кричит: стреляй. Но у Советской власти другой закон: человек человеку брат. И даже враг, если пришел к тебе и склонил голову, – уже не враг, если его принудила к этому совесть. Матери дали нам жизнь не для того, чтобы мы стреляли друг в друга. Вот почему я дал клятву не брать больше в руки оружие. У нас есть дело поважнее, Советы учат нас жить по-новому, лучше, и я долго думал в лесу, как это сделать. Мужчины аула, наш председатель Гелани скажет, сколько у нас впереди работы, чтобы жизнь стала лучше, и поэтому грех тратить время на стрельбу. Вот почему я не буду пачкать руки о Хамзата и не пошлю обратно его пулю. Ее не хватило, чтобы убить меня...
– Тогда получи вторую! – крикнул Хамзат.
Не стоило говорить Ушахову о запачканных руках. Скор на руку был Хамзат. И лишь на миг опередила его Рутова, выстрелив влет, как привыкла стрелять в цирке по свечам.
Хамзат корчился на табурете, баюкая отбитую ладонь. У ног его лежал наган с расщепленной рукояткой.
Гневно ощерился, лапнул кобуру Аврамов – наливался густой краснотой шрам на его щеке. Рутова искоса глянула, испугалась, поднялась на носки, крикнула поверх голов отчаянно:
– Жены, дети у этих троих есть? Покажитесь нам, не бойтесь!
Ушахов перевел. Где-то в глубине аульчан забродило слабое движение. Оно волной перекатилось к краю, и толпа исторгнула трех женщин с детьми.
– Мы пришли сюда не карать! – звенел и рвался голос Рутовой. – Мы посланы миловать! Советская власть поручила нам сказать этим людям: оглянитесь вокруг, бросьте оружие, выданное вам контрреволюцией. На их совести кровь и слезы советских граждан, они достойны самого строгого наказания!
И все же Советская власть решила простить их ради вот этих женщин, их жен, которые ни в чем не виноваты, ради детей, которым предстоит налаживать новую жизнь в горах. Эти люди получат не только прощение, но и материальную помощь! Так решило Советское правительство! Теперь судите сами этого... я не могу назвать его человеком. Даже пес не укусит руку, которая протягивает ему кусок хлеба.
– Ну, постреляли, и будет, – жестко сказал Аврамов. – Скажи им, Абу, что семена для посева, материю и деньги семьи могут получить завтра в сельсовете, у председателя Гелани. А после этого пусть явятся в ЧК – будем разбираться с каждым. Сами явятся, без конвоя! Идем!
Они пошли к привязанным у сакли лошадям. Толпа продавливалась, разваливалась перед немигающим, жестким взглядом Аврамова.
– А еще переведи им... – яростно крутнулся он к Ушахову, – еще переведи, что нам стыдно за село, которое держало и укрывало вон того стервеца! И поэтому мы уезжаем.
Взревела, взорвалась криком толпа после перевода Ушахова. Старик на крыльце сакли уронил винтовки, поднял руку, сказал в наступившей тишине Ушахову:
– Не позорьте нас. Попроси своего начальника остаться. Как мы будем глядеть в глаза людям другого аула? Скажи своим друзьям, пусть отведают нашу скромную пищу, все уже приготовлено. А Хамзата мы будем судить сами, своим судом.
– Нет! – отрубил Аврамов. – Едем!
– Аврамов, – тихо сказал Абу, – пулоха делаишь. Оставаться нада, наш луди сильно обидишь. Смычка тут была, помнишь? Ты смычку паламаишь!
Ушахов молча, свирепо сопел, разбирая поводья. Вокруг Хамзата туго закручивалась людская воронка.
– Гришенька, миленький, – глянула в самую душу Аврамова Софья, – послушай Абу. Неладно, не по-людски выйдет. Мы же для них – Советская власть.
Они остались.
Оперсводка Чечотдела ОГПУ
За минувшую неделю к органам Советской власти и оперуполномоченным ЧК явились с повинной тринадцать человек. В том числе восемь чеченцев, четыре ингуша и двое грузин из банды Челокаева. Челокаевцы убиты в своих домах при возвращении. Дома подожжены. Жены и дети спасены.
Нач. Чечотдела ГПУ Быков.
Председателю облревкома тов. Вадуеву
За прошедший месяц на участке железной дороги Грозный – Гудермес, подответственном члену ревкома Митцинскому, не совершено ни одного нападения. Отмечаю надежную охрану дороги выделенной для этого дела сотней.
По просьбе облревкома и ЧК Митцинский сформировал еще две сотни для расширения участка охраны в пределах Алханкала – Грозный. Новые сотни образцово несут службу. Ходатайствую о награждении комотделений сотен и лично тов. Митцинского денежной премией.
Нач. Чечотдела ГПУ Быков.