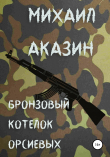Текст книги "Час двуликого"
Автор книги: Евгений Чебалин
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц)
Икая от сытости, мулла возвращался домой. Наползал на душу покой. И хотя не мешало бы немедленно пришлепнуть председателя Гелани, да уж ладно, можно и заменить, коль того желают старики и Осман. Грело главное – он в председателях остался, Митцинский же возьмет себе самое муторное – председательские дела. А остальное – почет и подношения, – как было при мулле, так и останется. В конце концов суть дела в этом. На глазах крепли Советы, на глазах дряхлел меджлис, и удерживать вихляющую лодку прежним курсом становилось все труднее.
Мерцали под луной кремневые осколки на тропе, горбатилась, ползла вдоль плетня куцая тень муллы.
Он толкнул калитку в заборе, перешагнул высокий порог. Звякнуло кольцо цепи о проволоку, бесшумно поднялся в углу двора, блеснул глазами волкодав. Узнав хозяина, размеренно замахал хвостом.
Скрипнула дверь сарая, послышались шлепающие шаги. Подошел батрак – глухонемой Саид, что-то загундосил, разводя руками. Мулла вгляделся, понял – отпрашивается.
– Куда?
Немой приблизил лицо, досадливо заморгал: не разглядел вопроса на губах – темно. Мулла поморщился, повернулся лицом к луне, повторил:
– Куда тебе надо?
Саид наконец понял, пояснил: в город, погостить к брату Шамилю и матери.
– Надолго?
Немой показал шесть пальцев. Мулла приоткрыл рот, задохнулся от возмущения: на неделю?! А коровы, овцы, скот?.. Султан пропал в налете, Хамзат ранен – кто поможет во дворе вести хозяйство?
Немой гундосил, набычился, смотрел исподлобья. В глазницах сгустилась черная грозная тень. У муллы – холод по спине.
Ничего не поделаешь, надо отпускать. Немой работает за еду и обноски, обходится даже дешевле пропавшего Султана. Уйдет – попробуй найди такого.
– Ладно, иди. Даю пять дней, – показал на пальцах.
Немой угрюмо засопел, однако кивнул, согласился. Развернулся, побежал трусцой к сараю – там жил, хранил нехитрые свои пожитки летом. Зимой уходил в саклю к брату, пастуху Ца. Через минуту вышел с ружьем и хурджином, протопал мимо, покосился, осклабился. Мулла проводил взглядом, сплюнул: вороватое племя. Дерзок и нечист на руку: тайком таскает порох и заряды для ружья.
Приходится закрывать глаза: ворочает на скотном дворе без передыху и жалоб. А в хурджине сейчас наверняка ворованная баранина для городского братца – сам ведь резал, сам сушил под крышей мясо, как не утащить?.. За всем не уследишь...
Немой закрыл за собой калитку. Закачалась, удаляясь в лимонно-лунном полусвете, смутная голова над плетнем. Мулла вздохнул. Остался двор без двух работников. Султан наверняка убит, Хамзат и Асхаб на расспросы ощерились, много не выспросишь у таких. Все труднее управляться с ними, все меньше приносят добычи. Ну что ж, пусть теперь огрызаются на Митцинского, об этого недолго и зубы обломать. Вспомнил – вздрогнул: перстень на руке у Османа, знак халифата. Поежился – ох, высоко взлетел Осман. Когда успел, кто подтолкнул? Не иначе – Омар, тот, говорят, ворочает делами при Антанте. Поежился мулла: не угодишь – раздавят ведь. Не забыть завтра предупредить Хамзата – больше никаких налетов на поезда и никаких поджогов. Власть и направление переменились, так переменились, что и Гелани ненавистный получил отсрочку неизвестно на сколько.
Мулла вздохнул, пошел вдоль проволоки, на которой сидел цепняк. Кобель поднялся, с визгом потянулся – сытый, лощеный, отливала шерсть серебром под луной. Подошел, ткнул в ладонь холодным носом – приласкай, хозяин. Мулла задумался, почесывая теплую, мосластую башку. Грохнул спросонок в переборку жеребец, коротко заржала в ответ жеребая кобыла. В птичнике встрепенулся, залопотал индюк, отозвалось тревожным бормотаньем все индюшиное стадо. В загоне у овец было тихо. Вся живность мирно коротала ночь.
Мулла широко, с подвизгом зевнул, оттолкнул кобеля, пошел к дому. Тяжело булькало в животе с полведра калмыцкого чаю. Хороший чай приготовила Фариза у Митцинского.
19
Буйволицу не подоили вечером, и вымя ее распирало молоко. Черная, невидимая в ночи, она переступила клешнястыми ногами, шагнула к огню. Сухо цокали копыта. В зыбком свете костра смутно проявилась ее морда, блеснула кроваво-фиолетовым выпуклым глазом. Пастух Ца оглянулся, поднял папаху:
– Салам алейкум. Давно не виделись. Присаживайся, гостьей будешь.
Буйволица свесила мохнатое ухо, обиженно промычала из самой глубины утробы:
– Мр-ру-у-у...
Ца примирительно сказал:
– Подожди немного. Скоро подою.
Племянник Руслан засмеялся:
– Поговори с ней еще. Надоело ей весь день молчать.
Абу лежал рядом на ватном залатанном одеяле. Потянулся, заложил руки за спину. Сладостной истомой зудели натруженные ноги. Внезапно остро, до боли сжало сердце воспоминание: проклятый налет, грохот ружей, людские вопли, кровь. Султана нет... Несчастный и смешной плясун, погнавшийся за счастьем... А поманили пальцем волки – Асхаб с Хамзатом. Собственное счастье, на чужой крови замешенное, ненадежно.
В зыбком освещенном круге костра появилась Мадина – собирала к ужину. Звякнули и улеглись на одеяле ложки, чашка. Посыпалась краснобокая редиска.
Абу вздохнул полной грудью, повернулся на спину, уставился на звезды. С гор стекала ночная прохлада. Неистово заходились в любовной неге лягушки у недалекого родника. Потрескивал костер. Абу медленно всем телом потянулся: забыть, прогнать видение налета. Тогда все хорошо и надежно станет. Все самое родное на этой земле двигалось и дышало поблизости. Лежала под боком двухмесячная дочь. Хлопотала у костра жена, сидели, умостив подбородки на коленях, брат Ца и сын Руслан.
А за костром – лишь руку протяни – бугрился вскопанной, рассыпчатой землей клочок его пашни, отвоеванный у леса, у горы, ухоженный, политый потом и водою. Они все хорошо сегодня потрудились: полили, пропололи кукурузу на половине поля. Завтра – остальное. Кукуруза вымахала в полтора роста, налились молоком, упругой тяжестью початки. Ца, пригнав стадо в аул, помог под вечер.
Буйволица подняла хвост, повернула голову, грозно и коротко предупредила:
– Хр-р-р...
В ночи треснула под чьей-то ногой ветка, зашуршали шаги. Абу приподнялся. В круг света вошел глухонемой Саид, ухмыльнулся, увидев братьев, шлепнул на землю тяжелый хурджин и положил рядом ружье. Буйволица опустила хвост, мирно сопнула – свой.
Абу поднялся, обнял брата. Теперь не хватало только Шамиля. Но тот в городе, мастерит на фабрике табуретки, откололся от семьи давно, лет десять, и живет среди русских, обрусел окончательно, по-русски говорит лучше, чем по-чеченски. Киснет без настоящего дела, все пресным кажется после армейской разведки.
Саид присел на пятки, замычал, стал делиться хабаром, руки дергались, мельтешили, глаза вытаращены – ох, интересный хабар! Абу переводил – он понимал немого лучше других:
– У Митцинского собирались старики. Мулла ушел туда к обеду, был там до ночи. Перед вечером из дома выскочил какой-то грузин в бурке, рот дергается, сам бешеный (скособочился, оскалил зубы). Его поджидали трое на лошадях, уехали задами, по ущелью, коней хлестали, не жалея. Старики и мулла остались, сидели еще долго.
Днем к мулле приходил председатель сельсовета Гелани по поводу уплаты налога. Муллу перекосило, задергал коленкой – стал страшный. Не сказал ни слова. Только теперь недолго быть Гелани в председателях – убьют, как прежнего, Хасана.
Здесь Абу прервал перевод, насупился, процедил сквозь зубы: «Этим вонючим хорькам мало прежней крови, не напились». Перекатился на спину, задумался: «Жить бы теперь да жить. Новая власть поставила председателем Гелани. Был позавчера, стоял посреди двора худой, как таркал[2] 2
Таркал – палка.
[Закрыть], черный от солнца, руки в трещинах – свой до последней жилки, все понимающий. В глазах – усталая тоска, нелегкий груз председательства тянул против течения. А течение – это мулла и Хамзат со своими головорезами. Пулю в спину всадят – охнуть не успеешь.
Сказал Гелани сдать Советам налог – два пуда кукурузы и три курицы – не весть о налоге в дом принес, а праздник. При царе вчетверо больше уплывало: старшина греб, мулла закят собирал, гарнизон Веденский остатки подчищал. К весне тараканы из сакли от голода разбегались. Мадина, Руслана родив, и неделю молоком не кормила – высохло, колоду у порога не могла переступить – падала от слабости. Старики многие умерли, Шамиль в армии порох жег, Ца в пастухах нищенствовал, Саид на муллу хребет гнул от темна до темна, у коров кукурузную болтушку воровал, чтобы выжить. Тогда-то и пришлось вступить старшему в шайку Хамзата. Убивать не убивал, а грабил, кое-что доставалось, продавал. Выжили.
Теперь поле есть, руки-ноги целы, пулей не перебиты. Кукуруза родит: и новой власти хватит, и себе до нового урожая. Руслан помощником растет, дочь на свет появилась. Саид охотится, мяса иногда приносит, Ца молоком от буйволицы помогает. Теперь отчего не жить – смотреть бы на белый свет и радоваться, да налеты в сердце занозой засели. И нужда в них пропала, и душа к ним до смертной тоски не лежит, а завяз: клятвой к Хамзату пристегнут, опасностью общей, годами риска.
Все было пополам – риск, добыча. Только давно отболела, отмерла у Абу волчья забава, а соратники во вкус вошли, сласть почуяли. Прошлый раз Султана потеряли, Асхаб рыжий со свинцом в глотке в вагоне остался, а все неймется Хамзату. Асхаб черный подбивает, с каждым налетом все больше сатанеет. Может, теперь прыти поубавится, – тоже ведь пулю в плечо схватил, с собой унес, хорошо хоть неглубоко задело, рука движется. Курейш – тот и рад бы бросить, да Хамзата боится и клятву тоже давал».
Мадина позвала к столу. Абу приподнялся, сел. Густо парила в котле над огнем кукурузная мамалыга, краснела промытая родниковой водой редиска на клеенке. Саид звучно сглотнул, полез в хурджин и выудил сушеную баранью грудинку с белыми кляксами жира. Раскрыл складной нож, стал с треском отделять ребра друг от друга.
Пастух Ца встал, позвал в темноту:
– Наси... э-э, Наси, где ты? Иди сюда, красавица, я соскучился!
Буйволиная голова вынырнула из темноты, шумно раздула ноздри. Ца звякнул дужкой ведра, призывно, нежно свистнул:
– Я готов, царица моего сердца, подходи!
Буйволица развернулась. Попятилась, осторожно переступая, пока не уткнулась в пастуха могучим крупом. Ца подмигнул. Мадина засмеялась, прикрыла рот. Руслан хлопнул в ладоши, придвинулся поближе. Ца присел на корточки, стал доить. Первая струя со звоном ударила в жестяное дно. Руслан посолил корку хлеба, пополз в темноту, к буйволиной голове. Ощупью поднес хлеб к теплым ноздрям. Наси вздохнула, мягкими губами взяла корку, стала перетирать. Хрустела крупная соль на зубах. Струи глухо журчали в ведре, зарываясь в молочную пену.
Ужинали в молчании. Дышала свежестью ночь. Ели баранину с редиской, потом мамалыгу с молоком. Саид с треском разгрызал крупный редис, мычал, делился радостью: после ужина пойдет в город, к утру будет у Шамиля с гостинцами. Мадина встрепенулась:
– Куда ночью пойдешь? Переночуй здесь.
Саид ухмыльнулся, похлопал по ружью. Абу не отговаривал, знал, как привязан Саид к брату, – близнецы.
Руслан, решившись, придвинулся к отцу, попросил вполголоса:
– Дада, можно я с Саидом?
Ему нестерпимо хотелось в город. Абу ответил сурово, досадуя, что приходится отказывать:
– Нам с матерью завтра не управиться вдвоем.
Руслан отодвинулся, дрогнула ложка в руке. Переждал: каша не лезла в горло. Вздохнул, злясь на себя, – знал ведь: что завтра работы на целый день. Мадина, отвернувшись, кормила грудью дочь. Посмотрела на сына – защемило сердце, попросила мужа:
– Пусть идет, как-нибудь управимся.
– Я сказал – нет! – отрезал Абу.
Свирепо хоркнула в темноте Наси. Ца задержал ложку у рта, прислушался. Ночь звенела голосами цикад.
– Наси... – позвал пастух.
Буйволица боком двинулась к костру, кособочила голову, раздувала ноздри.
– Абу, – окликнули из темноты, – подойди.
Абу узнал голос, сплюнул. Саид и Руслан переглянулись. Мадина прижала дочь к груди, глаза полнились ужасом. Абу тяжело поднялся. Даже скотина Наси, подойдя к костру, приветствует хозяина мычанием. А эти? Разве это люди? Порожденье тьмы, сычи. Пришли, каркнули из темноты, сторожат. Двинулся по тропе почти ощупью – в глазах плясали языки костра. Ветки стегали по лицу. Прошел с полсотни метров почти вслепую, пока не уткнулся в сгустки темноты. На тропе стояли двое. Спросил:
– Ну?
– Не хочешь с нами здороваться?
– Если гость не здоровается с хозяином костра, почему это должен делать хозяин?
Фигуры шевелились, понемногу принимали очертания: Асхаб черный и Хамзат. У Асхаба на плече под бешметом смутно белела повязка.
– Ладно, обойдемся без приветствий, – сказал Хамзат. – Как твоя кукуруза? Хороший ждешь урожай?
Абу хотел промолчать и не смог – кольнула насмешка в голосе.
– Тебя заботит мой урожай? Тогда приходи завтра на поле, станем носить воду из родника на гору, поливать кукурузу. Там узнаешь, как она растет.
– Советам будешь сдавать? – спросил Хамзат, глядя волком.
– Ты хочешь сделать это за меня? Я не против.
– Я хочу сделать другое – хочу напомнить, что бывает с предателями: их находят в лесу с дырявой головой, как нашли вашего Хасана. Напомни об этом председателю Гелани. И сам подумай.
– Ты пожалеешь о своих словах, – сказал Абу, спрятав руки за спину – подальше от соблазна. Если ударить, вплющить кулак в ненавистное лицо и крикнуть – подоспеют на помощь Ца и Саид. Ну справимся, повяжем, а что дальше? Сдать Гелани и отправить в город... за что? Убили Хасана? Как докажешь?.. Прошлый раз после убийства была милиция, ЧК и уехали ни с чем. Село как онемело – сработала круговая порука, хотя и висела шайка Хамзата на шее аула камнем. Абу перевел дыхание. Знобко, удушливо ворочался в груди гнев.
– Ты давал клятву? – тяжело, гвоздем вбил в него вопрос Асхаб черный.
Не увильнуть, не отмолчаться.
– Семь лет назад я сделал эту глупость.
– Разве клятва чеченца – это комок соли, который может размыть поток времени?
– Что вам надо?
– Нам нужно, чтобы человек, давший клятву, не сбрасывал ее с себя, как кожу, наподобие змеи. На русских – кровь Асхаба рыжего. Султана тоже нет. Мы возьмем с гаски[3] 3
Гаски – презрительно – русские (чеч.).
[Закрыть] эту кровь.
Зашлось в сосущей тоске сердце Абу: сколько можно?!
– Асхаб, руки даны человеку не только для того, чтобы держать оружие. Ими еще можно сажать дерево, стричь овцу, обнимать женщину, ими много можно делать, чтобы в человеке созрел покой. Твои руки не тоскуют по работе, когда ты смываешь с них кровь?
– Оставь заботу о моих руках мне, – покачал головой Асхаб. – Ты помнишь, что мы сказали? Через неделю налет на бакинский поезд. Утром он будет за Гудермесом. Собираемся там же, в перелеске, остановим на подъеме. И не забывай: если аллах не всегда карает преступивших клятву – мы помогаем ему в этом.
Они повернулись и растаяли в ночи. Ничего не изменилось. Надрывным, стонущим хором орали лягушки в бочажине. Тянули сквозь ночь сонные трели сверчки. Трепетала в листве ночная прохлада, стекая со склона горы. Вела свой нескончаемый хоровод армада звезд над головой.
Абу возвращался к костру. Ничего не изменилось в ночи, но что-то менялось в нем самом. Нельзя загонять человека в угол. Даже крыса, если ее загоняют в угол, бросает свое маленькое тело на загонщика, видя несокрушимые столбы его ног, уходящие вверх.
Костер разгорелся вовсю. Братья смотрели на подходящего Абу.
– Мадина, Руслан, мои слова не для вас. Руслан, проводи мать за водой.
Когда они ушли, Абу повернулся лицом к костру. Свет плясал на его лице, разглаживал борозды морщин. И Саид ясно увидел, а Ца услышал, как разомкнулись губы старшего и он сказал:
– Саид, тебе пора. Скажешь Шамилю: я пойду в налет на бакинский поезд вместе с ними. Это будет через неделю на подъеме за Гудермесом. Пусть он передаст это тем, кому надо. Ты понял меня?
Его не устроил кивок Саида, и он попросил:
– Повтори.
Саид повторял как мог, а ярость, пережитое унижение, сжигавшие Абу, окончательно переплавились в уверенность: нельзя загонять человека в угол, как крысу, ибо природа наделила его тем, в чем отказано животному, – достоинством. А за него полагается биться до смертной пелены в глазах, до последнего вздоха и капли крови. А когда она иссякнет, биться еще сколько нужно – до победы.
20
Быков, начальник Чечотдела ГПУ, повертел в руках и осторожно положил на стол указ о всеобщей амнистии и добровольной явке с повинной. Вздохнул. Весьма толковый, своевременный указ. Вот только веры в него побольше бы среди тех, к кому он обращен. Не идут с повинной, выжидают, затаились – кто первый осмелится на собственной шкуре испытать твердость слова Советов? Недоверие было к листкам, усыпанным черными буковками, – они висели по столбам на базарах, в городе, на аульских сельсоветах, – не привык горец доверяться бумажкам.
Тут нужно было подумать, фортель какой-нибудь сногсшибательный необходим был со стороны Быкова, нечто особенное.
Еще раз вздохнул Быков: а где его возьмешь, этот фортель, если голова гудит от бессонницы. Стал думать. В голову лезла всякая умилительная, к делу не относящаяся дребедень: у дочки Илонки разродились утром в аквариуме живородящие гуппи; мельтешили в глазах Быкова темные точки-мальки в зеленой аквариумной воде, всплывала восторженная курносая мордашка дочери. Крякнул Быков сокрушенно...
Было нестерпимо жарко. Быков взял со стола графин, перевесился через подоконник, вылил полграфина на голову. Растер шею, лицо до красноты. Полегчало.
Вспомнил: третьи сутки сидит в камере один из налетчиков – время для допроса никак не мог выкроить. Припомнил рассказ помначхоза из Веденской крепости Латыпова: налетчику седалище продырявили. Что ж, надо с этого, в седалище оскорбленного, и начинать, а там, если повезет и прыть появится, глядишь – и вынесет к этому самому фортелю. Крикнул караульного – велел привести налетчика.
...Султана вели по длинному, темному коридору.
Худо было Султану. Ни разу в жизни еще не было ему так плохо. Свербили тупой ноющей болью раны, присохшие под бинтами. Но боль была бы терпимой – если б это была одна телесная боль... Сидеть в камере он не мог, поэтому подолгу лежал на животе, уложив подбородок на нары. Давила на затылок каменная коробка, потолок давил. Как только он прикрывал глаза – стены камеры начинали сужаться, опускался потолок. Султан вскакивал, затравленно озирался. Сердце трепыхалось, по-сумасшедшему колотилось в ребра. Мучили тягучая тишина и неизвестность.
Тишину изредка нарушал лязг железа. Где-то в коридоре открывались с визгом, гулко хлопали двери – кого-то уводили на допрос. А про Султана забыли...
Становилось совсем невмоготу. Однажды он не выдержал – подбежал к двери, стал колотить в нее ногами, дико подвывая.
В двери возникла круглая дыра, и в нее заглянул чужой глаз. Он колыхался и жил в дыре сам по себе – пронзительный, всевидящий, – и крик застрял у Султана в глотке. После этого на него надели наручники.
Теперь вели на допрос, так и не сняв эти железки. Шли долго по нескончаемой кишке коридора, поворачивали и снова шли.
«Бить будут, – сжималось в тоске тело Султана, – бить и спрашивать, кто был с ним в налете. Не скажу, на куски станут резать – не скажу».
«Если на куски – скажешь», – ехидно возразил некто голенький, липкий, сидящий внутри.
«Не скажу!» – ярился в тоскливом страхе Султан.
Коридор уперся в тяжелую, глухую дверь, обитую дерматином. Караульный дернул ее за ручку, распахнул и выпятил подбородок:
– Вперед!
Султан шагнул через порог. Караульный вышел и притворил дверь. В огромном кабинете за большим столом сидел маленький седой человек и писал. Султан присмотрелся и удивился: «Какой недоносок. Меньше меня. Совсем пацан. Если будет бить, валла-билла, справлюсь. Дам по башке этой железкой, что на руках, с него хватит».
Немного успокоился, стал рассматривать кабинет. Маленький человек отложил ручку. Взгляд его уперся в лицо Султана, и у того стали слезиться глаза от нестерпимой плотности этого взгляда. Султан оторопел, согнулся, поморгал – в глазах щипало, как от лука, неожиданно для себя закричал:
– Не знай... ничто не знай! Сапсем дырявый башка, фамили не знай, как звать – тоже не сказал, гаварил: айда на поезд налетать будим, стирлять ми будим, ты лошатка караулить будишь!
– Ты чего кричишь? – удивился Быков. – Не знаешь, и не надо. Как звать?
– Чо ти гаварил? – осекся Султан, перевел дыхание.
– Спрашиваю: звать как?
– Моя звать Султан.
– А отца как звали?
– Али Бичаев звали.
– Значит, Султан Алиевич. Вот и ладненько. А я Быков. Дети есть?
– Нет дети. Дженщина тоже нет.
– Кулагин! – неожиданно громко крикнул маленький человек, и Султана передернуло от металлической зычности его голоса. В дверь просунулся караульный.
– Слушаю, товарищ Быков.
– Ты какого дьявола его в наручниках привел?
– Так он буйный, товарищ командир. Орет, ногами в дверь лупит.
– Странный ты человек, Кулагин, – пожал плечами Быков, – посади тебя в камеру на три дня с дыркой на интимном месте, небось не так заорешь, а? Ты, брат, наручники-то сними.
– Есть, – ответил Кулагин, насупился и снял наручники. Вышел.
Султан размял руки – порядком затекли.
Быков неожиданно закашлялся, передохнул, пожаловался Султану:
– Простыл я где-то. – Помолчал, спросил скучно, нехотя: – Говоришь, не стрелял, лошадей только караулил?
– Ей-бох, стирлял дургой луди, моя лошатка смотрел, – закивал головой Султан.
– А костер зачем под вагоном зажег? – так же скучно спросил Быков.
У Султана – мороз по коже: знает! На всякий случай оскорбился:
– Почему так говоришь? Огонь дургой луди делал, я...
– Опять же – лезгинку танцевал, – врезался в его речь Быков. – В вагоне люди горят, кони, а ты лезгинку наяриваешь. – Покачал головой, спросил недоуменно: – Людоед ты, что ли?
Не выносил Султан несправедливости. Ринулся к столу, закричал – жилы веревками на шее вспухли:
– Зачем людоед? Кито людоед? Тибе брехал какой собака? Моя лезгинка танцевал – сапсем костер не был! Моя слышал – вагон лошатка кирчит, тогда радовался, лезгинка танцевал: яво лошатка сибе биру, земля пахать иест на чом будит. А яво глупый вагон сидел, миня чириз акно стирлял, задний место попадал. Я тогда сапсем бешени становился, огонь зажигал, на вагон кирчал: виходи, атдавай лошатка, стирлять не будим!
– Ну вот, а говоришь – другие люди костер зажигали. Значит, все-таки ты зажег?
– Мал-мал я, – растерянно согласился Султан. Похолодел: кто за язык тянул? Как получилось, что сознался?
– Ну а дальше как было? Ты бы сам все рассказал. А то я других слушаю, а они, может, что и сочинят под горячую руку. Вот, говорят, когда бойцы ногу коня в вагон заталкивали, ты по ним стрелял, хотел, чтобы нога сгорела. За что же лошади такая мука, она чем виновата?
Султан разъярился, заикаться стал:
– К... кито тибе такой слова гаварил – тово на место язык змея сидит! Когда дува солдата нога жирипца вагон толкал, яво Махмуд и Ахмед винтовка целил, убивать хотел. Я их винтовка дергал, сапсем стирлять не давал. Лошатка сильно вагон киричал, мине жалел, яво, мине сердце тожа нест!
– Значит, Ахмед, Махмуд в банде были. Еще кто в налете участвовал?
Султан задохнулся:
– Какой Махмуд-Ахмед? Ей-бох, такой луди моя не знай.
Быков поморщился:
– Ну вот. Здрасьте вам. Сам только что рассказал – Махмуд, Ахмед в бойцов целили, а ты стрелять не давал. Не хочешь говорить – не надо. Возьмем Махмуда с Ахмедом – они расскажут.
Бичаев заплакал. Он скрипел зубами и мотал головой. Бить – не били, не пытали, а товарищей выдал. Как получилось? Пропал теперь. Асхаб черный и Хамзат предателей не прощают. Быков сочувственно крякнул. Налил в стакан воды, поставил на край стола.
– Ну-ну... водички попей, Султан Алиевич... Эк тебя развезло.
Султан полыхнул глазами:
– Пошел чертовая матерь твоя водичка! Типерь стирляй, рука-нога на куски резай – моя молчат будит!
– Ну и молчи, – согласился Быков, – а мне от тебя больше ничего и не надо, все и так рассказал.
Султан застонал, стал бить себя ладонью по лицу.
– Э-э, мил человек, – встревожился Быков, – чего же после драки кулаками махать. Кулагин! – крикнул зычно.
И опять вздрогнул и подивился Султан: какой маленький человек, а голос как у буйвола.
Вошел Кулагин. Султан покосился, украдкой вытер слезину.
– Слушаю, товарищ Быков! – вытянулся у порога боец.
– Ты вот что, Кулагин, принес бы нам чаю, что ли. В груди ломит, простыл что-то я. Да и Султан Алиевич от чайку не откажется после приятной беседы.
Кулагин вышел. Бичаев, свирепо шмыгнув носом, сказал:
– Моя не будит чай. Сам пей.
– Ну вот, – огорчился Быков, – невыносимо вздорный у тебя характер, Султан Алиевич. Ты в мирных людей стрелял, из-за вас лошадь покалечилась, двое бойцов при смерти лежат. По закону за это к стенке надо, а я тебя чайку выпить уговариваю. Кто из нас обижаться должен?
Султан молчал. Кулагин принес две кружки, поставил на стол. Быков выдвинул ящик стола, достал две снежные глыбы сахара – каждая с кулак. В кружках булькнуло. Быков нагнулся, понюхал пар, зажмурился от удовольствия. Бичаев покосился, сглотнул слюну. Быков придвинул кружку на край стола, сказал:
– Пей. А то обижусь всерьез. Рассердиться тоже могу.
Стали пить. Железо обжигало пальцы. Быков перехватывал кружку, покряхтывал от удовольствия. Султан держал кружку полой бешмета, схлебывал, жмурился от горячего пара.
– Что делать умеешь? – наконец спросил Быков. – Курок нажимать, из винтовки бахать – у нас, брат, такому ремеслу и медведя в цирке учат. Делу настоящему обучен?
Султан отставил кружку, стал думать. Этот маленький начальник умел вытягивать из человека нужные ему слова, как вытягивают из глотки пса кусок сала на нитке.
– Мал-мал кукуруза сажай. Орех на гора тоже сажай. Эт дело я иест мастер.
Быков насмешливо хмыкнул, осадил:
– Ох-ох-ох. Не заливай.
– Какой такой слово: не заливай?
– Думается мне, привираешь ты здесь, Султан Алиевич, а?
– Султан никогда не заливай! – ощерился Султан и кружку с чаем от себя отодвинул.
Чай плеснул коричневой лужицей на стол. Быков промокнул лужицу бумагой, покачал головой:
– Фу-ты ну-ты, какие мы нервные. А сомнения мои выпирают оттого, Султан Алиевич, что порода орех – самая капризная из пород. Это дерево вырастить – тут, брат, знаешь, сколько масла в голове иметь надо? Так-то, мил друг. А у тебя в голове что? Пальба одна да лезгинка засели, да и то пулей в зад подпорченная.
Султан свирепо сопел. Быков, метнув взгляд исподлобья, продолжал давить:
– Я, к твоему сведению, в нашем саду третий год пытаюсь орех вырастить. Сохнет, хоть ты плачь! Так я же к этому делу с великой любовью в душе приступаю, можно сказать, благоговею перед мудрым деревом этим. А у тебя что в душе? Ты, брат, не обижайся: в душе у тебя, думается мне, одна злость горячая булькает, как шурпа в котелке. Не-е-ет, Султан Алиевич, не годишься ты для такого дела – жизнь ореховому дереву дать, – подытожил Быков, жмурясь, царапая сквозь щелочки глаз лицо Бичаева.
Растирали в порошок Султана на жерновах сомнения, и было это ему страсть как обидно, ибо орех сажать он действительно умел, так умел, что вряд ли в округе на сотню верст нашелся бы ему соперник в этом завлекательном и тонком деле.
Только словами здесь ничего не докажешь. Сидел перед ним маленький седой человечек, прихлебывал чай в свое удовольствие и не верил. А-а-у-уй!
– Э-э, начальник Быков!
– Ну?
– Моя-твоя слова, как дженщина на базар, дуруг на дуруга кидаим. Давай дело исделаем.
– Это как?
– Маленький дерево иест? Орех-мальчик давай.
– Сажать хочешь?
– Ей-бох, моя сажай, твоя смотри, как эт дел получаица.
Быков наморщил лоб, глянул остренько, пронзительно:
– Кто же летом дерево сажает?
– Давай! Мальчик-дерево мине давай! Посмотреть будишь! – в яростном упоении ударил в грудь Султан. Заходилось в надежде и тоске сердце – неужто напоследок удастся саженец в руках подержать?! Впивался отчаянно глазами, подзуживал: – Твоя орех сажай – эт дерево сапсем подыхай! Моя сажай – ей-бох, живи будит!
– Ни в жизнь! – ревнул азартно Быков, кружку отставил, подобрался, спину по-кошачьи дугой выгнул и гаркнул во все горло: – Кула-агин!
Заскочил Кулагин, оторопело вытянулся: начальство сверкало глазами в непонятном азарте.
– Слушаю, товарищ Быков!
– Чтоб через двадцать минут в наш сад два саженца ореха доставили! И чтобы корни в порядке были! Кругом марш!
– Есть! – дернул Кулагин во все лопатки приказание исполнять с усердием, ибо никогда и ничего не делал их Быков зря.
Быков, допивая чай, прощупывал взглядом исподлобья горе-налетчика. Поднялся, вытер руки платком, кивнул на дверь:
– Поехали, что ли, Султан Алиевич.
Сам пошел следом, на ходу переложив наган из кобуры в карман. В глазах стыла холодная усталость, куда азарт девался. Сыграл свое, ему одному понятное, – и баста, пора следующий ход рассчитывать.
Султан ходил по саду ГПУ, окольцованному высокой каменной стеной, жадно присматривался к стенам, раздувал ноздри. Быков стоял, прислонившись к дереву, посасывал пустой мундштучок. У стены цвели розы, в воздухе плавился тонкий аромат. За стеной приглушенно, неумолчно громыхал большой город.
Султан выбрал место.
– Лопата давай.
Быков кивнул на заступ у стены:
– Возьми.
Султан цепко ухватил лопату за черенок, рядом стояла вторая – побольше. Стал сноровисто врываться в землю, быстро рос земляной свежий бугор. Быков не выдержал – принес вторую лопату, крякнул, присоседился неподалеку. Султан подождал, пока Быков догонит, и заработал лопатой, кротом въедаясь в землю. Вскоре опередил на два штыка. Жилистый, сплетенный из одних мышц Быков обливался потом, не поспевал, по-рыбьи хватая воздух.
Бичаев кочетом скакнул из ямы, пошел вдоль стены, присматриваясь к земле. Насобирал в подол бешмета камней, высыпал в яму.
Скрипнула калитка, вошел Кулагин. В одной руке винтовка, в другой – растопырились корнями молодые саженцы с ярко-зелеными разлапистыми листьями.
Султан пошел к Кулагину, выбрал саженец, осмотрел корневище. Сказал Быкову ехидно:
– Твоя-моя – разный место сажай.
– Само... собой... – выдохнул Быков через паузу, похрипывая простреленным в гражданскую легким, взял у Кулагина саженец, отдышался, попросил: – Принеси-ка нам, будь ласков, по ведерочку колодезной. С маху, палкой воткнул деревцо в яму и стал сапогом подгребать землю, искоса поглядывая на Султана. Тот смотрел, морщился, терпел. Быков засыпал корни, стал топтаться поверху, трамбовал могилу саженцу. Бичаев ежился, страдал, однако помалкивал.
Быков вынул нож, раскрыл лезвие, стал чекрыжить сухую ветку. Когда примеривался, взял намеренно ниже сухого слоя, полоснул по живой ткани, по нежной коре. И этим доконал. Султан дернулся, закричал страдальчески: