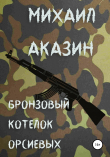Текст книги "Час двуликого"
Автор книги: Евгений Чебалин
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 38 страниц)
30
Федякин проснулся перед вечером в овраге – в нише, проточенной весенней талой водой. Вскинул голову, прислушался. За ухом застрял сухой лист.
Федякин сбил его, вяло отряхнул с френча сор, листья, крепко потер ладонями заросшее многодневной щетиной лицо.
Ночами не спалось, ворочались в голове неотвязные думы, короедом точила тоска. Намаявшись бессонницей, выбирался из оврага прогуляться. Ночь обволакивала его, липкая, душная, вкрадчивая, она давила на глаза тяжелым мраком до боли в зрачках. Казалось, лезут в самые зрачки невидимые, корявые сучки, вот-вот вопьются, проткнут. Ночь шелестела, ухала, потрескивала, стращала воем шакальим – не сомкнешь глаз. И Федякин наловчился отсыпаться днями.
Прямо перед ним вздыбился глинистый сухой обрыв. Далее он переходил в зеленый склон, что лез к синему клочку неба в просветах между кронами.
Федякин выбрался из оврага, огляделся. Разбавленный золотом закат вовсю полыхал вверху, а сюда, в низовое межстволье, уже настороженно вползали сумерки.
Федякин отыскал глазами чуть красноватую крону дикой груши, озираясь, направился к ней. Земля под грушей упруго продавливалась под сапогами, была усыпана облетевшей листвой. Он полазил по листве на коленях, набрал в карман груш – сплошь зелень, едва тронуты желтизной бочки. Пристроился в развесистом кусте неподалеку, пожевал терпкую, вяжущую рот кислятину. Свело скулы, защипало в глазах. В долгой, голодной спазме свело пустой желудок.
На соседнее дерево, привлеченная шорохом, опустилась сорока. Вопросительно чечекнула, вглядываясь в куст. Федякин хищно подобрался, не отрывая от сороки глаз, нашарил рядом обломок ветки. Сорока, подергивая хвостом, опустилась пониже, перекладывала вороненую головку с боку на бок – никак не разобрать, что за зверь затаился в кусте.
Федякин медленно завел руку назад, хекнув, метнул ветку в сороку. Ветка налетела на ствол рядом с сорокой, хрястнула на весь лес. Истошно затрещав, сорока взмыла свечой, понеслась зигзагом к соседнему дереву и там, плюхнувшись на сучок, долго, остервенело оповещала лес о страшном звере, затаившемся внизу, – человеке.
Федякин заплакал. Хотелось мяса, тепла, постели, жалко было себя, пропащего. Ярой тоской клубилось в нем ожидание еще одной ночи.
Легкий сквозняк колыхнул воздух, охладил мокрые от слез щетинистые щеки. Федякин почуял – еще одна ночь в овраге ему не под силу. Пусть поляна, стожок сена – только не лес. Набрал в карман побольше груш, двинулся к заросшему густым орешником перевалу. За ним в котловине лежал чеченский аул Хистир-Юрт. В ауле – Митцинский. Предписано было полковнику явиться к нему без промедления, да вот не вышло. Теперь примет ли?
Федякин подтянул штаны, зашагал, заплетаясь ногами, к перевалу – тощий френч болтался как на пугале.
31
Абу пробирался к своей сакле задами. Конь глухо шлепал копытами позади, дышал теплым в шею. Неистово светила луна, и угольно-черная тень ее ползла сбоку, заламываясь на плетнях и побеленных стволах яблонь.
Он нарочно задержался до ночи в городе с тем, чтобы в аул войти по темноте, сесть и подумать дома: как жить дальше?
Грозный гудел, растревоженный поимкой бандитов. Но суть дела, кроме Абу, знали в городе только трое – Шамиль, Быков и Аврамов. У Шамиля просидели дотемна, обсуждая операцию. Аврамов вернулся с операции под вечер, смотрелся злым бесом – глядеть муторно. Хамзат исчез, как сквозь землю провалился. Прочесали весь лесок вдоль и поперек, под гребенку – там ни души! За лесом, сколько хватал глаз, до самого горизонта, – ровное поле. Туда уйти Хамзат не мог. Оставалось одно: затаился где-то в поезде и затем спрыгнул на ходу. Аврамов получал жестокую взбучку в кабинете Быкова. Рутова ходила вдоль стены по двору ЧК, ломала пальцы.
. . . . . . . . .
...Шамиль, ссутулившись, сидел рядом с Абу, озабоченно посапывал. Хамзат сбежал, веселого мало. Мать молча присматривалась к сыновьям, накрывала на стол. Чуяла сердцем – что-то стряслось. Но спросить не решалась – если нужно, сами расскажут.
Поужинали в тишине. Дождавшись, когда выйдет мать, Шамиль поднял глаза, угрюмо сказал:
– Ночуй у нас сегодня, – настойчиво повторил: – Послушай меня, ночуй сегодня здесь.
– Мадина, Руслан там. Они ничего не знают.
– Мало ли где задержался мужчина.
– Я не о том, о Хамзате они не знают. Эта бешеная собака теперь вместо меня может любого укусить, кто на зуб попадет.
Шамиль зло засопел, стукнул кулаком по коленке:
– Тогда пойдем вместе!
– А мать на кого оставишь?
– Соседку попрошу, она присмотрит.
– Нет. Я сказал – нет. Утром с Гелани поднимем людей, ловить будем.
Шамиль вышел проводить Абу. Багровело небо над окраиной города, готовилась к восходу луна. Абу уехал.
Шамиль пошел в сарай, проверил капканы. Завтра идти с Аврамовым на барса. Тревога глодала сердце – как идти?
32
Абу привязал коня к плетню, долго, настороженно прислушивался. Сакля светилась под луной побеленными стенами. Смутно чернел квадрат окна. Дома никого не было. Что случилось? Где жена, дети? Зябко передернул плечами, зло ощерился: дожил, к своему дому ночью тайком, как вор, пробирается.
Распахнул дверь, пригнувшись, шагнул через порог в комнату. Прислонил ружье к стене. Густой полумрак, четко очерченный лунный квадрат на полу. Абу нашарил на подоконнике спички, ощупью поднял с комода лампу. Снял стекло, тряхнул бачок – слабо плеснуло. Керосина на донышке. Вот уже две недели в аул не завозили соли и керосина.
Абу чиркнул спичкой и вздрогнул от чужого голоса:
– Не зажигай.
В углу сидел Хамзат. Тускло блеснул ствол нагана в руке. Абу сделал шаг к ружью.
– Не успеешь. Стань к окну,
Спичка обожгла пальцы. Абу выронил обгоревший пенек, потряс рукой, сел на подоконник. Спросил:
– Где жена, дети?
– Тебе лучше знать, где шляется твоя жена.
Отлегло от сердца у Абу: тогда – легче. Руки-ноги целые.
– Хочешь поговорить напоследок? – спросил Хамзат.
– Поговорим, – согласился Абу. – Как ты ушел с поезда?
– А я не уходил. Я лежал на крыше, пока чекист нюхал пиджак и шляпу хазара. Я их сбросил с крыши в сторону леса.
– У тебя голова работает как у волка, – заметил Абу.
– Не жалуюсь. Это у меня выходит получше твоего.
– Ты не понял. У тебя голова устроена как у волка: умеет мало – как убить, а потом удрать. А чтобы жить с людьми, надо уметь другое. Выходит, не повезло тебе с головой.
– Говори-говори. Когда ты станешь подыхать, я успею насмотреться на тебя. Луна на улице.
– Скажи: ты не думал, что время утекло из-под тебя, а ты остался, как сом на мели? Когда я дал клятву быть с вами, мы стреляли в царских слуг на нашей земле и добывали кусок хлеба семье. Сейчас царя нет, слуги разбежались. Власть у нас – Гелани такой же горец, как ты. Поэтому у твоих детей больше не пухнут с голода животы. Зачем теперь льешь кровь?
– Ты мне надоел, – сказал Хамзат, – вставай.
– Куда денешь свою семью? У тебя двое сыновей, у меня три брата и взрослый сын. Хочешь резни? – больше от растерянности спросил Абу, потому что уходили последние минуты.
– Три брата? Что твои братья рядом с сотнями Митцинского?
– А при чем тут ты и Митцинский? – удивился Абу. – Его сотни сторожат дорогу, охраняют Советскую власть. Митцинский большой человек в ревкоме, он первый сдаст тебя в ЧК...
Хамзат ощерил в твердой улыбке губы:
– Он большой человек. Только не в ревкоме. Ты глупец, Абу. У Митцинского перстень от самого халифа, и его сотни скоро станут рубить Советам головы, Советам и их лакеям вроде тебя и председателя Гелани.
– Ты любил приврать и раньше, Хамзат.
– А зачем мне врать тебе? Это не моя тайна, но ты не успеешь уже продать ее Советам. Мне сказал обо всем мулла Магомед, а ему – Митцинский.
– Я не верю тебе.
– Идем. – Встал Хамзат. – Поднимись. Встань к стене, упрись руками. Теперь отойди на шаг.
Абу подчинился – не хотел крови в доме.
Хамзат обошел Абу, взял его ружье, стоящее у стены, разрядил:
– Выходи.
Они вышли на улицу. По-прежнему ярко светила луна. Конь, привязанный у плетня, потянулся к Абу, коротко заржал. «Непоеный», – коротко мелькнула и пропала у него мысль. Пришла пора думать о другом.
Хамзат повел Ушахова по знакомой тропе. Она тянулась к огороду, политому родниковой водой и его потом. В полном безветрии плавилась бликами на широких листьях орешника луна, заходились в немолчных трелях сверчки. Абу слушал их крик. Все было сейчас последним для него: и блеск луны, и сухой шорох листьев, цеплявшихся за одежду.
Хамзат выстрелил в Абу на краю огорода. Пуля прошла навылет пониже сердца и скатилась, обессиленная, по спине на землю. Абу упал, подмяв три кукурузных стебля. Из раздавленных початков просочилось молочко. Голова Ушахова лежала теперь рядом с медным кумганом, которым сын его носил воду из родника и забыл на поле. Хамзат хотел выстрелить еще раз, но тревожно загомонили на окраине аула, и он быстрыми шагами пошел в гору.
Когда все успокоилось, из кумгана вылезла любопытная лягушка и попала лапками во что-то липкое, незнакомо пахнувшее. Прыгнула изо всех сил, на лету наткнулась на стебель кукурузы, утробно квакнула, шлепнулась на землю и поползла прочь, в осоку – в привычный устоявшийся бочажок, подпитываемый родниковой водой.
...Два неторопливых силуэта, облитых лунным светом, случайно увидела соседка из-за плетня. Узнала Абу, подивилась – куда это он на ночь глядя? С кем? Зевнула. Возвратившись в саклю, легла. Одолевало любопытство. Она толкнула мужа, муж перевернулся на другой бок и захрапел. Вдалеке, в той стороне, куда ушел Абу, грянул выстрел, и соседку, успевшую уже задремать, подбросило на постели предчувствие. Муж так и не проснулся: отмахивался, мычал. Тогда она оделась и побежала к пастуху Ца – Мадина сказала ей, что пойдет туда ночевать с детьми, потому что без мужа страшно.
33
Мадина и нашла мужа. Мутно занимался рассвет, и она угадала обостренным чувством, что темный бугорок на краю поля и есть ее муж. Тяжело побежала туда, прижимая сверток с дочерью к груди. Руслан вместе с Ца уехали к Шамилю в город, велев ей как следует запереть двери. По аулу ходил тревожный хабар о разгроме банды Хамзата, приехавшая из города торговка чесноком рассказала о том, как несли через весь город убитого Асхаба.
Мадина опустилась на колени рядом с мужем, прижала ухо к его груди. Она скорее угадала, чем услышала, прерывистый, слабый стук сердца. Уже начало сереть на востоке, но здесь, у подножия горы, еще лежал плотный сумрак.
Мадина огляделась, подыскивая место для дочери. Выбрала густой куст у самого родника, расстелила на нем шаль и уложила туда Яху, как в люльку. Вернулась к Абу. Приподняла его под плечи и, пятясь, ломая хрусткие стебли кукурузы, потащила его наверх, в гору. Она знала, что домой им нельзя. Поэтому, изнемогая от тяжести каменно-холодного тела мужа, все выше поднималась с ним к подножию разрушенной веками, проросшей мощным строевым дубняком башни.
Внизу завозились, визгливо, гулко захохотали шакалы.
Солнце уже выпустило край багрового, сочащегося светом диска из-за леса, когда она, теряя сознание от усталости, цепляясь за стволы, извиваясь всем телом в непомерных усилиях, одолела последние метры перед входом в башню. Здесь ее покинули силы, и она рухнула рядом с мужем. Очнувшись через некоторое время, Мадина приподнялась на локте и бессмысленно огляделась: где она? Немо, угрюмо дыбились вокруг замшелые каменные стены. Она наткнулась на замутненный болью взгляд мужа. Он лежал рядом. Она угадала по движению губ:
– Пи-ить...
Она поднялась, сначала на четвереньки, затем, цепляясь опухшими, кровоточащими пальцами за трещины в стене, встала, утвердилась на дрожащих ногах и шагнула под гору: надо было намочить в роднике косынку и выжать ее на пересохшие губы мужа. Ее понесло вниз все быстрее, она едва успевала цепляться за проносящиеся мимо стволы и тем гасила стремительную, тяжкую силу, что увлекала ее вниз. Изловчившись – обхватила шершавый, гибкий ствол молодого дубка, передохнула. Переставляя негнущиеся ноги, спустилась еще ниже, на прогалину, долго запаленно дышала. Туманилась, расплывалась под ногами бурая лесная земля, искляксанная листьями, утыканная редкими, тощими травинами.
Отдышавшись, она подняла голову. Нашла взглядом уже недалекий плотно-зеленый шар куста у самого родника и задохнулась в тревожном предчувствии: свертка с дочерью на нем не было. Отпустила ствол. Ее опять понесло. Не удержавшись на ногах возле самого родника, она упала. Дикой болью обожгло плечо. Превозмогая себя, она доползла до куста, встала на колени, разворошила ветви. Дочь исчезла. У самых ног затекали грязью крупные, волчьего размаха следы шакалов. Мадина поползла по следам, уминая вязкую, темную жижу коленями. Следы обтекали куст и пропадали в траве.
Она нашла сверток с дочерью, когда солнце поднялось над лесом. Разорванный, выпачканный бурой грязью, он белел между валунами. Лицо трупика было объедено до кости. Она закричала. Это был пронзительный, воющий крик, вспоровший утреннюю тишину, в котором не осталось ничего человеческого. Крик долетел до Абу. Он приподнял голову, задрожал всем телом, пытаясь сдвинуться с места, потом упал на камни и больше не двигался.
34
«Брат! Я взбешен!
Где наблюдатели, советники Антанты? Где оружие, продовольствие, обмундирование? Мой мюридизм подобен горной речке в ливень: выходит из берегов. Мюридов, принесших мне тоба[5] 5
Тоба – клятва верности.
[Закрыть], более пяти тысяч, и этому не видно конца. Идут из Дагестана, Осетии, Кабарды.Вместе с терскими казаками, что обитают в плавнях, скрываясь от Советов, я мог бы уже сейчас выставить пятнадцать тысяч. В дальнейшем рассчитываю на девяносто тысяч. Но это пока дикая крестьянская орда без элементарных боевых навыков, не скрепленная единой идеей. Коран, призрак газавата и деньги – весьма ненадежный клей. Я постоянно сдерживаю всех и призываю к терпению. Сколько нам терпеть? Сколько кормиться обещаниями?
Брат! Поторопи имущих силы, власть и оружие. Вино, перестояв, становится уксусом.
С нами Аллах.
Осман».
35
Президент пребывал в затруднительном положении. Офицерская закваска буйно бродила в нем. С тех пор, как два года назад в Анкаре он стал председателем великого национального собрания Турции (ВНСТ), зеленый офицерский костюм был заменен на цивильное платье. Но когда требовалось собраться и принять важное решение, президент с наслаждением втискивался в опробованный панцирь офицерской формы.
Он сидел в беседке, закинув ногу за ногу, и покачивал сапогом. Лаковый глянец хорошо надраенной кожи вызывал умиротворение. Стены мраморной беседки составлял дикий виноград вперемежку с лианами. Это сочетание давало отличную, непроницаемую завесу, будоражило нюх вкрадчивым, бодрящим запахом.
В течение одного года он умудрился заключить три договора о дружбе и братстве: с РСФСР, республиками Закавказья и Украиной. Успел растратить на войну с Грецией десять миллионов российских золотых рублей. И вот сейчас, когда еще не остыло на ладонях тепло рукопожатий со славянами, изволь прятаться в беседке и слушать прожекты об интервенции в Россию.
Стороны прибыли пока не все. Сидели втроем за круглым инкрустированным столом под развесистым инжиром неподалеку от беседки: Реуф-бей, князь Челокаев и Омар Митцинский. Ожидали прибытия полковника французского генштаба из оккупационных войск господина Фурнье – последней договаривающейся стороны.
Князь Челокаев угрюмо молчал, презрительно щурился на великолепие вокруг: зелень, фонтан, мрамор. Чистоплюи. Писучие болтуны. Извергатели прожектов. Кровавое дело – вот единственно стоящее занятие на сегодня.
На тропинке, среди подстриженных газонов, показался полковник. Он приблизился к столу и склонил набриолиненную голову. Его душистая, бескостная рука вяло сплющилась в трех рукопожатиях. После этого Фурнье сел и заговорил по-французски: язык Ришелье и Наполеона должны знать все. Полковник предостерегал от язвы большевизма, разъедающей кавказский хребет. Он вонзал длинный, с острым ногтем палец в стол, забивая осиновый кол в могилу Советов.
Президент изнемогал от французского красноречия. Фурнье говорил об ответственности Франции и Турции за судьбы Европы. Президент вздрогнул и прикрыл глаза. Нет, он не ослышался: Франция и Турция... а давно ли за все отвечала лишь Франция? «Милейшая вы дрянь, полковник, – помыслил Ататюрк, – вы пронюхали, что о судьбах Европы вчера говорил здесь полковник Вильсон. Он тоже употребил это коротенькое, но сладчайшее «и»: Англия и Турция. Вам всем уже никуда не деться от этого коротенького «и», ибо турецкие войска уже разгромили греков, очищена Анатолия и скоро победный грохот ботинок турецких янычар до основания потрясет все ваши штабы, эти смердящие язвы на теле Стамбула. Это пока Франция и Турция, полковник. Скоро будет «Турция и Франция». И мы еще доживем, когда будет одна Турция без всяких приставок».
– ...Наши предложения выгодны обеим сторонам, – между тем журчал полковник, – французские войска, оружие, пропущенные через Турцию на Кавказ, пробьют на границе брешь и, раскаленные борьбой, воспламенят повстанцев Грузии, Чечни и Дагестана. Вам надлежит затем ввести в прорыв свои отряды, грузинскую и чеченскую колонии. Оговорим одну формальность: согласие вашего ВНСТ на пропуск наших войск. Большевики отброшены за Дон. Цивилизация Европы во франко-турецкой упаковке протиснется в прорыв и оплодотворит Кавказ экономически и духовно. Что же касается концессий и льгот на разработку недр... мсье! На территории Кавказа хватит места, чтобы, не толкаясь, обогатились две Турции и десять Франций!
– А почему не десять Турции и две Франции, мсье? – любезно осведомился Реуф-бей.
«О, умница», – растроганно подумал президент и дрогнул сапогом.
Фурнье обворожительно улыбнулся:
– Время покажет, милейший Реуф-бей, кого и чем судьба одарит на Кавказе. Существенней другое: готова ли Грузия к приему гостей? Князь, доставьте нам удовольствие прогнозом. Вы только что оттуда? Как настроение у повстанцев? Как паритетный комитет?
– Стервятники, – внятно сказал Челокаев.
– Что? – не понял Фурнье.
– Т-трусливые стервятники, – протяжно, заикаясь, сказал князь. – Ненавижу. Грызутся меж собой и истекают словоблудием. Изобретают крылья: правое и левое. Жордания и Церетели к-крыльями обзавелись, когда Грузия под сапогом Советов. Дискуссии и реверансы, теории. А нам попроще что-нибудь... топор, пулю. Или кухонный нож – чтобы глотку перерезать.
У Челокаева задергалась щека, бешено, ненавидяще косили глаза.
– Князь... – позвал осторожно Реуф-бей. Подумал брезгливо: «Истерик. Ба-ба. Нам только здесь припадков не хватало». – Князь... ваше имя – символ в Грузии...
– Я это уже слышал в Тифлисе. И в Париже. Когда ваши войска перейдут границу? Один короткий марш через хребет во сто крат полезнее всех этих заседаний.
– Вы нам даете гарантии?
– Какая вам нужна гарантия?
– Гарантия поддержки всей Грузии. Лишь тогда мы будем для Европы освободителями. В противном случае – мы оккупанты.
– Вас беспокоит мнение Европы? – задохнулся князь. – Этой продажной стервы? А я надеялся, господин Реуф-бей, что оккупация Турции Антантой излечила вас от розовых иллюзий! Вам нужны гарантии? Извольте! У пяти тысяч торговцев конфискованы лавки, у них отобраны средства к существованию. Сто тридцать тысяч дворян лишены дворянства. Пять тысяч кадрового офицерства разжалованы хамами, с их плеч сорваны погоны – символ доблести, чести! Итак – полтораста тысяч обесчещенных, лишенных привилегий и средств к существованию! Введите войска через Карс, Мургуд – и вся Грузия заполыхает!
– А дальше что? – угрюмо, неприязненно подал голос Митцинский. – В России под ружьем без малого миллион. Из ваших полтораста тысяч исключите торговцев, князь. Их нежный слух привык больше к звону золота, чем к орудийному грохоту. Да и дворянам претит запах крови. У вас останется от силы сто тысяч голубых кровей – это самое большее, что вы наскребете, помяните мое слово. Сто тысяч и российский миллион? И вы грезите надеждой, что большевики, имея этот миллион, без боя отдадут бакинскую и грозненскую нефть, черную кровь в жилах России?
– Зачем вы здесь, Митцинский? – бледнея, шепотом спросил Челокаев. – Вот эдакую арифметику трусов я уже слышал в Тифлисе и в Париже.
– Я уверяю, князь, – резко перебил Митцинский, – подреза́ть жилы активистам и спускать курок куда заманчивей и проще политической стратегии борьбы. Все ваши торговцы и дворяне для большевиков – лишь банда контрреволюционеров. Но если поднимется крестьянин, ради которого Советы заварили кашу, – вот это оплеуха на весь мир, от которой невозможно оправиться. Сколько у вас крестьян-повстанцев? Да-да – тех самых хамов! Сколько?
– А вот это уже по вашей части – з-завлекать хама. Тут нужна родственная душа, а меня увольте.
– Вы забываетесь, князь! – Митцинский встал, ощерился.
– Господа! – тревожно вскинулся Реуф-бей.
– Я не з-забываюсь! – горячечно заикаясь, выдохнул Челокаев. – С меня достаточно обезьяньей политики его братца Османа. Сидеть на чеченских хребтах и наблюдать за боем тигров в долине – что может быть забавней и безопаснее?
Митцинский засмеялся – трескуче, сухо.
– Ч-что означает ваш смех?
– Возьмите себя в руки, князь, – холодно сказал Митцинский, – вы бесспорно национальный герой. Но о серьезном с вами говорить рискованно, пока вы не дадите слово, что все сказанное здесь не станет достоянием других.
– Я... убью вас! – задыхаясь, сказал Челокаев, взявшись за кинжал. – Клянусь богом: еще одна мерзость из ваших уст – и я...
– Господа! Князь! Омар-хаджи! – помертвел Реуф-бей, с ужасом покосился на беседку.
– Вы меня не поняли, князь, – усмехнулся Митцинский, – речь идет о своеобразии манер в вашей боевой группировке. Вы ведь отчитываетесь обо всех контактах перед вашими «шепицулта кавшири», не так ли?
Челокаев молчал, ненавидяще косил глазами.
– Господа, сядьте, прошу вас! – оправился от пережитого и подпустил металла в голос Реуф-бей. Челокаев медленно опустился на скамью.
– Я не могу рисковать делом брата. Я должен быть уверен, что все сказанное о нем здесь останется между нами.
– Князь, Митцинский прав, – блеснул очками Реуф-бей и тонко, неприметно улыбнулся: горячих лошадей осаживают шпорой и хлыстом.
– Мне не пристало что-либо таить от братьев моих по борьбе. Единственное, в чем могу уверить, я доверяю им больше, чем себе, – подрагивал ноздрями Челокаев.
– Тогда наш разговор не может состояться. – Митцинский откинулся на резную спинку, сцепил руки на колене.
– Признаться, он мне стал надоедать, – жестко усмехнулся князь. Встал: – Прощайте, господа, приятной вам беседы, красивых изречений. А нас дела ждут. – Пошел к выходу, струнно натянутый, играя гибкой талией. Реуф-бей не окликнул, смотрел вслед исподлобья. Ничего, не велика утрата – уходит пешка с кинжалом, каких сотни.
У прохода в подстриженных кустах Челокаев остановился, крутнулся бешено назад, блеснул оскалом зубов:
– Плевать мне на Европу и на словоблудие ее! Нам Грузию надобно поднять не хартиями – делом! И я клянусь вам, мы это сделаем к Мариамобе! Запомните – Мариамоба, грузинский праздник! А опоздавших к делу мы и к столу не пустим, в шею, в рыло всю запоздавшую Европу! Так что поторопитесь, господа! – Ушел.
Митцинский дернул щекой, сказал усмехаясь:
– Вы знаете, как Осман его назвал при первой встрече? Всадник без головы. Слепец на лошади, маньяк резни. – Омар встал, выгнул треугольником бровь. Из запавших глаз хищно блестел острый взгляд. Заговорил, ощерив в твердом оскале зубы: – Господа! Князь прав в одном: больше медлить нельзя. Но не Грузию следует поднимать. Она обречена без поддержки Северного Кавказа. Через Кавказ на помощь осажденному русскому гарнизону в Грузию двинется большевистская армия. Я получил письмо от брата. В Чечне и Дагестане к восстанию готовы... – Он сделал паузу и выдохнул звенящим голосом: – девяносто тысяч!
Хвост суки Лейлы дернулся и заколотил по мраморному порогу. Президент, выдернув из-под ее морды сапог, подался всем телом вперед. Пальцы его вошли в шелковистый мех на шее собаки, крутили на ней колечки. Лейла потянулась, зевнула, обдав президента прогорклым запахом псины.
– ...И эти тысячи – не голубая кровь. У них каменные мозоли на руках, буйволиное упрямство и единая вера, перченная фанатизмом. Это – так называемый народ. Идти против него Советам – значит начинать гражданскую войну на Кавказе. Едва ли они решатся теперь на это.
Омар Митцинский торопился, дожимал. Вот-вот свершится то, ради чего покинул родину, скитался, унижался, карабкаясь по ступеням к немыслимым вершинам халифата.
– Настало время, господа. Решайтесь. Брат ждет реальной помощи оружием, деньгами, военными советниками. Он приглашает наблюдателей к себе: Европа должна увидеть его силы своими глазами, убедиться в грозной реальности происходящего.
Реуф-бей молчал. Снял пенсне, стал протирать его платком. Тишина давила осязаемой плотностью на плечи. Наконец сказал:
– Я доложу вышеизложенное президенту. – Поднялся, склонил голову.
Митцинский и Фурнье оторопели – их выпроваживали. Направились к выходу. На кителе Фурнье оскорбленно ежилась складка между лопатками. Реуф-бей усмехнулся, спросил вдогонку:
– Господин Фурнье, вы ведь не видели еще красот Кавказа? Чечня – сердцевина его. Гостей там любят, особенно званых.
Фурнье замедлил шаг. Не оборачиваясь, ответил:
– Я действительно не видел этих красот, Реуф-бей.
Митцинский и полковник скрылись за кустами. Реуф-бей сел лицом к беседке, стал ждать. Наконец сквозь плотную завесу зелени просочился голос:
– Вам не кажется, Реуф-бей, что все они подобны булыжникам на дне реки? Течение времени необратимо, а они обросли слизью и прилипли ко дну. Они забыли, что над Стамбулом течет уже двадцать второй год и наша национальная армия возвращается с победой из Греции. Они до сих пор не могут осмыслить, что их оккупации пришел конец.
– Я это отметил, ваше превосходительство.
– Для Фурнье разрешение нашего Национального собрания на пропуск их войск через Турцию в Россию – простая формальность, не так ли? Я не ослышался?
– Вы не ослышались, господин президент.
– Это становится любопытным. Мы вынуждены разочаровать полковника. В политике часто случается, когда простая формальность становится камнем преткновения. У нас слишком много накопилось своих проблем, чтобы превращать себя в трамплин для франко-английского прыжка в Россию. Я не намерен больше выслушивать ничьих суждений об интервенции в Россию или на Кавказ. Избавьте меня от этого.
«Вы их больше не услышите, президент, – холодно, непримиримо помыслил Реуф-бей, – я постараюсь, чтобы эти дела вас не коснулись».
Острым холодом опахнуло спину. Отныне он начинал свою игру, которая могла стоить ему головы в случае неудачи.
За удачей ждало президентское кресло. Игра стоила свеч.
– Я все понял, ваше величество, – сказал Реуф-бей, передохнув. Не так просто было осознать себя особью, только что отпочковавшейся от материнского организма.
– Иди, – раздалось из беседки. – Да, вот что... коммунисты основали у нас свою партию два года назад, срок достаточно большой, чтобы терпеливо сносить все их шалости. Теперь, признаться, заболела голова, ребенок потерял чувство меры.
– Я займусь им, завтра же.
– Ну-ну, не так резво. По крайней мере, чтобы вопли его не сразу услышали в России.
* * *
Омар-хаджи одолевал каменный уклон улицы. Вытертый до блеска булыжник все еще отдавал дневной жар, хотя густая тень от заходящего солнца напитала улицу. Мыльные потоки стирки струились по сточному желобу. Медленно колыхались над головой полотнища сохнущих простыней. Бедность благоухала как могла – пахло прогорклым жиром, кошачьей мочой.
Омар-хаджи толкнул вмазанную в стену низкую дверь, пригнувшись, вошел. У порога стоял на коленях крепкий бутуз годов трех от роду. На плутовской смышленой рожице влажно мерцали большие глаза, в раззявленном красногубом рту сахарно блестели два нижних зуба. Малец качнулся, сморгнул, сказал, с наслаждением перекатывая во рту российское «р»:
– Дядька пр-ришел... саля малеку. – Потянулся к черному глянцу сапога Омара-хаджи.
Митцинский брезгливо отдернул ногу и поймал взгляд Драча. Вахмистр мастерил в углу табурет: рукава засучены, ворох пышной стружки бугрился на полу. Драч встал, трескуче кашлянул, сказал:
– Здравия желаю, ваше благородие. Проходьте. – Придвинул стул. В глазах – понимающая жесткая усмешка: высокий гость побрезговал сыном. Омар-хаджи обошел мальца, сел, огляделся, давя в душе досаду – угораздило же отдернуть ногу.
На голоса вышла из кухни Марьям. Увидев гостя, полыхнула румянцем, опрометью метнулась назад – готовить угощение.
На стене – новый дешевенький коврик. В углу появился пузатый комод. На нем неистово сиял надраенный самовар. Входила в налаженное русло жизнь Драча.
– Как жизнь, вахмистр? – спросил Митцинский.
– Теперь, слава богу, выправились. Если б не вы... – умолк на полуслове. В голосе – натужная собачья преданность.
– Отдохнули? К службе готовы? – озлясь отчего-то, смял церемонии Митцинский.
– Так точно, ваше благородие, – приподнялся было Драч. Митцинский нетерпеливо махнул рукой – сидите! Помолчал.
На кухне приглушенно звякала посуда, из дверной щели тек запах горячего оливкового масла. На серую гладь давно не беленной стены выпорскнул таракан, застыл – наглый, усатый. Омар-хаджи брезгливо дрогнул ноздрями, стал бросать короткие, рубленые фразы:
– Поведете в Чечню троих. За их жизнь отвечаете головой. В Грузии вас подстрахуют, доведут до границы с Чечней. Увидите позади двоих в серых черкесках. Один будет держать в руке граммофонную пластинку, у другого – коробка с тортом. Это – свои. В разговоры с ними не вступайте, делайте свое дело. В Хистир-Юрт пробирайтесь самостоятельно. Как только доставите спутников к Митцинскому, немедленно возвращайтесь обратно. Вот задаток – пятьсот. Остальные получите при возвращении. И помните...
Омар-хаджи осекся, его рука с деньгами повисла в воздухе. Вахмистр смотрел тяжело, исподлобья в переносицу офицеру. На лице его дрожала недобрая улыбка.
– В чем дело, вахмистр?
– Маловато этого, ваше благородие. Детишки растут, цены на базаре ровно блохи скачут.
– Сколько вы хотите? – спросил Митцинский. В груди пухло тяжелое, брезгливое изумление: «Ах, ха-ам... ожил, быдло, осмелел».
– Мне задаток никак не меньше тыщи надобен, ваше благородие, а уж остальные пятьсот – по возвращении, как изволили сказать. Дело тонкое: людей к месту доставить – не бумажку пронести, там за троих головой в ответе.
– А не боитесь, вахмистр, что нас не устроит подорожавший связник? Вас ведь, готовых за два гроша на смерть, табуны в Турции скопились.