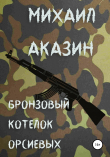Текст книги "Час двуликого"
Автор книги: Евгений Чебалин
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 38 страниц)
27
Митцинский еще раз перечитал письмо Омара, доставленное вторым визитом Драча, спрятал в карман. Мулла Магомед ждал. Митцинский придвинул к нему вареную баранину, лепешки, чай. Подумал: «Мерзость. Все... поистине все в нем мерзко».
Мулла ел, облизывая пальцы. Лицо – рыхлое, одутловатое, в черных точках угрей. Митцинский сидел, откинувшись в угол. Свет лампы падал на муллу. Лицо Митцинского, загороженное от света спинкой стула, было сумрачным, брезгливым, сливалось с желто-бордовым фоном бухарского ковра.
Мулла оторвался от еды, прикрыл глаза. Блаженство бродило по его лицу.
– С некоторых пор у меня неважно с памятью. Ты поможешь восстановить наши диалоги? – спросил Митцинский.
– Конечно, Осман, – перевел дух мулла, высматривая на блюде кусок пожирнее.
– На первом заседании меджлиса вы сказали мне: ты образован, умен, знаешь обычаи и законы орси. Так?
– Верно, – согласился мулла. Облюбовал баранью лопатку.
– Вы сказали: мы растеряны и разобщены, нам все труднее бороться с ними. Это так?
– Так, Осман, – промычал мулла с набитым ртом.
Он размеренно жевал. Что-то отчетливо, сухо щелкало в челюсти муллы, костяной, трескучий звук сопровождал каждое ее движение.
– Вы сказали: возьми управление меджлисом на себя, мулла Магомед будет твоим помощником. Я не ошибся?
– Ты правильно понял, Осман, – насторожился мулла, – но насчет меня было сказано, что я остаюсь формально во главе ме...
– Это одно и то же, – жестко перебил Митцинский, – поэтому я еще раз соберу меджлис, чтобы вывести тебя из его членов.
Мулла хлебнул воздух, поперхнулся, застыл с открытым ртом. Удушье синевой наползало на его лицо. Митцинский быстро схватил со стола газету, закрыл лицо. Мулла гулко кашлянул. Хлебные и мясные крошки с треском ударили в газету, в серую черкеску Митцинского. Он почувствовал, как натягивается кожа на лице. Содрогаясь от омерзения, отряхнулся:
– Я объясню свое требование тем, что ты мешаешь работать. Твое своеволие, неспособность к политическому анализу могут провалить все дело.
Мулла душил в себе кашель, боясь пропустить хоть слово, мутные слезы горошинами катились из глаз.
– О-о-о-сма-ан... – задушевно взмолился он, – п-п... подожди! – Закашлялся. Митцинский ждал.
– Зачем вы стреляли в Бичаева? – наконец спросил он. – Ты же слышал мое требование: никакой стрельбы, никакой крови! Ты забыл сказать об этом Хамзату и Асхабу? Или мои слова ничего не значат?
– Я говорил им, – просипел мулла, переводя дух, – они не стреляли.
– Кто? – загремел Митцинский. – Кто в ауле смеет нажать на курок без нашего ведома?
– Они не стреляли, – стоял на своем мулла, – я говорил с ними. Никто не знает стрелявшего.
– Если бывший председатель меджлиса, тамада не знает, кто в ауле посылает пулю в человека, – ему пора браться за другие дела. Например, месить тесто для чепалгаша.
Митцинский ударил наотмашь. Наблюдал, как раздирают противоречия сидящего напротив толстого человека: огрызнуться, укусить либо смириться с оскорблением.
«Ну же... ну! – подхлестнул он муллу. – Если тебя родила чеченская мать, если в тебе осталось хоть что-то мужское, ты выскажешь все, что думаешь обо мне. Тогда надо будет решить, что с тобой делать – убирать либо приспособить к делу».
Мулла решился. Слишком велико было оскорбление.
– Я еще председатель, Осман. И пока меджлис не скажет мне – уходи, я буду решать дела и задавать вопросы. У меня накопилось много вопросов к тебе, Осман. И ты будешь отвечать на них, клянусь аллахом, будешь!
Муллу душила ярость. Он забыл о перстне на пальце Митцинского.
– Ты стал членом их ревкома и убедил нас, что так нужно. Мы проверили. С тех пор ты делаешь все, что нужно тебе. Но почему получается так, что все твои дела угодны и Советам? Ты запретил стрелять в Бичаева, который, сидя на русском жеребце, зовет истинных мусульман идти с повинной в ЧК? Это нужно тебе. Но этого же хотят и Советы. Ты организовал и вооружил сотни мюридов. Они оказались нужны Советам для охраны дороги. Ты назвал их – шариатские сотни. Но с каких пор наши враги – казаки – стали детьми шариата? В полку немало казаков. Ты все больше водишься с русскими. Что за русский живет у тебя во дворе? Ты велел ему молчать, но он проболтался, думал, что он один в ущелье, и запел русскую песню.
– Чертов певец! – возмутился Митцинский. – Так глупо расколоться! – Подумал, предложил Магомеду, нахально посверкивая глазами: – Давай отрежем ему язык? А потом определим его к тебе в батраки. И у тебя станет два немых работника.
– У тебя живет еще один молчаливый! – Муллу трясло. – Но люди говорят, что он грузин.
– А грузину выколем глаза, – гнул свое Митцинский, – и он станет на ощупь сортировать яйца твоих индюшек, крупные – вправо, мелкие – влево.
– Вчера четыре арбы привезли в аул муку, рис, сушеное мясо.
– Ты даже это знаешь? И ни одна арба не заехала в твой двор. Все разгрузились у меня.
– Все четыре арбы сопровождали тоже городские. Они вьются около тебя. За то, что тебя снабжают Советы, пудами везут к тебе продовольствие? За что? – Мулла задохнулся в ярости.
Митцинский молчал, думал: «Восхитительная смесь жадности, глупости и недоверия. Его ненависть патологична. Поэтому представляет особую ценность. Он никогда не сможет измениться, пересмотреть убеждения. Пересматривают идеи, сформированные интеллектом. Здесь же ненависть на уровне рефлекса. Филин никогда не станет травоядным, овцу не заставишь потреблять мясо».
– Тебе нечего ответить? – продолжил мулла. – Эти же вопросы задаст тебе меджлис.
«Он перешел к угрозам. Это хорошо, значит, окончательно уверовал в собственную значимость. Тем неизбежнее станет потребность пресмыкаться после отрезвления. Принцип кнута и пряника особенно действует на этот вид. Его стоит посвятить в отдельные детали и запрячь таким образом. Увы, Магомед, я хотел оставить тебя в покое, но ты настырно рвешься в самую суть моего дела. Не обессудь, наденем узду и погоним без жалости. Когда надорвешься – устроим пышное погребение».
– Я ценил твой покой, Магомед. Ты заслужил его всей жизнью. Но ты загнал меня в угол вопросами. Их нельзя оставить без ответа. Я не мог солгать, плохая примета – унижать святое дело ложью.
Магомед усмехнулся.
– Прочти. – Митцинский протянул ему письмо Омара из Константинополя. Мулла осторожно взял листок.
«Брат! Ты жив и здоров милостью Аллаха, и мы порадовались твоей энергии. Стать членом областного ревкома – поистине дальновидный и крупный ход. Ты пишешь, что шариатские отряды насчитывают уже более трехсот человек и скоро это число удесятерится. Великий визирь сказал по этому поводу: «Я много ожидал. Но эти цифры выше ожидаемого».
И он дал понять, что ему угодна твоя энергия. Реуф-бей принимал генштабистов Антанты. Твое имя не раз упоминалось. Ты просил оружия. Драч расскажет о двух тайниках на вашей территории – это знак особого доверия к тебе Великого визиря.
О твоем желании иметь дело с Гваридзе из паритетного комитета Тифлиса ему передали. Он согласен встретиться. Где и когда – сообщит сам, жди. Целесообразно придать твоей сотне, охраняющей дорогу, дополнительные функции. Она может стать действенным коллективным связником твоей организации с нами и Тифлисом: безопасно, надежно, быстро. В Тифлисе очень серьезные силы и мощная организация. То, что они проявляют интерес к тебе, говорит о многом. О тебе будет доложено также В. К. Ник-Нику в Париж.
У меня, слава Аллаху, дела идут хорошо. Грузинский «ребенок» теперь имеет чеченского близнеца, которого кормим из английской соски. Оба толстеют. Я их общая нянька. Поглядываем за хребет, ждем, когда в Чечне опадут листья и начнет спеть мушмула. Держи нас в курсе всего. Обнимаю.
Твой брат Омар».
– Я беру назад свои вопросы, – сказал Магомед. Капли пота копились в бороздках морщин у него на лбу, набухая, скатывались по вискам.
– Поздно, Магомед, – покачал головой Митцинский. – Вопросы – не мера кукурузы, отданная в долг. Ты сам заставил меня отвечать на них. Теперь слушай ответы. Человек, оравший в ущелье русскую песню, – тот, кто принес это письмо оттуда. Грузин, о котором тебе донесли, посредник между Тифлисом и мной. Подводы с продовольствием – дар казачьих повстанцев. Часть из них влилась в мой отряд. Остальные пока сидят в низовьях Терека и ждут приказа.
Теперь ты знаешь то, чего тебе не полагалось знать, ибо дело касается международных отношений.
Человек слаб. У него есть язык и тело, подверженное боли. Его одолевают жадность, зависть, тщеславие – струны, играя на которых можно заполучить любую тайну. То, что теперь знаешь ты, не должен знать даже меджлис. Поэтому отныне все твои дела и слова станут стеречь трое моих мюридов – день и ночь. Если им что-то не понравится в твоем поведении, они раздавят тебя тихо и без хлопот, как ядовитое насекомое.
У меня нет выхода, Магомед, ты сам задавал вопросы, которые нельзя было оставить без ответа.
Мулла отгонял накатывающуюся дурноту. Он боялся потерять сознание. Беспамятство могло перейти в небытие, пока рядом с ним находился Митцинский.
– Что... мне теперь делать, Осман?
– Для начала избавься от лишнего веса. Ты неумерен в пище и мало двигаешься. Я ведь помню тебя стройным мужчиной. Ах, какой ты был представительный на праздниках аула. Особенно – когда молчал. Есть странная закономерность в горской психологии, Магомед. Идеи и проповеди, выпущенные в паству ожиревшим проповедником, плохо внедряются в ее сознание, ибо горец, истинный горец в наших преданиях всегда строен и дерзок, как барс.
Вошел Ахмедхан, стал собирать посуду. Митцинский кивком поблагодарил его.
– Прежде всего тебе надлежит сделать вот что: узнай, кто стрелял в Бичаева.
Поднос в руках у Ахмедхана дрогнул, покачнулся. Бокал задел пиалу, по комнате потек слабый хрустальный звон, его жадно впитывал густой, бордовый ворс настенного ковра. Митцинский вслушался, осторожно, боязливо (не спугнуть бы!), взял бокал, еще раз коснулся пиалы. Долго слушал пронзительно чистую ноту, теплея худым, смуглым лицом.
Ахмедхан вышел, Митцинский проводил его задумчивым, внимательным взглядом, продолжил:
– Твои новые проповеди надо прочесть в ближайшие дни.
– Какие проповеди?
– В них ты скажешь людям то, что давно накопилось в твоей душе и теперь рвется наружу. Накопилось в твоей душе много любопытного. Например, совсем недавно ты уяснил, что Советы тянут горца за уши из темных ущелий к свету новой жизни. Баркал[4] 4
Баркал – спасибо (чеч.).
[Закрыть] им за это.
– Ты шутишь, Осман?
– Я сегодня серьезен, как никогда. И учти, твои новые проповеди будут слушать новые телохранители. Им прекрасно известно, что накопилось у тебя в душе нового по отношению к Советам.
– Меня проклянут... от меня откажутся старейшие народа!
– Ты исполнишь свой долг перед халифатом. Еще более велик твой долг передо мной. И он будет уменьшаться с каждым мусульманином, ставшим моим мюридом. Чем большее число их придет ко мне, тем надежнее будет твое положение в этом мире, здесь прямая зависимость, Магомед. Я подскажу тебе один из способов, как сделать приток мюридов полноводным. На моем пальце кольцо Реуф-бея. Можешь пустить об этом хабар. Слух скользнет по аулам, но никто не должен знать, какой сквозняк занес его в ухо горцу. Я буду держать, кольцо на виду, когда стану принимать тоба у мюридов. И последнее: ты разослал в поиски людей с образцами камней?
– Несколько дней назад.
– И никто еще не вернулся?
– Прошло мало времени.
– Магомед... пышный и затурканный мой соратник... если кто-нибудь из них найдет месторождения руды – с тебя спадут все оковы, что висят на тебе с этого дня. Я вижу: это мало вдохновляет тебя... ты даже не встрепенулся. Ты неисправимо испорченный взяточник, Магомед, стараешься получить взятку даже с грабителя, который угрожает твоей жизни. Ну что ж, последовательность, даже взяточника, имеет право на уважение. Смотри сюда.
Митцинский приподнял край ковра. В маленькой нише, утопленной в стене, стоял квадратный небольшой сейф. Митцинский набрал шифр. Крышка сейфа пружинисто подпрыгнула, и он запустил туда руку.
В ладони Митцинского колюче искрились бриллианты, тусклой яичной желтизной блестело золото. Мулла перевел дыхание, не в силах оторвать взгляд от сокровищ.
– Ты разительно помолодел, мулла. Я был прав с моей идеей телохранителей: тебя нельзя оставлять наедине с собственной алчностью. Ну-с, полюбовались, пора и подвести итоги.
Я поделюсь с тобой вот этим, если твои люди обнаружат месторождения руды, поделюсь достаточно щедро. Теперь иди.
Митцинский стоял на крыльце. Зачарованным хороводом текли над головой созвездия. Великая тишина объяла горы. Ее не в силах были разрушить ни звон сверчков, ни сонный перебрех аульских волкодавов. Глаза привыкли к густому сумраку, пронизанному алмазным блеском звезд.
Слабо светилось квадратное оконце в конце дома, едва слышно доносился плеск воды. В ванной купалась Фариза.
В углу двора, под навесом шевельнулась громоздкая тень, отчетливо скрипнул столб, подпиравший навес. Митцинский вздрогнул от неожиданности. Присмотрелся, разглядел массивную фигуру Ахмедхана. Он стоял спиной к крыльцу, смотрел на окошко ванной.
Все понял Митцинский обостренным чутьем, будто рукой прикоснулся к тоскующей, раскаленной страсти мюрида: за стеклом окна трепетало в струях воды обнаженное тело сестры.
Вспомнился образ: далекая, недоступная Рут, сияющая в комнате следователя Митцинского... она же, падающая из-под купола к жестким ребрам ступеней... она, возникшая в дверном проеме за спиной маленького Быкова.
Содрогаясь от нежности, уткнулся лбом Митцинский в резной столб крыльца. Болезненно, гулко колотилось сердце. Что бы он отдал за право иметь ее здесь сейчас... дело свое? Может быть... может быть! Милая, хрупкая, неодолимо сильная – и сотрудник ЧК? Враг? Сонюшка Рут – враг?! И эту, единственную, прибрали к рукам Советы, ничего не оставив из прежней радости, прибрали последнее, что светилось в его жизни!
Он рванул ворот халата, крикнул:
– Ахмедхан!
Ахмедхан оттолкнулся от столба, слепо выставил руки, медведем побрел к столбу, о который студил лоб хозяин.
– Хочешь Фаризу в жены? – простонал Митцинский.
Ахмедхан молчал. Корчилось в несбыточном вожделении громадное тело.
– Это надо заслужить!
– Говори, Осман!
– Возьмешь деньги... много денег, седлай коня и объявляй войну Советам. Режь! Жги! Стреляй, дави, как саранчу!
– Говори, хозяин! – умолял Ахмедхан.
– Организуй верных людей из моих мюридов, плати им... пусть перережут все тропы, ведущие в горы, по ним идет продовольствие и товары от Советов. Истребляй их, как диких кабанов, топчущих наши посевы, Найди Челокаева, помогай ему. Чем больше я услышу вестей о твоих делах, тем скорее ты получишь Фаризу. Имя свое в делах не открывай. Для всех ты призрак.
– Все, Осман?
– Запомни главное: вся кровь и гной, которые ты выдавишь из Советов, должны вытечь за пределами нашего района, Твои границы – Гудермес и Грозный. Резвись там. Здесь мне нужна тишина. Все понял? Тогда Фариза будет твоя.
– Я иду, Осман! – Сгусток тьмы, пахнув горячим ветром, растаял в ночи. Всхрапнул, тревожно ударил копытом в конюшне жеребец Ахмедхана, приглушенно звякнула уздечка.
Митцинский метнулся в дом, извлек, не считая, из ящика стола пачку денег, вернулся на крыльцо.
Скрипнули ворота конюшни, дробно стукнули копыта о порог. Всадник возник у крыльца, заслонил полнеба.
– Возьми, – Митцинский протянул во тьму пухлую пачку.
Ее выхватила жесткая рука:
– Ты услышишь обо мне, Осман. Это я стрелял в Бичаева. Живучий оказался. Припиши его к тем, к кому я иду, второй раз не промахнусь.
28
К ночи Абу стал снаряжать патроны к ружью. За черными окнами пробуждался ветер, начинал повизгивать на чердаке, всхрапывал в трубе, бил мягкой лапой по стеклам.
По сакле шастали сквозняки. Пламя лампы пугливо трепыхалось в плену закопченного стекла, тень от Абу шарахалась по стенам. Руслан качал подвешенную к потолку люльку, следил за руками отца. Мадина через силу двигалась, накрывала на стол. Вчера у нее пропало молоко – и маленькую Яхью кормили буйволиным.
Абу покосился на стену. Там висела новая папаха. Крутые завитки вспыхивали ржаным блеском.
Мадина ходила из кухни в кунацкую, скорбно поджав губы. Абу, сдерживая дрожь, глубоко вздохнул. Пронзительно, мерно скрипела люлька, упорно молчала жена. Абу не вытерпел, повернулся, тяжело спросил:
– О чем молчишь?
Мадина накрывала на стол, плечи согнуло горе. Тени густо лежали под глазами. Она всегда и все знала, ей не требовались слова.
– Иди сюда, – позвал Абу.
Мадина подошла. Абу ковырнул ножом пыж, высыпал порох на ладонь. Пули в патроне не было:
– Смотри. Будет один грохот. Больше ничего.
У жены задрожали губы:
– У тебя грохот, у других смерть. Там женщины, дети, такие, как твои.
– Одевайся, иди скажи Хамзату, Асхабу, что Абу отказывается от налета. Тебе уже не нужен отец для детей?
– Страх выпил у меня молоко. Его не осталось для младшей. – Глаза жены – два черных провала – смотрели на мужа не мигая. Родниковыми каплями сочились по щекам слезы.
Руслан отдернул руку от люльки. Одолевали жалость, гнев. Если бы она знала, как нелегко отцу. Смотрел на мать исподлобья:
– Ты жена абрека, нана. Сколько можно лить слезы?
Абу повернулся, долго смотрел на сына. Ну вот, пятый в семье обрел мужской голос. Это событие в горах, когда сын начинает говорить по-мужски. Лишь бы голос со временем не стал собачьим лаем.
Встал, повернул сына к себе лицом:
– Когда щенку не хватает молока, он кусает сосцы матери. Ты разве собачьей породы? Не хочу тебя сегодня видеть. Иди к Ца. Поможешь ему перекрыть крышу.
Мадина встрепенулась:
– Куда?! Ночь на дворе!
– Пусть идет!
Руслан поднялся, выбежал в одной рубахе. Скрипнула люлька, Жалобно, слабо подала голос младшая.
На крыльце раздались шаги. Стукнули в дверь. Застучали погромче. Абу напрягся: кого принесло?
Стучали хорошо: незло. Он встал, вышел в коридор, открыл дверь. Темный проем пахнул в лицо холодным ночным ветром, на пороге встала высокая, сутулая фигура. Человек шагнул в коридор, сказал усталым, сиплым шепотом:
– Прости, что поздно потревожили. Дело есть.
Абу отступил, пропуская гостя в комнату, узнал председателя Гелани, обрадовался – гость из тех, что заносят ночью в дом тепло ушедшего дня. За спиной Гелани стояли двое. Абу присмотрелся: Султан Бичаев и Курейш.
– Заходите. Хорошо сделали, что пришли.
«Пришли трое – разные люди. Если дело свело их вместе, – значит, интересное дело».
Проводил гостей в саклю, взял из-под топчана нож, направился во двор.
– Абу, – остановил его Гелани, – положи нож на место. Подари жизнь твоей живности, мы по делу пришли, время не терпит.
– У вас нет времени подождать, пока сварятся три курицы? – удивился Абу. – Гелани, не отнимай у меня удовольствия угостить вас как положено, вы не частые гости в моем доме.
...Мадина разделывала на кухне кур. Абу сидел, ждал, когда заговорят гости. Гелани морщил лоб, думал, с чего начать. Начал с известного всему аулу.
– В Султана стреляли. – Подумал, продолжил: – До этого убили нашего первого председателя Хасана. Теперь охотятся за мной. Пришло время говорить об этом то, что думаем. Или отмолчимся? Если хочешь молчать – мы уйдем.
– Будем говорить. Самое время поговорить об этом, – сказал Абу.
Облегченно передохнул, задвигался Султан, под бешметом белела через грудь полотняная полоса повязки.
Сидел он на корточках, прислонившись к стене, – давала о себе знать и старая рана. Курейш поморгал маленькими глазками, спросил бесхитростно, как шило в лоб воткнул:
– Хамзат и Асхаб приходили, сказали, идти в налет. Я отказался. Ты пойдешь?
Восхитился Абу, захотелось ему погладить человека с белесыми ресницами по голове. Когда ломают робкую свою натуру – от этого слома всегда хорошо пахнет, ибо не любили отказов два аульских волка: Хамзат и Асхаб.
Султан и Гелани ждали ответа терпеливо и долго.
– Я клятву давал, из нас троих я один давал клятву, – наконец сказал Абу.
– Знаем, – прикрыл глаза Гелани, отвалился к стене, худущий, вымученный. – Поэтому пришли. Я давно знаю тебя, Абу, братьев твоих знаю. Одно могу сказать – хорошее племя пустили по земле твои дед и отец. Теперь надо задуматься: в какую сторону идти этому племени. Скажи, Абу, новая власть душит тебя налогами?
– Мне достаточно остается до нового урожая.
– Она ставит тебе на постой солдат?
– Ни одного еще не было.
– Кто-нибудь из власти кричал на тебя, грозил тюрьмой, пока я хожу в председателях?
– Не было этого.
– Подумай и скажи, Абу, мог ли раньше бедняк Гелани стать во главе аульского Совета, распределять налог, решать важные для аула дела?
«Зачем ты меня уговариваешь, Гелани, – думал свою думу Абу, – доказываешь, что снег белый, а не черный... я давно увидел это своими глазами, председатель, и сам докажу любому то, что увидел и понял».
– Ты все правильно сказал, Гелани, мне нечем возразить.
– Тогда не ходи завтра в налет, – угрюмо попросил Гелани. – Я не хочу арестовывать тебя и не могу донести о тебе. Могу только просить: не ходи.
Султан судорожно дернул раненым плечом, скривился от боли. Курейш, приоткрыв рот, восхищенно чмокнул: как говорит председатель, а? Как говорит?!
«Что она там копается?! – изнывал Абу. – Подавай этих проклятых кур, выручи!»
– Ты скоро там? – не выдержав, крикнул в полуоткрытую дверь на кухню.
– Еще варится, скоро принесу, – недоуменно отозвалась Мадина.
И опять стали они ждать – каждый свое. Не отмолчаться – понял Абу. Надо отвечать.
– Что изменится, если я не пойду? Другие пойдут.
– Султан хорошо поработал на жеребце начальника ЧК. Восемь человек отказались. Остальные выжидают.
– Чего.
– Как решишь ты.
– Если я не пойду...
– Хамзат и Асхаб останутся одни.
– Останутся два бешеных волка и станут кусать всех подряд, – тяжело усмехнулся Абу.
– С двумя как-нибудь справимся, – надтреснутым голосом сказал Гелани. Прозвенела в нем ярая ненависть, и стало ясно всем, что тесно на земле этим троим.
«Не могу я тебе сказать всего, – мучился между тем Абу, – не имею права сказать про то, ради чего иду в налет. Выживут в ауле два бешеных волка – если я завтра не пойду в налет. А их надо ловить в капкан в налете».
– Дай мне подумать, Гелани, – попросил он. Крикнул в кухню совсем уже сердито: – Мадина, давай то, что есть! Неси на стол зелень, хлеб неси! – Боялся, что уйдут гости, не отведав его пищи. У него хватало неприятностей, чтобы добавлять к ним отказ Гелани от еды.
На столе появились редиска с чуреком, зелень, холодная кукурузная мамалыга. Рядом исходили паром, остывали куриные тушки.
Гелани отвел взгляд от еды. На худой шее судорожно дернулся кадык.
– Думаешь? – спросил у Абу.
– Думаю.
– Это у тебя хорошо получается, – насмешливо похвалил Гелани, – красиво думаешь. Может, и мою голову заодно разгрузишь? Подумай, как соль, керосин, спички, обувь для села у ревкома выпросить, как мост через ущелье протянуть, откуда трактор взять, чтобы склон горы Митцинского вспахать, быки ведь не потянут в гору, как его верного пса Ахмедхана утихомирить – есть хабар, что это он в Султана стрелял. И еще придумай, где мне ночь скоротать, чтобы утром живым подняться.
Могу еще заботами наделить: для чего нужна Митцинскому эта орава мюридов? Каждый день стадо в полсотни голов обрабатывает, тоба на верность у каждого берет, этих клятв у нас в ауле развелось теперь, что конского навоза в нечищеной конюшне. Каждый хоть одной клятвой да опорожнится, одни – перед Митцинским, другие – перед Хамзатом и Асхабом.
Сидел Абу, наливался жгучим стыдом. Кусали слова председателя в самое сердце, а отвечать было нечего – изнывала председательская голова заботами аула, о людях гудели думы его натруженным медоносным роем. И тут, как ни вертись, а собственные думы – о налете – копошились в голове Абу бесплотными трутнями.
– Не сердись, Гелани, – сказал наконец Абу, – я пойду в налет. Так надо.
– Кому? – спросил Гелани.
– Нам всем.
– Я, наверно, поглупел, – вертел головой председатель, морщился, – никак не пойму, зачем аулу ваша пальба, слезы и проклятия людей на головы чеченцев, хоть режь меня тупым кинжалом – не пойму я этого. Но раз ты говоришь надо – иди. Сам посуди, если не поверим – остается назвать тебя трусом и вруном. Не можем мы тебя так называть, Абу. Спасибо за ужин. Горькая будет курица. Наверно, желчь разлилась. Не пойму, где – в ней или во мне.
Поднялся, вышел.
– Не обижайся на него, – хрипло каркнул Султан.
И хотя ревел и пенился ток крови в ушах Абу, хватало еще сил удивиться: «Что у Султана с голосом? Как ворон каркает».
Вышли гости. На низком столике лежали куриные тушки. Желчь разлилась в воздухе, правильно подметил председатель.