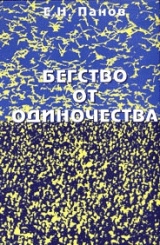
Текст книги "Бегство от одиночества"
Автор книги: Евгений Панов
Жанр:
Биология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 40 страниц)

Рис. 12.27. Обмен пищей у термитов макротермес. Мелкий рабочий кормит крупного солдата.
Вероятно, посредством подобного эстафетного распространения феромонов регулируется и численность солдат у термитов. Когда оставившие родительский кров крылатые самка и самец сочетаются браком и основывают собственную семью, первое поколение выращенных ими личинок дает два-три десятка псевдоэргат и одного-единственного солдата. В пору младенчества общины появление очередного представителя касты воинов возможно лишь в случае гибели первого новобранца. Позже, когда численность семьи заметно увеличится, появится возможность для содержания более внушительной армии. Однако доля солдат в составе общины всегда остается довольно скромной. У желтошеего термита, например, доля вооруженных мощными челюстями воинов не превышает обычно 4–5 процентов от общего контингента обитателей гнезда. Когда ученые изымали из семьи часть солдат, их количество спустя некоторое время восстанавливалось в первоначальных пределах. Эти опыты позволяют допустить, что солдаты, как и члены царской пары, выделяют некий феромон, противодействующий дальнейшему росту «вооруженных сил» общины. Подобно индивидам, экстренно заменяющим гибнущих монархов, солдаты развиваются из личинок старших возрастов, псевдоэргат и нимф, но происходит это, как мы видим, значительно реже, чем можно было бы ожидать. Интересно, что сходную картину ученые обнаружили и у некоторых видов муравьев, в общинах которых присутствует каста солдат. К примеру, у знакомого уже нам муравья феидолии солдаты также сравнительно немногочисленны, составляя, всего лишь около 10 процентов от общего количества членов общины.
Многое еще предстоит узнать ученым, прежде чем перед ними падет завеса всех тайн, скрывающая от нас закулисные будни пчел, муравьев и термитов. Одна из главных загадок состоит в том, как именно удается огромному коллективу, состоящему из многих тысяч насекомых, поддерживать такое соотношение в числе ремесленников разного профиля и представителей разных каст, которое гармонически соответствует потребностям общины в ее повседневных заботах и в постоянной борьбе за выживание. О том, что возможность такого саморегулирования не миф, а реальность, свидетельствуют сопоставления состава разных семей в пределах того или иного вида социальных насекомых. Приведу лишь один пример. Изучая состав семей большого закаспийского термита, ученые из Московского университета Д. П. Жужиков и К. С. Шатов оценили возрастную и кастовую принадлежность 87 тысяч особей, принадлежащих к 7 общинам Соотношение в численности разных категорий индивидов во всех семьях оказалось весьма сходным. Наиболее многочисленными всюду были личинки, доля которых в разных семьях составляла от 49 до 71 %. Второе место занимали рабочие (28–47 процента), третье – нимфы (0,3–4,2 %, в среднем, 1,6 %).
Самая малочисленная категория особей была представлена солдатами (0,4–2,8 %, в среднем, 1,1 %).
Прослеженная нами способность общины термитов и других общественных насекомых стихийно поддерживать состав исполнителей разных социальных ролей на некоем определенном, стабильном уровне (можно думать – наиболее соответствующем экономике коллективной жизни у того или иного вида) – явление, пожалуй, ничуть не менее, но, возможно, еще более замечательное, чем все описанные в этой главе способности этих существ к разнообразной созидательной деятельности: к строительству, земледелию, скотоводству и т. д. Вероятно, именно эта способность многотысячного содружества несмышленых созданий к саморегуляции своего состава и делает его истинным социальным организмом, столь напоминающим нам человеческое общество. Многочисленные параллели напрашиваются здесь сами собой, в частности, с той сферой жизни людей, которую социологи называют профессиональной стратификацией. Уже давно было замечено, что соотношения в числе представителей разных профессий остаются в каждой данной стране более или менее постоянным на протяжении десятилетий. Например, в США в 1850–1860 годах на каждый миллион населения приходилось примерно 80 000 фермеров, около 1700–1800 врачей и 1100–1200 священников. Спустя 60 лет, в 1920 году, эти цифры составляли соответственно 60 000, 1400 и 1200, то есть степень различий между разными периодами вполне сопоставима с той, какую мы обнаруживаем при сравнении разных общин у одного и того же вида термитов.
Впрочем, изучая законы профессиональной стратификации в человеческом обществе, социологи подметили и другую любопытную особенность: в течение сравнительно короткого времени какие-то специальности могут практически исчезнуть, но при этом появляются новые, которые еще совсем недавно были в диковинку либо вообще отсутствовали. В тех же североамериканских Соединенных Штатах число колесных мастеров на 1 млн населения уменьшилось за период с 1850 по 1920 год с 2700 до 35, а количество водопроводчиков возросло в те же годы с 80 до 2000. Такая профессия, как водители автомашин, вообще не входила в статистику до 1900 года включительно. В 1910 году водителей было уже 500 на 1 млн человек, а спустя всего лишь 10 лет – уже 3000.
Сказанное рисует нам лишь одно из множества принципиальных различий между человеческим обществом и общиной социальных насекомых. Общество – система в высшей степени динамичная. С обретением людьми все новых и новых навыков социальная среда непрерывно меняется, возникают совершенно новые потребности, порождающие и невиданные ранее способы их удовлетворения. Структура сообщества насекомых, напротив, в высшей степени консервативна, она сохраняет основные черты своей организации на протяжении сотен тысяч, а то и миллионов лет. Вот лишь один любопытный пример. Во время экспедиции известного антрополога Р. Лики, предпринятой для поисков следов пребывания предчеловека в Западной Экваториальной Африке, были случайно найдены неплохо сохранившиеся фрагменты гнезда муравьев-портных: кусочки окаменевших листьев, около 200 окаменевших куколок и множество останков рабочих особей разных каст. Ученые утверждают, что гнездо это было выстроено насекомыми не менее 30 млн лет тому назад. И что же? При сравнении этого замечательного научного трофея с тем, что известно натуралистам о современных муравьях-портных, оказалось, что за этот колоссальный промежуток времени почти ничего не изменилось ни в строительном мастерстве этих созданий, ни в кастовом составе общины, ни в строении куколок и взрослых муравьев!
Человек Разумный начал осваивать нашу планету всего лишь около 10 тысяч лет тому назад, успел за это время стать ее полновластным хозяином, построить города-гиганты, расщепить атом, освоить космос, слетать на Луну и уничтожить за время бесконечных кровопролитных войн целые Цивилизации и мириады себе подобных. Как пишет известный немецкий философ Эрих Фромм, «история цивилизации от разрушений Карфагена и Иерусалима до разрушения Дрездена, Хиросимы и уничтожения людей, земли и деревьев Вьетнама – это трагический документ садизма и жажды разрушения». Что же делает человека, столь могущественным в его созидательной и разрушительной деятельности, что заставляет людей в этом стремительном, все ускоряющемся движении в неведомое будущее быть столь жестокими и безответственными по отношению к представителям своего собственного биологического вида? Возможные причины этого, лежащие в биологических свойствах вида Homo sapiensи в особенностях социальной организации человеческого общества на разных стадиях его эволюции, мы попытаемся обсудить в следующей главе.
13. На острие социальной эволюции: Я – Мы – Они
Человек отделился от природы; став «индивидом», он сделал первый шаг к тому, чтобы стать человеком.
Э. Фромм. Бегство от свободы
Граждане, члены общества, находятся в том же состоянии, что и клетки организма. Привычка, обслуживаемая умом и воображением, внедряет среди них дисциплину, которая, благодаря устанавливаемой ею солидарности между индивидами, отдаленно имитирует единство организма…
А. Бергсон. Два источника морали и религии
Действия, достойные самого сурового осуждения, столь часто оправдываются успехом, что граница между дозволенным и запретным, справедливым и несправедливым теперь совершенно неустойчива и, кажется, может перемещаться индивидами почти произвольно.
Э. Дюркгейм. О разделении общественного труда
Галактика этносов, галактика культур
Я мыслю, следовательно, я существую…
Анархия, власть, государство
Намбиквара – охотники и собиратели
Опирайся на родных, остерегайся всех иных
Мир и война
И еще немного о сегментарных обществах
Неравенство, стратификация, касты
«Век толп» и массовое общество

Старейшины племени вальбири натирают жиром священные камни, сидя под ритуальными изображениями на скалах (Австралия).
Лет эдак 15–20 тому назад меня пригласили прочесть лекцию о социальном поведении животных в одном из биологических институтов Москвы. Тема эта в то время у нас в стране была для многих новой, и присутствующие буквально засыпали меня вопросами. Подробности дискуссии давно уже стерлись из моей памяти, но один из вопросов я запомнил навсегда. «Но почему же, – воскликнул маститый седовласый зоолог, – вы называете животных „социальными“? У них же нет денег!..»
Читатель, вероятно, знает, что появление денежного обмена – это сравнительно недавнее событие в многовековой истории человечества и что даже по сию пору существует немало «первобытных» культур, чуждых самой идее звонкого металла. Так или иначе обладание деньгами отнюдь не может служить существенным рубежом для разграничения социальности у животных и у человека. Разумеется, обмен в самых разнообразных его формах (женщинами, продуктами промысла и труда и т. д.) – черта, характеризующая человека как существо высокосоциальное. Однако понимание всех тех преимуществ, которые открывает обмен, могло родиться у наших далеких предков только на сравнительно высокой стадии их интеллектуального и культурного развития. Немало поколений сменилось, прежде чем вполне привычными стали понятия «мое» и «твое» и тем самым оформилось представление о собственности. А этому на заре становления человека по необходимости должно было предшествовать осознанное отделение индивида как личности от своих собратьев и соплеменников – тот самый рубеж, когда рождаются категории «я» и «ты», «мы» и «они», и группировка приматов-гоминид перерастает в человеческое общество. Именно это имел в виду выдающийся французский социолог Эмиль Дюркгейм, говоря, что коллективная жизнь людей, вопреки кажущейся самоочевидности, не возникла из индивидуальной, а, напротив, последняя возникла из первой. Именно здесь, по всей видимости, и коренится фундаментальное отличие социальности человека от всевозможных форм коллективизма у животных. В последующих разделах этой главы я попытаюсь убедительно обосновать этот кажущийся парадоксальным на первый взгляд вывод Э. Дюркгейма.
Главенствующая роль мыслящего, самоосознающего индивида как творца материальной и духовной культуры, в координатах которой только и возможно существования человеческого общества, долгое время ускользала от внимания ученых, занятых вопросом о путях социальной эволюции, Именно этим обстоятельством можно объяснить многочисленные попытки поставить знак равенства между законами, управляющими жизнью социума животных, с одной стороны, и человеческого общества – с другой. Особенно завораживала некоторых мыслителей картина необычайной сложности и целесообразности в организации общин социальных насекомых, таких, в частности, как пчелы, муравьи и термиты, которым посвящена предыдущая глава книги. Казалось, что отличия этих общин от нашего собственного социума с его разветвленными механизмами производства, накопления материальных благ, административного и политического управления – это всего лишь отличие в степени, но не в качестве. Отсюда и многочисленные попытки использовать при описании сообщества общественных насекомых такие понятия, которые применимы лишь для описания социальных структур и установлений человека, возникших к тому же на сравнительно поздних этапах эволюции человеческих обществ (рис. 13.01.).

Рис. 13.1. Иллюстрация из книги Ч. Бутлера «Женская монархия» (1623), посвященной королеве Генриетте Марии, супруге Карла II. Так по аналогии с человеческим обществом представляли себе в XVII веке устройство общины медоносных пчел.
Вот, к примеру, в каких выражениях в конце XIX века описывал немецкий естествоиспытатель Людвиг Бюхнер организацию общины медоносных пчел: «Возвращаясь еще раз к государственному устройству пчел, приходится признать почти достигнутый идеал благоустроенного, как в политическом, так и в социальном смысле, государства. У них нет постоянного войска – как у других родственных им насекомых, а защита государства… основана на всеобщем ополчении граждан, подобно тому, как граждане средневековых городов были в одно и то же время работниками и воинами. Но внутри все держится исключительно трудом, самоотверженным трудом ради общего блага <…> в труде пчелы достигли наивысшего коммунистического идеала. Труд вполне свободен, доброволен и непринудителен. <…> Нельзя также особенно упрекать наших пчел-демократов за их монархический режим, если принять в расчет, что царица находится под присмотром и в зависимости от работниц и что сфера ее власти не может даже сравниться с полномочиями президента людских республик».
Вероятно, сегодня мало кто согласится с правомерностью использования при описании сообщества пчел таких выражений, как «государственное устройство», «демократия», «монархический режим», «власть», «коммунистический идеал», «ополчение граждан». Все эти термины допустимы в данном случае лишь в качестве метафоры, но ни в какой мере не оправданны, если мы хотим разобраться в истинных принципах строения и организации пчелиной семьи. Только в переносном, метафорическом смысле возможно по отношению к пчелам и употребление слова «труд», ибо это понятие предполагает рациональную, сознательно планируемую деятельность в отличие от спонтанной активности насекомых, направляемой главным образом мощными, но неосознаваемыми импульсами инстинкта. Так или иначе, если мы задались целью уяснить себе, в чем же социальная организация у животных, прошедших перед нашим взглядом в этой книге (и, в частности, у общественных насекомых, создающих подобие материальной культуры человека), принципиально отличается от социальности рода человеческого, нам придется в этой главе познакомиться с бытующим сегодня среди ученых и философов пониманием таких категорий, как «общество», «культура», «государство», а также целого ряда других, также имеющих немаловажное значение для обсуждаемой темы. Но прежде чем мы займемся этим, стоит вплотную задуматься над тем, что же мы имеем в виду, когда пытаемся рассуждать о «человеке» и «человечестве» в их противопоставлении миру животных.
Галактика этносов, галактика культур
Согласно преданиям африканского народа йоруба, руками которого на территории нынешней Нигерии еще в XII–XIII веках была создана впечатляющая цивилизация, возникновение всего сущего на Земле произошло следующим образом. Одуа, божественный предок первой династии йоруба, спустившись с небес, поместил на поверхность воды немного земли и курицу. Копаясь в земле, курица разбросала ее в разные стороны. Вот так вокруг Ифе, древнего города-государства йоруба, и возник мир.
Этот замечательный в своей первобытной наивности миф может служить прекрасной иллюстрацией явления, именуемого этноцентризмом. Суть этноцентризма в том, что человек вольно или невольно помещает общность, к которой принадлежит сам, в центр мировых событий. К сожалению, не чужды этому заблуждению были и многие европейские мыслители, пытавшиеся на протяжении веков уяснить себе сущность социальной природы человека – в его отличиях от животных, – ориентируясь целиком или преимущественно на образ жизни, сложившийся в рамках так называемой европейской цивилизации и ее великих соседей-предшественников (культур Месопотамии, Ближнего Востока, Древнего Египта). И хотя материал, поставляемый как историей, так и сегодняшним днем великих цивилизаций Евразии, поистине огромен, привычка рассматривать природу человека через очки «европоцентризма», вне всякого сомнения, катастрофически сужает поле нашего зрения.
Мир Человека Разумного – того биологического вида, к которому принадлежим мы с вами, – претерпел поистине не поддающуюся воображению эволюцию во времени и в пространстве. Время отделения от общего ствола приматов, так называемых гоминид – существ человекоподобного облика с поступательно развивающимися способностями к мышления, овладению языком и созданию материальной культуры, теряется во тьме далекого прошлого. Ученые предполагают, что процесс «очеловечивания» наших предков-приматов мог начаться в период между 20 и 12 миллионами лет тому назад. Изготовлять и использовать достаточно разнообразные каменные орудия научились уже существа, которые из-за резких анатомических отличий от людей современного типа не удостоились чести быть причисленными к поколениям Человека Разумного. Речь идет как минимум о трех давно вымерших видах гоминид: о Homo habilis (человеке умелом), Homo erectus (человеке прямоходячем, куда относится и хорошо известный всем питекантроп) и Homo primigenius (он же – Homo neandertalensis,или попросту неандерталец), морфологически очень близком к современному человеку. Эпохи существования всех этих гоминид охватывают гигантский промежуток времени между примерно 3,7 миллионами и 50–40 тысячами лет тому назад (все датировки ориентировочны из-за разновременности хода событий в разных регионах).
Время появления на арене событий человека современного типа, уже, бесспорно, принадлежащего к нашему с вами виду Homo sapiens,ученые относят к периоду порядка 40 тысяч лет тому назад. Этот наш далекий предок мог унаследовать от своего предшественника-неандертальца развитую индустрию каменных орудий, другие практические навыки (например, умение добывать огонь и строить примитивные временные жилища), а также определенные зачатки интеллектуальной культуры: нарождающийся язык, обряды погребения мертвых, ритуальные действа, лежащие в основе зачатков изобразительного искусства (рис. 13.2). В археологической летописи время появления Человека Разумного совпадает в большей или меньшей степени с эпохой верхнего палеолита (то есть с поздним периодом древнего каменного века). Судя по всему, племена древних людей-неоантропов, занимавшие уже к этому моменту обширные пространства Африки, Европы и Азии, начинают активно расселяться в незанятые еще регионы. В области Берингии они с Чукотки проникают в Северную Америку, а из Юго-Восточной Азии – на Австралийский континент.

Рис. 13.2.
По мере расселения в новые места обитания усиливается процесс расхождения (дивергенции) неоантропов в плане их морфологического облика и культурных традиций. Население Земли становится все более неоднородным, распадаясь на отдельные расы, внутри каждой из которых формируются более или менее самостоятельные группировки населения – так называемые этносы с их разнообразной и уникальной для каждого этноса материальной и духовной культурой. О реальности этого процесса быстрой дивергенции культур говорит тот факт, что уже в среднем и верхнем (позднем) палеолите в одной только Африке существовало не менее 15 традиций обработки каменных орудий. Эти региональные традиции в то время развивались независимо друг от друга в северных, южных, западных и восточных районах Африканского континента. Различия между отдельными этносами в сфере приобретения прогрессивных практических навыков еще более усилились в последующие периоды эволюции этнокультурных группировок. Часть из них уже на протяжении неолита (нового каменного века), между 10 и 5 тысячами лет тому назад, далеко продвинулись по пути прогресса, не только освоив гончарное мастерство, но и постигнув первые секреты земледелия, скотоводства и архитектуры, знаменующей собой, кстати сказать, переход к производству продуктов жизнеобеспечения в условиях постоянной оседлости. Что касается многих других этносов, то они оказались в своем развитии несравненно более консервативными. И по сей день на нашей планете существует немало этносов, сохранивших на протяжении тысячелетий своей истории приверженность культурным традициям каменного века. В дальнейшем я еще не раз буду останавливаться на этих удивительных реликтах, словно бы законсервировавших в первозданном виде раннее детство человечества.
Уже из того немногого, что было сказано, можно в первом приближении представить себе, какие масштабы должны иметь результаты дивергенции человеческих этносов и привязанных к ним культур (включая и особенности социальной организации) на протяжении не менее чем 400 столетий. Разнообразие человеческих культур, которое сложилось ко второй половине XX века, можно попытаться оценить на основе подсчета числа народов, обитающих сегодня на нашей планете. Народом (или этносом) я буду называть исторически сложившуюся на определенной территории устойчивую совокупность людей, обладающую единым языком, общими особенностями культуры и психики, а также общим самосознанием (разделяемым всеми осознанием своего единства и отличия от других подобных совокупностей), которое зафиксировано 6 самоназвании данной совокупности.Согласно фундаментальному труду С. И. Брука «Население мира», откуда с некоторыми изменениями заимствовано только что приведенное определение, к моменту выхода справочника в 1986 году список достаточно крупных этносов включал в себя 1328 наименований. Однако помимо этих общностей существует великое множество других, которые можно было бы обозначить в качестве «микроэтносов». Например, в Австралии к концу XVIII веке существовало свыше 700 племен, из которых к настоящему времени сохранилось от 200 до 500 (эти расхождения в последних цифрах обусловлены разногласиями между учеными в том плане, что именно считать самостоятельным языком и что – разными диалектами одного и того же языка).
Похожая ситуация складывается и в ряде других уголков нашей планеты, где сохранились своего рода заповедники многовековой дивергенции микроэтносов. Так, на одном лишь острове Новая Гвинея науке известно сейчас около 750 этносов и микроэтносов, из которых только 4 включают в себя более 100 тысяч человек каждый, а около 700 состоят в среднем из 1,5 тысячи человек. Языковые отличия между микроэтносами, населяющими даже соседние деревни, сплошь и рядом весьма велики. Как писал Н. Н. Миклухо-Маклай в 70-х годах XIX века, он постоянно нуждался в переводчиках, посещая деревни в радиусе до 20–30 км от своей резиденции на Берегу Маклая, не говоря уж об экскурсиях в более удаленные деревни. На Филиппинских островах, с площадью суши чуть меньшей, чем у современной Германии, насчитывается примерно 75 этносов. Из них около 50 занимают малодоступные для исследователей горные джунгли. Неудивительно поэтому, что о существовании некоторых таких микроэтносов стало известно лишь в самое последнее время. Речь идет о племенах тасадай, обнаруженных в девственных лесах о. Минданао в 1971 году, и таотбато, первая встреча которых с посланцами из нашего «большого мира» произошла в горных дебрях о. Палаван семь лет спустя, в 1978 году.
К числу территорий, сохранивших наряду с памятниками древних высокоразвитых цивилизаций (таких, как Чавин, Тиауанако, Мочика, государство инков) множество микроэтносов, чуждых современному миру, относятся обширные территории севера Южной Америки. Вот что писал в 1976 году знаток индейских культур чешский этнограф Милослав Стингл о районе, включающем в себя бассейн реки Амазонки и обширнейшую холмистую территорию Мату-Гроссу в Бразилии: «Племена, населяющие джунгли, саванны и холмы этой части Южной Америки, никому никогда не пересчитать. Даже многие из до сих пор живущих племен остаются неизвестными, анонимными под покровом бразильских джунглей и не подозревают, что их землю, их часть света посетили и покорили люди с иным цветом кожи. Мир этих племен внутриматериковой Бразилии кончается у границ их деревни. Что находится дальше, никто из них не знает».
Поистине грандиозно разнообразие лика человечества, претерпевшего многие тысячелетия этнической и культурной эволюции. По приблизительным подсчетам в настоящее время на планете существует от 4 до 5 тысяч самостоятельных этнокультурных образований. Даже при беглом взгляде на поразительную пестроту существующих ныне человеческих обществ вкупе с теми, что не выдержали испытание временем и уступили свое место другим, невольно напрашивается аналогия с космическими звездными системами. И в самом деле, и там и тут были и существуют звезды-гиганты и звезды-карлики. В процессе этногенеза одни сообщества людей со временем угасают, подобно остывающим светилам, другие набирают жизненную энергию, превращаясь из скромной группировки смертных в могущественную державу, сияющую подобно звезде первой величины на небосводе современных ей межгосударственных отношений.
Все, что известно сейчас ученым об истории человеческих взаимоотношений на нашей планете, свидетельствует о поразительной неравномерности эволюции человеческих обществ – происходило ли дело в Евразии, в Новом Свете или на Африканском континенте. Однако особую ценность для специалистов, занятых углубленным изучением сущности и главных принципов культурной и социальной дивергенции народов Земли, представляют собой некоторые районы планеты, отличающиеся поразительным разнообразием в организации человеческих обществ, а также в особенностях социального поведения людей. Позже мы побываем в нескольких таких регионах, сосредоточенных главным образом в тропическом и субтропическом поясах. Впрочем, несколько забегая вперед, хочется привести весьма емкую выдержку из статьи французского культуроведа Ж. Баландье, посвятившего себя изучению африканских обществ. Доколониальная Африка, пишет он, «…представляет собой самую необычную лабораторию, о которой только могли мечтать специалисты в области политических наук. Между обществами, организованными в бродячие группы (пигмеи и негрилли), и обществами, создавшими уже государство, существует обширный ряд политических образований. Весьма разнообразны общества с „минимальной“ властью, где равновесие создается постоянным взаимодействием между кланами и родовыми группами (линиджами) и стратегией брачных союзов. Известны более или менее сложные догосударственные общества… Традиционное государство также представлено в весьма различных обликах».
В дальнейшем я подробно остановлюсь на всех тех типах социальной организации у человека, которые Ж. Баландье бегло перечисляет в приведенном отрывке. Но прежде чем перейти к этой теме, способной захватить воображение самого отъявленного скептика, нам необходимо разобраться в возможных причинах столь необычной вариабельности социального устройства у Homo sapiensпо сравнению с тем, что мы видели у всех видов животных, прошедших перед нашими глазами в предыдущих главах этой книги.







